

(Loren R. Graham. Science. Philosophy, and human behavior in the Soviet Union)
Я закончил работу над этой книгой в 1985 г. — тогда, когда Михаил Горбачев уже стал во главе Коммунистической партии Советского Союза, но еще до того момента, когда им были инициированы реформы советской интеллектуальной и политической жизни. Сегодня, в ноябре 1989 г., когда я пишу это предисловие к русскому переводу моей книги, значение названных реформ и вызванных ими изменений предстает со всей очевидностью. В отличие от этого текст самой книги не претерпел никаких изменений, а потому некоторые замечания и наблюдения, содержащиеся в предлагаемой работе, и особенно те из них, которые имеют отношение к описанию «сегодняшней ситуации» в Советском Союзе, уже утратили свое значение. Должен, однако, сказать, что в задачу книги и не входил анализ современного состояния советской науки и философии; при написании этой работы я ставил перед собой иную цель — показать историю взаимоотношений науки и философии в Советском Союзе, начиная с 20-х годов и кончая началом 80-х годов нынешнего столетия. В связи с этим хочу отметить, что и сегодня я готов подписаться под теми оценками, которые содержатся в книге, и если бы у меня и появилась возможность что-то изменить в книге, то эти изменения были бы весьма незначительны и основывались в основном на той новой информации о советской истории, которая была опубликована за последние три-четыре года в советской печати.
Хочется одновременно выразить надежду на то, что очень скоро наступит то время, когда для «продления жизни» настоящей книги потребуются более существенные изменения. Эти изменения станут необходимыми после того, как будут опубликованы работы советских исследователей, в которых история развития советской науки и философии будет освещена более подробно и правдиво, нежели это было до сих пор. До сего времени из-за существовавших политических ограничений советские ученые были лишены возможности объективно исследовать историю собственной страны. Таким образом, зарубежные ученые (и я в их числе) вынуждены были играть особую роль в процессе изучения советской истории и писать о том, о чем советские коллеги не могли писать; стоит ли говорить, что наши усилия в этом направлении были достаточно ограниченны. Сегодня эта ситуация, которую следует охарактеризовать как ненормальную, начинает меняться. В рецензии на эту книгу, опубликованную в 1988 г. в журнале «Вопросы философии» (примеч. — См.: Ахундов М.Д., Баженов Л.Б., Игнатьев В.Н. Естествознание и философия в СССР глазами американского ученого//Вопросы философии. 1988. № 10. С. 161-168.), три советских философа отмечали, что книга содержит более полную историю взаимоотношений советской науки и философии, нежели любая другая из книг советских авторов, посвященная этой теме. Далее авторы рецензии справедливо замечают: «Хотелось бы надеяться также, что знакомство с этой книгой послужит, кроме всего прочего, своеобразным стимулом для советских философов и историков науки в их работе над созданием отечественной истории философии науки». Я тоже хочу надеяться на это, и если надежды сбудутся, то вместо настоящей книги появятся новые, написанные советскими авторами на ту же тему. Советским читателям этой книги я бы хотел сказать: «Это ваша история, и именно вы, а не кто-то другой в состоянии написать о ней наиболее полно». И в этом смысле мы все должны надеяться, что моя работа носит преходящий характер.
Изучение этой истории имеет важное значение не только для Советского Союза. Знакомство с многочисленными фактами и деталями, приводимыми в книге, позволяет поставить два очень важных вопроса, имеющих универсальное значение, — вопрос о необходимости сохранения свободы научного исследования и свободы самовыражения ученого, а также вопрос о значении философии для науки. Далее я хотел бы сказать несколько слов по названным вопросам.
На протяжении XX столетия понятие свободы научного поиска, научного исследования третировалось в Советском Союзе так, как ни в одной из стран с развитой наукой. В самом деле, трудно найти момент в истории, когда бы с учеными обращались таким образом, как это было в эпоху Сталина. В эпоху сталинизма все советские ученые испытывали на себе жесткий контроль. Многие из них оказались в тюрьме, некоторые умерли в трудовых лагерях. Судьба Николая Вавилова, выдающегося генетика, ставшего жертвой сталинизма и умершего в саратовской тюрьме в 1943 г., может служить горьким символом, олицетворяющим судьбы других ученых.
Учитывая сказанное, кажется невероятным, что советские ученые и в этих условиях смогли столько совершить. Выдающиеся достижения советских ученых как в теоретических (таких, как физика и математика), так и в прикладных областях (атомная энергетика и космические исследования) являются свидетельством силы человеческого духа, живущего в экстремальных условиях. Как американец, я испытываю чувство восхищения теми смелыми и талантливыми советскими учеными, которые в условиях деспотического правления Сталина и репрессивного характера правления его преемников смогли не только поддерживать жизнь советской науки, но и развивать ее. Но как много могли бы совершить советские ученые и инженеры за эти годы, работай они в столь же благоприятных условиях, как и их зарубежные коллеги! В то время как советские ученые страдали от ограничений, связанных с существованием жесткого контроля за их передвижением и возможностью обмена информацией, большинство их западноевропейских и американских коллег не испытывали беспокойства по этим вопросам. Хочется надеяться, что эти времена уже в прошлом.
Помимо вопроса о важности и необходимости свободы научной деятельности, обсуждаемого в книге, изложенная в ней история ставит еще один, не менее важный вопрос — вопрос о значении философии для науки. В конце главы о квантовой механике я высказываю следующее соображение:
«В процессе своих исследований ученые должны выходить за пределы физических факторов и математических методов. Такого рода теоретизирование является одной из основ научного объяснения. Ведь им приходится делать выбор среди альтернатив, которые одинаково оправданы с точки зрения математического формализма и физических фактов. И выбор этот часто основывается на философских рассмотрениях и часто имеет философские следствия».
В такие моменты — моменты выбора — ученые испытывают на себе влияние философии, которое выражается в следовании принципам объективности, реализма и материализма. Не все, но многие ученые с готовностью следуют этим принципам в своей деятельности. Традиция философского материализма восходит к досократовским временам и, вне всякого сомнения, будет существовать всегда. В Советском Союзе традиция философского материализма не исчезнет с падением значения догматически понятой теории диалектического материализма, но будет принимать более приемлемую в интеллектуальном отношении форму. Мне представляется, что философский материализм сохранит в себе некоторые черты диалектического материализма; в числе этих черт можно, в частности, назвать антиредукционизм диалектического материализма, который отличает его от материализма XIX в.
Диалектико-материалистический взгляд на природу очень близок многим ученым во всем мире. Например, известный американский физик лауреат Нобелевской премии Шелдон Глэшру так написал о себе и своих коллегах:
«Мы убеждены в том, что мир познаваем, что существуют простые правила, которым подчиняется процесс развития материи и эволюция Вселенной. Мы утверждаем также, что существуют некие вечные, объективные, социально-нейтральные и внеисторические универсальные истины и что соединение этих истин и есть то, что мы называем физической наукой. Можно установить, что законы природы носят универсальный и неизменный характер, что они не ограждены извне, не могут быть нарушены и верифицируемы... Любой субъект, наделенный разумом и находящийся в любом месте Вселенной в своих поисках объяснения структуры протона и природы возникновения суперновой, неизбежно придет к тем же логическим построениям, что и мы. Я не могу ни доказать, ни подтвердить это утверждение какими-то фактами. Я просто верю в это»
(Sheldon Glashow. We Believe That the World is Knowable//The New York Times. October 22, 1989. P. 2.).
Думается, что многие советские материалисты найдут философские принципы, лежащие в основе приведенного выше высказывания, весьма близкими с теми принципами, которые они сами разделяют и отстаивают. Наиболее умудренные из них согласятся, возможно, даже и с тем, что философский материализм представляет собой скорее разновидность «веры», разделяемой многими учеными, нежели теории, которую можно доказать. Подобное согласие по основным принципам, лежащим в основе процесса познания, которое существует между советскими учеными и их западными коллегами, создает кроме всего прочего основы для плодотворного сотрудничества и диалога между нами. Хотелось бы в связи с этим выразить надежду на то, что идеи, обсуждаемые на страницах предлагаемой вашему вниманию книги, могут также послужить делу развития подобного диалога.
Если бы я писал эту книгу сегодня, в 1989 г., то одним из соображений, которые я хотел бы пересмотреть, было бы то заключение, которое касается отношений между «онтологистами» и «эпистемологистами». Во второй главе книги я пишу о том, что в последние годы позиции онтологистов существенно укрепились.
Приход Горбачева положил начало большей открытости в духовной жизни советского общества, и теперь можно наблюдать обратную тенденцию. Так, в Институте философии АН СССР вместо отдела «диалектического материализма» создан отдел «логики и теории познания». Это изменение демонстрирует смещение акцентов в сторону эпистемологической проблематики, наблюдаемое по крайней мере в ведущем философском институте Советского Союза. Представляется также, что интерес к философии науки (будь то эпистемологического или онтологического характера) сменяется сегодня возрастающим вниманием и интересом к социальной проблематике и философии политики. Подобное смещение акцентов представляет собой естественную часть того процесса политических реформ, который идет сейчас в СССР, а потому может быть оценен как положительное явление. До прихода Горбачева советские интеллектуалы избегали анализа острых социальных и политических проблем.
Однако даже до прихода Горбачева советские ученые вели исследования сложных вопросов, связанных с проблемой интерпретации научного знания. Предлагаемая вашему вниманию книга содержит в себе историю обсуждения этих вопросов. В связи с этим хочу выразить надежду на то, что процесс преобразований, охвативший сегодня все стороны жизнедеятельности советского общества, позволит советским ученым кроме всего прочего свободно обсуждать поднимаемые в книге вопросы со своими зарубежными коллегами. Думается, что все мы только выиграем от этого.
Кембридж, Массачусетс, США 9 ноября 1989 г.
Предисловие
Советская философия науки — диалектический материализм — это целая область интеллектуальных усилий тысяч специалистов в Советском Союзе, и эти усилия остаются практически полностью вне поля зрения исследователей на Западе. Немногочисленные авторы, правда, уже анализировали дискуссии в советской науке, посвященные отдельным проблемам философии науки (таким, например, как философские вопросы биологии или психологии), и все-таки за последние 25 лет практически никто не пытался изучить в деталях проблему отношений диалектического материализма и советской науки в целом. В связи с этим хочу отметить, что попытка сделать это в настоящей книге явилась достаточно необычным и вместе с тем трудоемким делом. Пренебрежение к советской философии науки, которое наблюдается на Западе, вызывает сожаление, поскольку лишает возможности понять советскую попытку построения синтетической картины природы во всем ее многообразии. Необходимо поэтому подчеркнуть, что западные исследования, посвященные проблемам советской философии науки и упускающие из виду ее универсалистские устремления, упускают одну из важнейших ее характеристик.
Одной из причин недостатка интереса у западных исследователей к советскому диалектическому материализму является, по-видимому, предположение, что его влияние на естествознание было ограничено во времени рамками сталинского периода и носило абсолютно разрушительный характер. Поскольку наиболее образованные люди на Западе знают о тех вредных последствиях, которые имела теория диалектического материализма в форме, представленной советским агрономом Трофимом Лысенко в сталинский период, подобное предположение является обоснованным; большинство людей на Западе склонны ставить знак равенства между печальным эпизодом, связанным с лысенкоизмом, и советским диалектическим материализмом в целом. Однако сегодня, по прошествии более 30 лет со дня смерти Сталина и 20 лет со времени конца правления Лысенко в генетике, советский диалектический материализм продолжает развиваться.
Сегодня диалектический материализм разрабатывается усилиями гораздо большего числа советских авторов, нежели это было раньше; большинство из них — это, без сомнения, просто политические идеологи, однако среди этих авторов есть и весьма способные и известные в своих областях естествоиспытатели и философы. Стремление создать синтетическую картину природы не исчезло. Более того, это стремление так или иначе затрагивает каждого образованного советского гражданина. Каждый студент в каждом советском вузе изучает курс диалектического материализма, в котором дается единая картина природы, основанная на марксизме, требование изучения этого курса так же широко распространено в 1986 г., как это было в 1936 г. В середине 80-х годов Коммунистическая партия предприняла ряд шагов, направленных на повышение внимания к марксистской философии в процессе изучения естественных наук. Без учета этого обстоятельства всякая попытка понять образ мыслей представителей образованной советской элиты обречена на неудачу.
Несмотря на общее стремление создать некую единую картину природы, советские диалектические материалисты 80-х годов зачастую не согласны друг с другом; одни из них, известные как «онтологисты» (ontologists), постоянно спорят с другими, получившими название «эпистемологистов» (epistemologists), по поводу места марксизма в науке (см. подробнее гл. 2). Тем не менее диалектический материализм продолжает обладать большой интеллектуальной силой. В середине 80-х годов отмечается своего рода возрождение работ представителей «онтологизма», в которых они настаивают на том, что марксизм должен дать Объяснение как природе, так и обществу. Таким образом, распространенное на Западе убеждение, что диалектический материализм был характерен лишь для сталинского периода и со временем должен был исчезнуть, оказалось необоснованным.
Я уверен в том, что наступит время, когда роль естественных наук в идеологии русской революции и установившегося затем режима будет рассматриваться как самая необычная черта этой идеологии. Другие великие политические революции Нового времени (подобно революциям в Америке, Франции и Китае) уделяли известное внимание науке, однако ни одна из них не породила систематическую идеологию относительно физической и биологической природы, как это случилось в результате русской революции. Огромное внимание к философии природы было характерно для русского и советского марксизма на протяжении более 70 лет. Все выдающиеся советские лидеры в прошлом — Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин — изучали явления науки, писали научные статьи, в которых затрагивали самый широкий круг вопросов (начиная с физики и кончая психологией), рассматривая эти вопросы в качестве важнейших компонентов политической идеологии. Последний из числа названных лидеров — Сталин превратил этот интерес к философии науки в догматическую интерпретацию природных явлений, которая напоминала средневековую католическую систему схоластики. Со временем, после того как ушли в прошлое худшие времена сталинизма, качество советских исследований по философии науки несколько улучшилось. Неизменным осталось лишь убеждение советских исследователей в том, что марксизм должен давать объяснение как явлениям общественным, так и природным.
В настоящей книге я привожу свидетельства того, что даже в 80-е годы многие советские учебники по научным дисциплинам и научные статьи испытывают на себе влияние марксистской философии. Иногда это влияние носит характер «от противного», когда советские ученые выражают взгляды, которые можно объяснить как результат их оппозиции тому, что они рассматривают как ошибочные позиции марксизма в прошлом, иногда нет. (Это явление особенно заметно в советских работах по кибернетике, опубликованных в 60-х и начале 70-х годов, и сегодняшних работах по генетике.)
В книге я делаю вывод о том, что даже для довольно хороших советских научных работ, включающих исследования по физике, характерно влияние марксизма, и это заключение особенно трудно для понимания учеными на Западе. В то же время историки науки, привыкшие иметь дело с идеей о влиянии социальных и политических факторов на науку, могут рассматривать вышеназванный вывод как приемлемый. Именно для них, а также для представителей социологии науки я бы хотел добавить, что, хотя и разделяю взгляды «экстерналистов», считающих, что социальное окружение оказывает влияние на процесс развития науки (во всех странах), но я все же не могу согласиться с крайним выражением этой точки зрения, считающим, что наука — это исключительно «социальный институт». Болезненное возвращение советской генетики на международную арену после 1965 г. свидетельствует о том, что существует реальный мир природы и что социальные факторы, влияющие на науку, могут подчас приводить к тому, что наука отходит от описания этого реального мира и тогда требуется корректировка такого положения. Даже после того, как происходит подобная корректировка, наука неизбежно остается под влиянием социального окружения и не может поэтому описываться просто как объективное отражение природы.
Хотя я и надеюсь, что многие читатели захотят прочесть всю книгу целиком, вовсе не обязательно делать это для того, чтобы познакомиться с ролью, которую играет советская марксистская философия в той или иной области науки. Главы с 3 по 12 посвящены анализу этой роли в конкретных науках и могут читаться независимо друг от друга. В то же время я рекомендую всем читателям ознакомиться с содержанием первых двух глав, в которых дается философско-политическая информация, необходимая для понимания содержания последующих глав. После прочтения первых двух глав у физика может появиться желание обратиться к главам, посвященным проблемам квантовой механики и релятивистской физики, а у психолога, биолога или кибернетика — желание обратиться непосредственно к тем главам, в которых освещаются проблемы близких им дисциплин.
Большинство материала данной книги впервые было опубликовано в 1972 г. в книге под названием «Наука и философия в Советском Союзе» (Graham Loren R. Science and Philosophy in the Soviet Union. N. Y., 1972.).
В настоящем издании я добавил две новые главы, посвященные проблемам исследования человеческого поведения (отсюда новое название), и вновь пересмотрел содержание всех других глав, опустив устаревший материал и добавив новый. В новом издании среди авторов, анализ работ которых отсутствовал ранее, такие, как И.Т. Фролов, Е.К. Черненко, К.Е. Тарасов, С.А. Пастушный, П.В. Копнин, В.Г. Афанасьев; генетики В.П. Эфроимсон, Н.П. Дубинин, В.А. Энгельгардт; историк-этнограф Л.Н. Гумилев; психологи А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.П. Никитин; физики и астрофизики В.С. Барашенков, В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков. В настоящую книгу вошел материал, включающий работы, вышедшие до середины 1985 г. Отличительной особенностью настоящего издания является описание и анализ интересных явлений в советской философии науки, имевших место в последние 15 лет: дискуссий по поводу проблемы человеческой природы, роли наследственности и среды в формировании человеческого поведения, вопросов биоэтики, которые освещаются в 6-й и 7-й главах.
Материалы, нашедшие отражение в этой книге, основаны на результатах регулярных поездок автора в Советский Союз в течение последних 25 лет (начиная с 1960-1961 гг. и кончая последней поездкой в декабре 1985 г.). Я глубоко признателен целому ряду организаций и отдельных ученых, оказывавших мне поддержку в моих исследованиях все эти годы; среди этих организаций я хотел бы упомянуть АЙРЕКС, Госдепартамент, АН СССР, Национальную Академию наук США, Фонд Гугенхейма, Американский совет научных обществ, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет.
Как и в случае с первым изданием, я хотел бы выразить глубокую благодарность моим коллегам и друзьям за помощь в подготовке данной книги к печати (хотя ни один из них не читал всю рукопись целиком в переработанном виде). Среди них я хотел бы упомянуть Марка Адамса. X. Бальзера, М. М. Бальзер и др. Особую благодарность приношу Карлу Кейсену — директору Программы по проблемам науки, техники и общества в МТИ и Адаму Уламу — директору Русского исследовательского центра в Гарвардском университете.
Остров Гранд, сентябрь 1986
Глава I. Исторический обзор
Происхождение материализма и идеализма как философских течений обусловлено двумя ключевыми вопросами: «Из чего состоит мир?» и «Как люди познают мир?» Это самые важные вопросы, задаваемые философами и естествоиспытателями. Они ставятся мыслителями на протяжении, по меньшей мере, двух с половиной тысяч лет, со времен таких философов досократиков, как Фалес и Анаксимен.
Материализм и идеализм были двумя основными направлениями философской мысли, которые развивались в стремлении ответить на эти вопросы. Материалисты отводили главную роль существованию внешней реальности — «материи» как основной субстанции бытия и источника человеческого познания. Идеалисты же на первое место ставили разум — организующий источник познания и часто находили абсолютный смысл в религиозных ценностях. Оба направления были обычно связаны с политическими течениями и часто поддерживались политическими учреждениями или бюрократическим аппаратом. Однако этот политический элемент не всегда разрушал интеллектуальное содержание трудов мыслителей, работавших над важными философскими вопросами. Например, поддержка католической церковью средневековой схоластической системы вызвала кроме хорошо известных ограничений этой системы бурное развитие аристотелевской мысли в Оксфорде и Париже в XIV в. Новое схоластическое мышление несло в себе заряд последующего развития и привело к концепции импетуса или инерции. Соответственно основным тезисом этой книги является утверждение, что, несмотря на бюрократическую поддержку диалектического материализма Советским государством, ряд способных советских ученых вполне искренне создавали интеллектуальные конструкции в рамках диалектического материализма, которые представляют огромный интерес в качестве выдающихся достижений философского материализма. Этих представителей естественных наук, как и схоластов XIV в., следует рассматривать не противниками господствующей философской системы, а интеллектуалами, желающими улучшить ее, сделать ее более адекватной системой объяснения.
История материализма является в большой степени историей преувеличений, построенных на базе допущений, которые сами по себе были довольно ценными для науки. Эти допущения заключались в том, что объяснения природы и природных явлений не могут включать ссылок на духовные элементы или божественное вмешательство[1], а должны основываться на уверенности в существовании исключительного нечто, называемого материей или (после создания теории относительности) материей-энергией, в максимальной мере подтверждаемого человеческими ощущениями, воспринимаемого при помощи различных органов чувств. Преувеличениями же, основанными на этих допущениях, были и попытки объяснить непознанное с помощью уже известных материалистических понятий, что не всегда соответствовало поставленным задачам. Будучи вынужденными опираться лишь на ту сумму постоянно развивающегося знания, которая принималась наукой на каждом отдельном отрезке времени, материалисты часто выдвигали гипотезы, которые позже справедливо расценивались как упрощенные. Примерами таких упрощений являются материалистическое описание человека как машины в XVIII в. или их защита спонтанного зарождения жизни в середине XIX в., которые для читателей следующих веков выглядят не более чем смешными наивностями. Но излишняя упрощенность этих, теперь столь очевидных, объяснений не должна заставлять нас забывать тот факт, что современная наука, с позиций которой мы рассматриваем эти эпизоды, не противоречит изначальным допущениям материализма, на основе которых строились эти преувеличения. Последовательность изначальных допущений как раз и является тем, что продолжает поддерживать материалистические убеждения.
Материализм, как и его отрицание, — это философская позиция, основанная на посылках, которые, строго говоря, не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты. Лучшее, что может быть сделано для защиты или опровержения материализма, — это создание правдоподобного аргумента на основе адекватности. Среди крупных ученых современной эпохи встречаются как сторонники и противники материализма, так и те, кто не считает этот вопрос важным. Утонченность отношения ученого к материализму, возможно, важнее той реальной позиции — за, против или воздержавшийся, — которую она или он занимают. Однако также следует заметить, что сторонники материализма начиная с XVII в. вынудили противников пересмотреть свои позиции в более фундаментальном плане и в этом смысле одержали ряд важных побед.
За последние десятилетия в Советском Союзе велись интенсивные дискуссии о взаимоотношении диалектического материализма и естественных наук. Многие за пределами СССР знакомы с нападками на генетику и ролью Лысенко в этом деле, но немногие знают детали споров относительно человеческого поведения, психофизиологии, происхождения жизни, кибернетики, структурной жизни, квантовой механики, теории относительности и космологии. Два издания настоящей книги, в которых детально рассматривались вышеперечисленные дискуссии в различных разделах науки, были первыми попытками рассмотреть наиболее интригующие научно-философские отношения в XX в. Тысячи советских книг, статей и памфлетов о диалектическом материализме и науке содержат всевозможные вопросы, заслуживающие обсуждения. Историки и философы науки еще долго будут спорить над проблемами, поднятыми в этих публикациях: идет ли речь о естественных вопросах или о вопросах, искусственно созданных политиками? Действительно ли на мышление советских ученых оказывал влияние марксизм, или их утверждения об этом были лишь вынужденной ширмой? Имели ли эти споры эффект, который должны принять во внимание все историки и философы науки?
Я даю предварительные ответы на эти вопросы, основываясь на информации, которую смог получить в СССР и за его пределами. Большая часть обширных дискуссий в СССР была непосредственно вызвана политическими причинами, но сейчас дебаты уже вышли далеко за пределы политической области в действительно интеллектуальную сферу. Политическое влияние не удивительно и не уникально в истории науки, оно скорее является ее неотъемлемой частью. Некоторые советские ученые принимают марксизм достаточно серьезно, другие — менее серьезно, третьи относятся к нему индифферентно. Существуют даже такие советские философы и ученые, которые воспринимают диалектический материализм настолько серьезно, что отказываются принимать официальные положения Коммунистической партии по этому вопросу. Они стремятся развить свою собственную диалектико-материалистическую интерпретацию природы, используя высокоспециализированные статьи как щит против цензуры. Однако эти авторы считают себя диалектическими материалистами в полном смысле этого слова. Они подвергаются критике как со стороны ученых, протестующих против всякого вмешательства философии в науку (категория таких ученых существует повсюду), так и со стороны официальных стражей диалектического материализма, считающих его разработку прерогативой партийных идеологов. Я убежден, что диалектический материализм оказал влияние на работы некоторых советских ученых и что в некоторых случаях это влияние принесло им международную известность среди их зарубежных коллег. Все это имеет большое значение для истории науки вообще, а не только для русских исследований.
Одним из наиболее специфических заключений, вытекающих из настоящего исследования, является то, что широко известная за пределами СССР дискуссия вокруг взглядов Лысенко не имеет отношения к философской системе диалектического материализма. Ничто в философской системе диалектического материализма не дает явной поддержки какому-либо из положений Лысенко. С другой стороны, наименее известная за пределами СССР дискуссия вокруг квантовой механики наиболее тесно связана с диалектическим материализмом как философией науки. Неудивительно, что условия этой дискуссии очень напоминали те дискуссии по квантовой механике, которые имели место в других странах.
В спорах о генетике Лысенко выдвигал тезис о наследовании приобретенных признаков, а также туманную теорию стадийного развития растений. Во всем систематическом изложении диалектического материализма нельзя найти положения, подкрепляющего эти взгляды[2]. Тем не менее суждения Лысенко получили в Советском Союзе широкое признание, исключая, пожалуй, лишь небольшой круг биологов-марксистов, а также ряд философов, находившихся вне официальных философских кругов. Вопреки распространенным на Западе взглядам, не существует особой, «марксистской» биологии, вытекающей из работ Маркса и Энгельса[3]. Концепция наследования приобретенных признаков являлась частью биологии XIX в. и не была характерной для марксизма[4]. И хотя положение о наследственной пластичности человека согласовывалось с идеей формирования «нового советского человека», выдвигавшейся советскими лидерами, а наследование признаков, приобретенных за время жизни, было многообещающим свойством такой пластичности, тем не менее лысенковщина в генетике человека не нашла поддержки в СССР; это было скорее распространенной интерпретацией взглядов Лысенко за пределами Советского Союза, чем имеющей обоснование реальной ситуацией внутри страны. Детальное изучение советских источников не подтверждает того факта, что процветание лысенковщины имело место благодаря ее применению в евгенике. В Советском Союзе относились неодобрительно к идее формирования человеческой наследственности даже во времена безраздельного господства взглядов Лысенко. Подъем лысенковщины был скорее результатом длинной цепочки социальных, политических и экономических событий, а не ее связи с марксистской философией. Эти события, так же как и их результаты, были описаны в работах Давида Жоравски и Жореса Медведева[5].
С момента заката лысенковщины в СССР после 1965 г. остаточное влияние этой доктрины довольно парадоксально сказалось на дискуссии по другим вопросам философии науки. Так, некоторые советские биологи в стремлении показать свое несогласие с Лысенко и его отрицанием генетики стали придавать ее роли в поведении человека даже большее значение, чем сторонники социобиологии на Западе. Эти советские генетики подверглись резкой критике со стороны ряда советских естествоиспытателей и философов-марксистов, что привело к известной дискуссии о соотношении биологического и социального (nature-nurture) в 70-80-х годах (см. с. 221-243).
В ходе советских дискуссий по квантовой механике был осуществлен подход к самой сути диалектического материализма как философии науки, Однако в силу различных политических факторов результат оказался совершенно иным, чем в случае с генетикой. Суть диалектического материализма заключается, во-первых, в положении о независимом и единственном существовании материи-энергии и, во-вторых, в признании природных процессов, развивающихся в соответствии с диалектическими законами. По мнению некоторых исследователей, квантовая механика подрывала обе эти части: с одной стороны, акцент на важности роли наблюдателя, с их точки зрения, свидетельствовал в пользу философского идеализма, с другой — невозможность предсказать траекторию отдельной частицы ставила под вопрос понятие причинности, являющейся составной частью процессов, происходящих в природе. В ходе обсуждений, развернувшихся в СССР, было выработано несколько интерпретаций квантовой механики, суть которых вполне согласовывалась с диалектическим материализмом. Эти интерпретации представляют интерес и с естественнонаучной точки зрения. В.А. Фок, занимавшийся в СССР теоретической физикой и много писавший о взаимосвязи естествознания и диалектического материализма, дискутировал по этому вопросу с Н. Бором, что, по словам самого Фока, помогло сместить в позиции Бора акцент с процесса измерения в сторону более «реалистической» точки зрения (см. с. 332-333).
Одной из самых заметных характеристик советской дискуссии по квантовой механике было ее сходство с обсуждением соответствующих проблем во всем мире. Известно, что Омельяновский отрицал какое-либо влияние макрофизического окружения микрочастицы на проявление ею определенных свойств, с помощью которых мы ее описываем, но аналогичные утверждения делались и зарубежными авторами, такими, как американский философ Пол Фейерабенд. Если Блохинцев выступал против требования фон Неймана опровергнуть возможность существования скрытых параметров, то это же самое делали ученые и других стран, включая Д. Бома. Если Фок не принимал положения, согласно которому квантовая теория предлагает отрицание причинности, то подобная позиция была характерна и для французского ученого де Бройля и (по другим соображениям) для американского философа Эрнста Нагеля[6]. Наиболее удивительным в споре о квантовой механике выглядит сходство между взглядами советских ученых и диалектических материалистов, с одной стороны, и зарубежных ученых, связанных с различными течениями философии науки — с другой. Исходя из этого можно было бы прийти к выводу о бессмысленности диалектического материализма. Но с другой стороны, можно заключить, что научные интересы диалектических материалистов в СССР и философов науки за его пределами во многом схожи и что одной из причин этого является насущный характер проблем материализма. Нельзя забывать, что спор между материализмом и идеализмом ведется на протяжении более 2000 лет, а не начался с образованием Советского Союза. Советские и зарубежные естествоиспытатели часто задают одинаковые вопросы и зачастую дают на них очень похожие ответы.
Огромный вред советской науке, и особенно генетике, принесло «бракосочетание» централизованного политического контроля с системой философии, которое претендовало на универсальность. Обозреватели за пределами СССР часто винили в этом философию, хотя речь скорее шла о системе политической монополии, стремившейся контролировать философию. Диалектический материализм как философия науки имел в СССР большое значение, но он применялся не для возвеличивания или подавления отдельных областей науки, а скорее для решения специфических вопросов их интерпретации. Время от времени определенная формулировка марксистской философии науки трансформировалась в официальное идеологическое положение с одобрения партийных органов. В этом случае действительно происходили тяжелые события, из которых случай с генетикой был, пожалуй, самым трагичным.
Однако ясно, что люди, независимо от того, находятся ли они в Советском Союзе или в какой-либо иной стране, никогда не перестанут интересоваться фундаментальными вопросами, на которые пытаются дать ответ универсальные философские системы. Диалектический материализм — одна из них. Если мы признаем законность постановки фундаментальных вопросов о природе вещей, то диалектико-материалистический подход — научно ориентированный, реалистичный, материалистический — претендует на превосходство над существующими и конкурирующими с ним универсальными системами мышления, и эти претензии могут быть достаточно обоснованными. Если бы диалектический материализм в СССР смог развиваться свободно, то он, несомненно, двигался бы в направлении, совместимом с общими положениями немеханистического и нередукционистского материализма (см. с. 50). Такие результаты были бы плодотворными и интересными. Однако мы можем надеяться, что настанет время, когда дальнейшее развитие диалектического материализма будет проходить в рамках свободной дискуссии, в условиях, далеких как от официального протекционизма, имевшего место в СССР и препятствовавшего существенному улучшению диалектического материализма, так и от неофициальной враждебности к нему, существующей в США, что заметно затрудняет понимание его действенности.
1. Материализм и атеизм взаимосвязанные, но не синонимичные понятия. Некоторые материалисты, особенно в XVII в., сочетали материализм и атеизм. Поэтому я здесь сказал, что материалисты избегают использования религиозных элементов в научных объяснениях, но необязательно отвергают существование Бога. В последнее время, однако, материализм обычно был атеистическим внутренне или внешне.
2. Из этого можно сделать вывод, что важным моментом диалектического материализма, имеющим значение в биологическом споре, был принцип единства теории и практики; согласно одной интерпрётации, Лысенко гораздо энергичнее, чем классические генетики, стремился применить свою теорию для улучшения развития советского сельского хозяйства. В то же время можно заметить, что принцип единства теории и практики ничего не говорит об их временном соотношении. Так, диалектические материалисты говорят, что любое теоретическое развитие науки должно применяться на практике, но не уточняют, как быстро это должно происходить. Естественно, что применение теории не может в каждом случае осуществляться одновременно с ее развитием. Постепенное широкое использование новых научных достижений может привести к огромным издержкам. Поэтому вопрос о приложениях теории спорен в целом. В нормальной социальной атмосфере дискуссия может вестись вокруг критериев полноты теории, вопросов риска и материальных затрат, необходимых для применения, их эффективности. С позиций этих критериев можно считать, что советские генетики 30-х годов также следовали тезису о единстве теории и практики. В самом деле, Николай Вавилов, противник Лысенко, был в лучшем смысле предан этой марксистской идее: он искренне пытался соединить стремление к высочайшим научным достижениям с попытками внести реальный вклад науки в улучшение благосостояния общества с желанием улучшить общество посредством науки. Что же касается Лысенко, то он принес огромный вред советскому сельскому хозяйству.
3. См., напр., Zircle C. Evolution, Marxian Biology and the Social Scene Philadelphia. 1959.
4. Как заметил Л.К. Дан, вера в наследование приобретенных признаков «утешала большинство биологов XIX века». Dunn L.C. A Short History of Genetics. N. Y., 1965. P. X.
5. См.: Joravsky D. The Lysenko Affair, Cambridge, 1970; Medvedev Z. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. N. Y.- L., 1969.
6. Де Бройль пытался найти причинность путем замены современной квантовой теории такой теорией (волна-пилот или двойное решение), которая возродила бы классические понятия. Эрнст Нагель пытался рассматривать существующую квантовую теорию как «причинную». См. работу последнего: The Causal Character of Modern Physical Theory//Freedom and Reason: Studies in Philosophy and Jewish Culture, Glencoe. 1951. P. 254-268); The Structure of Science. N. Y., 1961. P. 316-324. Эти вопросы будут рассматриваться намного полнее в главе о квантовой механике.
Исторический и политический фон
Революции 1917 г. произошли в стране, находившейся в критическом положении. В общем Советский Союз был отсталой и слаборазвитой страной, для которой скорейшее решение основных экономических проблем было жизненно необходимым. Советский Союз унаследовал традицию автократического правления, что в большой степени сказалось на новом режиме. Новое государство подверглось сильнейшим нагрузкам, вызванным военной и экономической конкуренцией. За этими событиями сочувственно следили в Европе. Но это отношение сменилось необычайной враждебностью после успеха большевистской революции. В молодом Советском государстве была группа способных, унаследовавших значительные научные и культурные традиции интеллектуалов, многие из которых были силой противопоставлены новому правительству. Политические же лидеры нового правительства формировались в традициях конспирации, а поэтому свыклись с применением террора, являясь до этого его объектами; их мировоззрение убедительно объясняло их роль в истории и годилось как средство для наведения порядка.
Исходя из вышеизложенного не стоит удивляться тому, что уровень интеллектуальной свободы, имевший место в Советской России, был значительно ниже, чем в странах Западной Европы и Северной Америки, с которыми СССР будет в этой работе сравниваться наиболее часто. Возможность специального контроля над интеллектуальной жизнью возросла в скором времени после революции путем уничтожения всех политических партий, кроме большевистской, позднее переименованной в Коммунистическую партию Советского Союза. Был создан партийный аппарат, дублирующий государственный на каждом уровне и контролирующий население /15/ страны практически во всех областях деятельности. В ответ на этот контроль населением не было оказано даже части того сопротивления, о котором говорили западные обозреватели; правительство испытывало поддержку или терпимость со стороны большинства рабочих, меньшинства крестьян и небольшой группы убежденных марксистских активистов. Существование этой поддержки усилило свободу действий партийных лидеров и позволило им направлять ход интеллектуальной жизни, хотя сами интеллектуалы, пусть достаточно малочисленные, были зачастую против подобной политики партии. Возможность вмешательства партийных лидеров в интеллектуальную сферу значительно возросла в связи с тем, что ими был высказан ряд мнений и оценок в адрес определенных областей искусства и науки.
Тем не менее, непосредственно в послереволюционные годы почти никто не думал, что партийный контроль над интеллектуалами перейдет из области политических действий на саму научную теорию. Тогда партийные руководители не планировали и не предсказывали, что партия будет одобрять или поддерживать определенные научные взгляды внутри самой науки; подобная роль на самом деле полностью отрицалась всеми видными деятелями партии. Специфика развития советской марксистской философии природы отнюдь не предполагала вмешательства официальных кругов в сферу развития научных проблем, и в действительности такая ситуация сохранилась в начале 20-х годов, а затем возродилась в конце 50 - начале 60-х годов в отношении всех наук, кроме генетики, а для генетики такая оттепель наступила лишь в 1965 г. Кроме того, среди советских ученых и философов никогда не было единой интерпретации марксистской философии науки.
Период советской истории с 1921 по 1926 г. известен как период новой экономической политики (нэп). Он характеризовался относительной свободой в области духовной жизни. Пока ученые и деятели искусств избегали политической деятельности против партии, они могли не бояться властей или вмешательства идеологов. Исключением из этого были те, чье прошлое или прошлая политическая активность были признаны преступными. Однако даже те, которые ранее не принадлежали к партии большевиков, как и имевшие в прошлом связь с царской бюрократией, могли сохранять свои посты в области культуры и образования. Университеты, Академия наук, здравоохранение, архивы и библиотеки служили относительно безопасным убежищем для «бывших», большинство из которых хотели просто спокойно дожить свою жизнь в совершенно новых сложившихся условиях.
Во второй половине 20-х годов произошли события, определившие будущее развитие Советского Союза: борьба в партийном руководстве, в результате которой к власти пришел Сталин, и принятие решений об амбициозных программах индустриализации и коллективизации. История восхождения Сталина к верховной власти рассматривалась уже неоднократно (хотя есть еще много неясных аспектов) и не будет здесь пересказываться. Но ясно, что именно Сталин оказывал наибольшее влияние на последующее развитие сферы интеллектуальной деятельности в Советском Союзе. Его собственные интеллектуальные пристрастия отразились на многих областях. Большинство зарубежных историков СССР сомневаются в том, что идеология имела важное значение в определении сталинских действий. Они считали, что в основном его выбор определялся соображениями власти. Эти историки замечают, что Сталин отходил от идеологических позиций лишь тогда, когда этот отход был необходим с позиций практики, и в качестве примера они приводят перемену политики Советского правительства в отношении церкви.
Более современные исследования о Сталине показали, однако, что интерпретировать его деятельность лишь с позиций власти отнюдь не достаточно. Сталин руководствовался целым комплексом мотивов. Во многом они были направлены на достижение и укрепление власти, но содержали и немалые идеологические моменты.
Крупные лидеры часто совмещают в своих решениях идеологические факторы с факторами достижения власти: история папства католической церкви, многих европейских коронованных властителей и лидеров современных капиталистических стран иллюстрирует это взаимодействие идеи и власти. В Сталине идеологические и ориентированные на власть факторы объединились; более того, реальная политическая власть, которой он обладал, была поистине огромной, и он пользовался ею со все большим произволом.
«Великий перелом», имевший место в 1927-1929 гг., который явился ударом по промышленности, сельскому хозяйству и культурной революции, будут всегда связывать с именем Сталина. Конечно, не только Сталин, но и почти все другие советские лидеры выдвигали необходимость быстрой индустриализации и реформы в области культуры. Но именно Сталин определил формы и темпы этих кампаний, которые в конце концов приобрели такое же значение, как и сами кампании. Из множества программ ускоренной индустриализации, предложенных во второй половине 20-х годов, Сталин поддерживал наиболее напряженный курс, его директивы проводились в жизнь наиболее силовыми методами. Соответственно от темпов сталинской программы коллективизации в сельском хозяйстве захватывало дух, она была уникальной по своей жестокости. Через 10 лет после смерти Сталина советские историки позволили себе заметить по этому поводу, что сталинская программа коллективизации была преждевременной и принудительной, однако в целом они поддерживали ее цель — создание крупных хозяйств по возделыванию земли на основе коллективного труда[1].
Наряду с программами индустриализации и коллективизации проводилась и культурная революция. Работники учебных и научных институтов подвергались политическим проверкам и чисткам. В данном случае чистка означала не только тюремное заключение или казнь, но и близкое к ним по трагизму смещение с занимаемых научных постов. На практике чистка началась в советских научных учреждениях как средство перестановки персонала, что зачастую поддерживалось молодыми коммунистами, стремившимися к продвижению по служебной лестнице. В конце 20-х годов эта техника обновления была использована для чистки отдельных институтов от буржуазных элементов и замены их сторонниками Коммунистической партии. Эти новые назначенцы были людьми с гораздо меньшей профессиональной подготовкой, но получали предпочтение благодаря своему энтузиазму в деле социальной перестройки. Позднее, под полным контролем Сталина, чистки стали носить более произвольный и жестокий характер. Смещение и ссылка в трудовые лагеря представителей общественных наук были более обычным делом, чем естествоиспытателей, однако и в естественнонаучных институтах были введены системы контроля. В период 1929-1932 гг. Академия наук была основательно обновлена и оказалась полностью под контролем Коммунистической партии[2]. Однако даже в это время не было попыток навязывания естествоиспытателям определенных идеологических интерпретаций тех или иных социальных работ. В отличие от того, что позднее все более заметными стали случаи /17/ силового давления политических, социальных и экономических кампаний. Или того периода сразу после второй мировой войны, когда влияние идеологических вопросов на естественные науки, стало значительным.
Правда, уже в конце 20 - начале 30-х годов стала возрастать тенденция определять ту или иную науку как «буржуазную» и «идеалистическую», что явно было за пределами подлинных философских интерпретаций науки. В настоящее время эта тенденция подвергается острой критике частью ведущих советских философов, однако следует признать, что она долгое время оказывала отрицательное воздействие на советскую науку[3]. Приписывание политического характера самому основанию науки значительно облегчило появление лысенковской концепции «двух биологий», а также прочих идеологических наскоков на различные области естественных наук. Еще в 1926 г. В. Егоршин во влиятельном журнале того времени «Под знаменем марксизма» заявлял, что «современное естествознание так же классово, как и философия, и искусство... Оно — буржуазно в своих теоретических основаниях»[4]. А в редакционной статье журнала «Естествознание и марксизм» в 1930 г. заявлялось, что «философия, естественные и математические науки так же партийны, как и науки экономические или исторические»[5].
Не все советские философы и очень немногие естествоиспытатели соглашались с установкой, что естественные науки несут в себе политические элементы, а также с выводом о том, что западная наука является внутренне отличной от науки советской. Многие наиболее убежденные в марксизме естествоиспытатели и философы все же проводили моральное или философское различие между наукой и ее использованием. Даже те ученые, которые справедливо полагали, что теоретическое основание естествознания не может быть полностью отделено от философских вопросов, обычно признавали, что попытка разделения этих вопросов средствами политики приведет к пагубным последствиям. Известный марксист-естествоиспытатель О.Ю. Шмидт, который позже сыграл важную роль в обсуждении космологии, заявил в 1929 г., что «западная наука не представляет единого целого. Большой ошибкой было бы отделаться огульной характеристикой ее как «буржуазной» или «идеалистической». Ленин отличал «стихийных материалистов», к которым в то время принадлежало большинство экспериментаторов, от идеалистов, махистов и пр... С другой стороны, растет стихийная, неосознанная тяга к диалектике... Сознательных диалектиков-материалистов на Западе нет, но элементы диалектики имеются у очень многих научных мыслителей, часто в идеалистической и эклектической оболочке. Наша задача — найти эти зерна, очистить и использовать их»[6].
Дискуссии конца 20-30-х годов по поводу природы науки не затронули наиболее интенсивно работающих советских естествоиспытателей того времени. Большинство исследователей, как и везде, пытались держаться подальше от философских и политических обсуждений. Значение этих дискуссий было не в их непосредственном содержании, а в том прецеденте, который был ими дан для намного более резких идеологических дебатов послевоенного периода, когда Сталин принял лысенковское положение о «двух биологиях» и счел необходимым непосредственно вмешаться в процесс выбора. Без деспотичных действий Сталина генетика в СССР не была бы подавлена, но дискуссии 30-х годов помогли подготовить почву для этого подавления путем усиления тех подозрений, с которыми некоторые советские критики относились к западной науке.
Другой характерной чертой советских дискуссий 30-х годов, которые возродились и после второй мировой войны, был упор на прикладной характер науки. В стране, которая перед лицом внешней угрозы должна была завершить быструю модернизацию, практические соображения были не только понятны, но и необходимы. Как это часто бывает в слаборазвитых странах, которые все же располагают небольшим слоем высокообразованных специалистов, предыдущая научная традиция России имела преимущественно теоретический характер. Акцент на вопросах индустриализации и сельского хозяйства в 30-х годах был связан с необходимым исправлением этой традиции. Этот практический акцент в своем основании был глубоко нравственен, поскольку перспективными результатами растущей экономики стали бы более высокий уровень жизни, более широкие возможности образования, лучшее благосостояние общества. До тех пор, пока признавалась ценность теоретической науки, относительный сдвиг в сторону прикладных наук был полезным временным явлением. Однако доведенный до крайности, он приводил к мещанству и антиинтеллектуализму. В искусстве и литературе упор на индустриальное развитие нашел поддержку в «социалистическом реализме» — стиле в искусстве, который вытеснил все ранние экспериментальные формы, возникшие в искусстве сразу после революции. Социалистический реализм был рассчитан на бюрократов, которые сменили предшествующих, более утонченных и космополитичных революционеров. Ситуация в искусстве тех лет была лишь косвенно связана с ситуацией в естествознании, но тем не менее она стала важным аспектом общей атмосферы советских интеллектуалов. Если искусству навязывались темы, избранные для эстетического и эмоционального воздействия на рабочих, то роль науки сводилась к открытию новых способов скорейшей индустриализации. Многие ученые, будучи специалистами в высокотеоретичных областях знания, обнаружили в 30-е годы, что они прочно вовлечены в процессы индустриализации. В дополнение к их исследовательской работе они стали служить консультантами производства.
Таким образом, следствием индустриализаторских и коллективизаторских усилий стало возрастание давления на естествоиспытателей и интеллектуалов, с тем, чтобы их интересы совпали с целями концепции построения «социализма в одной стране». Это давление способствовало развитию националистических тенденций как в науке, так и в других областях. Сама возможность построения социализма в одной стране была объектом одного из важнейших споров между Сталиным и его соратниками. Первые революционеры считали, что революция в России не добьется успеха, пока такие же революции не произойдут в других, более развитых странах. Сталин заявил, что социализм может быть построен и в одной стране, и призывал полагаться на собственные научные и другие ресурсы. Это смещение акцентов продемонстрировало ослабление духа интернационализма в коммунистическом движении, который историки связывали с именем Троцкого, и кроме всего прочего привело к еще большей изоляции советских ученых. Сталин призвал всех советских трудящихся, включая и ученых, добиваться максимальных усилий для достижения почти невозможного — сделать Советский Союз великой промышленной и военной державой за 10-15 лет. Советский национализм, являясь неотъемлемой частью этих усилий, постепенно набирал силу в 30-е годы, поскольку нарастала возможность военной конфронтации с нацистской Германией.
Вследствие возросшего патриотизма и героизма в период второй мировой войны в Советском Союзе все более открыто стал проявляться националистический элемент. В науке этот упор на национальные достижения имел много проявлений. В споры по поводу научных интерпретаций был привнесен элемент национальной гордости, полностью отсутствовавший в диалектическом материализме, идущем от Маркса, Энгельса и Ленина. Это вылилось в притязания на национальный приоритет во многих областях науки и технологии. Многие из этих притязаний уже не выдвигаются сейчас в Советском Союзе, признаются последствиями «культа личности». Другие же остаются в силе. Некоторые из них обоснованы или по крайней мере спорны, так как в течение долгих лет беспристрастная оценка русской науки и технологии за рубежом была невозможна по причине языковых барьеров, этнических предрассудков или просто незнания.
Возможно, одной из наиболее важных черт, определивших общественное влияние на науку и характеризовавших ту необычную ситуацию, которая сложилась после второй мировой войны, была высокая степень централизации контроля над общественной информацией, над назначением и продвижением работников, над академическими исследованиями и подготовкой кадров, над научными публикациями. Эта система контроля была сформирована задолго до того, как после войны Сталин счел необходимым непосредственно вмешаться в дискуссию о биологии. В самом деле, любая попытка активно противостоять внушающему страх сосредоточению власти стала немыслимой во время повсеместных чисток 30-х годов, когда стало ясно, что даже самые высокие и заслуженные партийные работники не были защищены от карательной власти Сталина. Атмосфера, созданная этими событиями, проникала во все институты советского общества. Представители низших элементов власти ждали сверху сигналов, указующих текущие направления политики, и, как только сигналы поступали, бросались их выполнять. К концу 30-х годов, например, ни в одной местной газете немыслима была бы публикация, отвергающая или хотя бы спорящая с политикой, провозглашенной в «Правде» — официальном органе ЦК КПСС. Не была предоставлена самой себе и официально учрежденная цензура, которая распространялась даже на научные журналы, хотя в сравнении с другими изданиями пределы терпимости в них были более значительными и время от времени варьировались. Назначение должностных лиц, имеющих влияние на науку и образование, — министров образования и сельского хозяйства, президентов Всесоюзной Академии наук и других специализированных академий, ректоров университетов, редакционных коллегий журналов — было полностью под контролем партийных органов. Также под политическим контролем находилось утверждение учебников для использования в системе школьного образования и даже присвоение научных званий конкретным ученым. Все эти черты структуры Советской власти помогают пониманию того, как после войны Сталин смог придать официальный статус лысенковской интерпретации биологии, несмотря на несогласие с ней признанных генетиков, полностью осознававших всю интеллектуальную нищету лысенковщины.
Вышеприведенное описание централизации власти в Советском обществе хорошо известно каждому, кто изучает советскую историю. Однако мало кто из них осознает то, что в основе этой централизованной политической власти лежала широкая поддержка населением СССР основных принципов советской экономики, а в среде интеллектуалов — возрастающая поддержка материалистической интерпретации общественных и естественных наук. Исследования тех, кто покинул СССР в годы второй мировой войны, показали, что, несмотря на большую степень недовольства политическими реалиями в Советском Союзе, эти люди остались всецело убежденными в превосходстве социалистического экономического порядка[7]. Отсюда становится очевидным то, почему наиболее способные представители советской интеллигенции, известные своими научными достижениями, считали, что концептуальная основа объяснений природы, предлагаемая в рамках исторического и диалектического материализма, является убедительной. О.Ю. Шмидт, И.И. Агол, С.Ю. Семковский, А.С. Серебровский, А.Р. Лурия, А.И. Опарин, Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн являются, например, теми выдающимися советскими учеными, которые подчеркивали эвристическое значение идей марксизма для их творческой деятельности еще до того, как это стали от них требовать. Наука была первой заботой этих людей, политика стояла на втором месте. Но не нужно думать, что наличие сильных политических мотиваций неизбежно принижало интеллектуальный уровень воззрений ученого. Партийный лидер Николай Бухарин был тем советским политиком, для которого вопрос материалистического, естественнонаучного подхода к действительности был далеко не риторическим; для ряда его работ характерны достижение довольно высокого уровня материалистической интерпретации естественных наук и исключительная интеллектуальная ясность изложения взглядов[8]. Некоторые из вышеперечисленных ученых, как и многие подобные им, исчезли во времена чисток, а их произведения были запрещены в Советском Союзе. Без учета того обстоятельства, что до 40-х годов в СССР существовала категория ученых, всерьез относящихся к диалектическому материализму, трудно было бы понять, почему и по прошествии худшего периода — сталинизма в Советском Союзе опять появились ученые, совмещающие диалектико-материалистическую интерпретацию природы с обычными стандартами научной честности.
Сразу же после второй мировой войны многие интеллектуалы в Советском Союзе надеялись на ослабление системы контроля, которая формировалась во время напряженной индустриализации и военной мобилизации. Вместо этого последовал мрачный период вмешательства государства в сферу науки и искусства. Послевоенное усиление идеологического контроля довольно быстро распространилось из области литературы и искусства на философию и, наконец, на саму науку. Среди причин этого обычно упоминают предвоенную подозрительность в отношении буржуазной науки, до предела централизованную советскую политическую систему, а также роль лично Сталина. Но было и еще одно условие, обострявшее идеологическую напряженность, — «холодная война» между СССР и некоторыми западными державами, особенно США. Эта борьба достигла кульминации в послевоенные годы[9]. Это были годы, когда идеологическая чувствительность стремительно увеличивалась как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе; две великие державы усиливали взаимные страхи и предрассудки. Страсти «холодной войны» напоминали религиозные конфликты прошлого. Подавление генетики в СССР в 1948 г. часто сравнивалось с осуждением католической церковью учения Коперника в 1616 г. Настороженность католической церкви по отношению к астрономии в то время была в какой-то степени реакцией на давление, оказываемое на саму церковь протестантскими реформаторами[10]. Подобно этому (хотя и с большими оговорками) в конце 40-х годов Советский Союз рассматривал себя в центре глобальной идеологической борьбы, и «холодная война» вызывала чувства, аналогичные тем, которые существовали во времена контрреформации.
«Ждановщина» — под таким названием известна послевоенная идеологическая кампания, которая была связана с именем А.А. Жданова — соратника Сталина в ЦК партии. Большинство западных специалистов, занимающихся историей Советского Союза, полагают, что Жданов был в некоторой степени лично ответствен за идеологические ограничения во всех областях культуры, включая науку. Однако есть основания сомневаться, что Жданов виновен и в идеологическом вмешательстве в науку. Есть свидетельства, что Жданов протестовал против такого вмешательства в случае с Лысенко и даже пытался прекратить кампанию, проводимую партийным руководством в защиту его взглядов[11]. Тем не менее нам известно, что именно Жданов провел кампанию запугивания и репрессий в литературе и искусстве. Серии постановлений определили идеологическую направленность творчества писателей, театральных критиков, экономистов, философов, драматургов, режиссеров и даже музыкантов. Однако до самой смерти Жданова естествоиспытателям в основном удавалось избежать директивного правления, царившего в других областях культуры.
Когда в августе 1948 г. взгляды Лысенко на биологию были официально одобрены — событие, которое будет детально рассматриваться в разделе, посвященном дебатам о генетике, — все советское научное сообщество испытало потрясение. Не осталось больше надежд, что партийные органы будут проводить различие между наукой и ее философской интерпретацией. Естественно, Сталину эти различия не были нужны, а он полностью контролировал партию. Скоро стало ясно, что другие области науки, такие, как физика и физиология, тоже стали объектами идеологических атак, и ученые серьезно опасались, что в каждой области появится свой собственный Лысенко. Советские естествоиспытатели оказались перед трудной дилеммой. К этому времени контроль партии над научными институтами был почти абсолютным. Открытое сопротивление партийному надзору было возможно лишь, если сопротивляющиеся были полностью готовы пожертвовать собой, — сопротивление партийному контролю обычно означало профессиональный крах и заключение в трудовые лагеря. Несколько ученых выступили открыто подобным образом и разделили судьбу генетика Н.И. Вавилова, который был репрессирован еще до войны. Другой подход был принят на вооружение относительно небольшой, но достаточно влиятельной группой ученых, которые решили встретить идеологическую атаку, защищая настоящую науку на основе самого диалектического материализма. Их последующие достижения имели истинно важное значение и были интересны с интеллектуальной стороны — большая часть этой книги посвящена их подвигу. Однако многие зарубежные обозреватели не увидели того, что эта защита науки с позиций диалектического материализма была не просто тактикой или интеллектуальным обманом; лидеры этого движения, чьи имена будут много раз упоминаться в этой книге, были искренними в своей защите материализма. Как часто замечали советские обозреватели, «их диалектический материализм был внутренним». В их число входили известные советские естествоиспытатели с международной репутацией. Некоторые участники этой группы могли быть некритичными в своем подходе, готовыми пользоваться любой терминологией или любой философской системой, которая спасла бы их науку от надвигающейся лысенковщины. Но большинство, включая прежде всего тех, кто еще до войны интересовался диалектическим материализмом, а также тех, кто теперь более четко формулировал свои ранее расплывчатые материалистические взгляды, не видели противоречия между естествознанием и зрелым материализмом. Рассматривая диалектический материализм и естествознание как близкие области, они не думали, что тем самым компрометируют свою профессиональную честь. В действительности они хотели повысить уровень как советского естествознания, так и советской философии, и настоящий успех был достигнут ими в обеих областях. Им помогли в этом те философы-профессионалы, которые видели важность этой защиты компетентности и приветствовали работу этих естествоиспытателей как вклад в философское понимание науки[12].
Ученые непосредственно послевоенного периода начали обращаться к работам Маркса и Энгельса по диалектическому материализму, с тем, чтобы убедительнее отвечать критикам от идеологии. Они выдвигали аргументы более сильные, чем у их сталинистских оппонентов; они строили защиту, демонстрировавшую ошибки их официальных критиков, но вместе с тем не выходящую за рамки диалектического материализма и, что еще важнее, не затрагивающую основы их наук. Они даже были готовы подвергнуть проверке методологические принципы и терминологические структуры своих наук и если необходимо, то пересмотреть их. Как ученые, они теперь были кровно заинтересованы в изучении философии науки. У них хватило смелости, даже при жизни Сталина, нанести поражение Г.В. Челинцеву (посредственному химику, пытавшемуся занять место Лысенко в химии) на Всесоюзной конференции, аналогичной биологической конференции 1948 г. (см. с. 296 и далее). Они дали отпор идеологическим кампаниям в релятивистской физике и квантовой механике путем разработки материалистических интерпретаций этих неустановившихся еще направлений в физической теории и твердо сопротивлялись попыткам их шельмования. Некоторые в конце концов сами стали приверженцами этих интерпретаций и защищали их долгое время после смерти Сталина. За эти годы к дискуссии подключились более молодые естествоиспытатели и философы. Для них мотивы самозащиты не имели преобладающего значения. Сами интеллектуальные вопросы приобретали все большую значимость. Создавалась всесторонняя и убедительная философия науки.
Так как эти ученые часто были действительно выдающимися интеллектуалами с глубокими знаниями в своих областях и так как наука действительно содержит серьезные и вполне законные вопросы философской интерпретации, то было только естественным, что участие ученых в дебатах привело к результатам, которые сами по себе имели важное значение. За исключением генетики, в рамках которой научные вопросы оставались на чрезвычайно низком уровне вплоть до краха Лысенко, большинство советских дискуссий содержало подлинно научные вопросы философской интерпретации. В физических науках они касались проблемы причинности, роли наблюдателя в процессе измерений, концепции дополнительности, природы пространства и времени, происхождения и структуры Вселенной и роли исследователя в научном объяснении. В биологических науках речь шла о проблемах происхождения жизни, природы эволюции, редукционизма. В физиологии и психологии обсуждались вопросы детерминизма и свободы воли, природы сознания, проблемы разума и тела, важности материалистического подхода к психологии. В кибернетике рассматривались проблемы природы информации, универсальности кибернетического подхода, возможности компьютеров.
Советские естествоиспытатели часто справедливо критиковали советских философов, хотя последние иногда вносили действительный вклад в разбираемые дискуссии. Стоит отметить, что наибольшую угрозу для советского естествознания в конце 40 - начале 50-х годов представляли не профессиональные философы, как часто думают, а третьесортные ученые, стремившиеся завоевать благосклонность Сталина. К ним помимо Т.Д. Лысенко в генетике относились Г.В. Челинцев в химии, А.А. Максимов и Р.Я. Штейнман в физике и О.Б. Лепешинская в цитологии[13]. Их критиковали как естествоиспытатели, так и философы, когда это позволяла политическая обстановка. То, что происходило в худший период вмешательства идеологии в науку, отнюдь не было борьбой ученых и философов. Это была борьба как внутри философии, так и внутри естествознания, между истинными учеными, с одной стороны, и невежественными карьеристами и идеологическими фанатиками — с другой.
С уходом в прошлое идеологической кампании 1948-1953 гг. она становилась все менее определяющим фактором в советских дискуссиях о взаимоотношении науки и философии. Конечно, цензура была все еще обычным явлением в СССР. Генетика не получала должного статуса вплоть до 1965 г., и даже сейчас эта наука испытывает последствия тех лет, когда она всячески подавлялась. Антисемитизм также продолжал отравлять советскую интеллектуальную жизнь, а в 70-80-е годы он даже усилился. Более того, репрессии против диссидентствующих советских исследователей показали, что режим не потерпит независимых политических действий со стороны своих ученых. Тем не менее, после середины 60-х годов большинство технических дисциплин вновь получило ту степень автономии, которой они пользовались до второй мировой войны. Наука была намного свободнее литературы и искусства. До тех пор пока ученые не занимались политическими вопросами, такими, как права человека, международные отношения и реформа советской системы, они могли не опасаться значительного вмешательства в свою профессиональную деятельность. За исключением права поездок за границу, в естествознании протекала достаточно нормальная интеллектуальная жизнь, что обычно распространялось и на многие специальные области, вплоть до философии естествознания включительно.
Ученый за пределами Советского Союза может подумать, что нормальная интеллектуальная жизнь среди советских естествоиспытателей значила полную потерю интереса к диалектическому материализму. Некоторые советские ученые, которые были ранее вовлечены в идеологические споры, действительно вернулись полностью к исследовательской работе или научному руководству. Но наиболее удивительной характеристикой современного периода стал тот уровень, которого достигли все продолжающиеся обсуждения по философии науки. Профессиональные философы играют в них гораздо более заметную роль, чем прежде, активно участвуют в этих дискуссиях естествоиспытатели. В философии физики, например, важные работы были написаны в 70 - начале 80-х годов такими физиками, как В.Л. Гинзбург, П.Л. Капица, М.А. Марков и В.С. Барашенков[14]. Все эти авторы пользуются международной известностью благодаря своим работам по физике, а два первых являются выдающимися учеными.
Профессиональные философы также активно разрабатывали эпистемологические и методологические вопросы физики. До последнего времени ведущими авторами в этой области были: М.Э. Омельяновский, Э.М. Чудинов, С.Б. Крымский, Е.А. Мамчур, В.С. Степин, Л.Б. Баженов, М.Д. Ахундов, В.С. Готт и А.И. Панченко[15]. Точки зрения некоторых из этих философов, включая М.Э. Омельяновского, Э.М. Чудинова и Л.Б. Баженова, будут обсуждаться далее. Особенно интересным философом науки, занимавшимся этими вопросами в 70-80-е годы, является М.Д. Ахундов, ученик М.Э. Омельяновского. Первая книга М.Д. Ахундова «Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени», опубликованная в 1974 г., была успешной попыткой проследить и проанализировать на протяжении всей истории науки описание Вселенной при помощи континуальных или атомистических концепций. Вторая его книга «Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы», опубликованная в 1982 г., была оригинальной интерпретацией пространства и времени в культурах различных эпох; в последнем разделе представлен философский анализ современных концепций пространства и времени. Ахундов полагает, что изучение пространственных и временных представлений у детей и у людей с психопатологическими нарушениями весьма полезно для понимания исторических путей изменения этих представлений в различных социокультурных условиях.
Делая упор больше на проблему мышления, чем на философию природы, Ахундов способствовал усилению позиции тех советских философов науки, которые выдвигали на первый план эпистемологические проблемы и избегали давать оценку физике, оставляя эту функцию за самими физиками. В самом деле, Ахундов и два других советских философа, подводя итоги советской философии науки за последние годы, писали:
«Происходит своего рода размежевание чисто физических и философских проблем, причем последние постепенно выдвигаются на первый план. Если для большинства работ предыдущего десятилетия характерно тесное переплетение физических и философских проблем с некоторым преобладанием первых, то сейчас наблюдается известная эволюция в сторону рассмотрения чисто философских аспектов, повышается качество исследований»[16].
Несмотря на явные признаки улучшения положения в специальных областях, советская философия науки в-70-е и 80-е годы развивалась неровно и противоречиво[17]. В то время как качество специализированных работ в конкретных областях продолжало расти, это улучшение сопровождалось растущими политическими трудностями, которые ставили под угрозу достижения интеллектуальной сферы. Более того, за последние годы беспокоящие признаки возрождения определенной формы неосталинистского мышления среди некоторых философов науки привели к началу острой дискуссии в рамках этой дисциплины. Изменения режима, связанные с кончинами Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко в 1982, 1984 и 1985 гг., и определенные перемещения в руководстве философских учреждений привели развитие философии в Советском Союзе к довольно неопределенному состоянию.
Наиболее здоровым периодом для советской философии науки за последние 20 лет был период с 1968 по 1977 г. В то время редактором главного советского философского журнала «Вопросы философии» был И.Т. Фролов, ученый, создавший себе репутацию работой 1968 г., резко атаковавшей лысенковщину в биологии (см. с. 159-160). Став редактором журнала в период наибольшей популярности, последовавшей за его критикой лысенковщины, Фролов добивался обновления советской философии естествознания путем установления более тесных связей философии с другими науками. Поскольку он пользовался репутацией философа, выступающего против идеологического вмешательства в науку, он имел возможность организовывать встречи между философами и ведущими естествоиспытателями, которые в прошлом держались в стороне от диалектических материалистов. Отчеты об этих встречах, публиковавшиеся в журнале в постоянной рубрике «Круглый стол», заметно изменили тон советской философии. Это служило явным доказательством того, что советские философы действительно желали завязать контакты с ведущими естествоиспытателями страны для продолжения попыток преодоления последствий сталинизма в философии.
И.Т. Фролову в его деятельности по модернизации диалектического материализма в конце 60 - начале 70-х годов помогала группа единомышленников — сотрудников Института философии АН СССР. К их числу относились директор этого института П.В. Копнин; историк и философ науки Б.М. Кедров, непосредственно в послевоенный период предпринявший похожую, но не увенчавшуюся успехом попытку; специалист по философским проблемам физики М.Э. Омельяновский и ряд других исследователей в области философии, включая Э.М. Чудинова и Л.Б. Баженова. Хотя и не всегда соглашаясь друг с другом, они тем не менее были объединены желанием избежать дискредитировавшего себя подхода «диалектики природы», который у предыдущих поколений, действовавших вроде во имя философии, часто приводил к вмешательству в научные исследования. Реформаторы 60 - начала 70-х годов хотели сконцентрироваться на специфически философских проблемах, оставляя содержание естествознания самим естествоиспытателям.
Эта школа мысли, до сих пор достаточно влиятельная среди профессиональных философов науки, находится в Институте философии АН СССР, но за последние годы она потеряла нескольких своих наиболее выдающихся лидеров и была поставлена под сомнение в интеллектуальном плане. Смерть П.В. Копнина, М.Э. Омельяновского, Э.М. Чудинова и Б.М. Кедрова в 1971, 1979, 1980 и 1985 гг. нанесла усилиям этой школы серьезный удар. На посту директора Института философии П.В. Копнина сменил Б.С. Украинцев — философ более ортодоксальных взглядов, в свое время выпустивший книгу в соавторстве с Г.В. Платоновым, который был давним лысенковцем и главным критиком выше перечисленных реформаторов[18]. В 1977 г. И.Т. Фролова в свою очередь на посту редактора «Вопросов философии» сменил В.С. Семенов, который без особого энтузиазма сделал несколько попыток продолжить традиции «Круглых столов», но так и не смог придать им той интеллектуальной живости, которая была ранее. И.Т. Фролов остался членом редакционной коллегии, но ему пришлось столкнуться с противодействиями его реформаторской позиции относительно взаимоотношений науки и марксистской философии; начиная с этого времени его научные интересы переключились с генетики на «глобальные проблемы», то есть на призывы к сотрудничеству всех держав с развитой индустрией в сферах экологии, энергетики, биомедицинской этики, развития стран третьего мира и технологических оценок. В 1986 г. Фролов стал редактором главного журнала Коммунистической партии «Коммунист». Его взгляды на биомедицинскую этику я рассматриваю далее. При переключении с философии биологии на глобальные проблемы Фролову, однако, не удалось избежать определенной полемики. Исследование таких проблем рассматривалось идеологами старой формации как неортодоксальное; догматики критиковали положение, принимаемое большинством «глобалистов», подобных Фролову, о том, что проблемы развитых промышленных стран выходят за пределы классовой и экономической вражды до такой степени, что даже такие традиционные соперники, как США и СССР, должны работать над ними вместе. Однако в середине 70-х годов, в лучший период разрядки между двумя странами, И. Т. Фролову и его коллегам удалось отстоять это свое положение как вполне обоснованное. На базе расширяющихся научных и технических обменов между США и СССР совместно работали десятки исследовательских групп над такими проблемами, как загрязнение окружающей среды, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, транспорт, использование солнечной энергии и исследование космоса[19]. С ослаблением разрядки в конце 70-х годов возобладала точка зрения ортодоксальных идеологов, согласно которой идеологические противоречия никогда не теряют своего ведущего значения.
Советские философы науки в 70-80-х годах все более четко разделялись на две школы мысли, получившие в СССР названия «эпистемологистов» и «онтологистов». Хотя эти философские термины и придают спору академическое звучание, но в основном различия объяснялись политическими причинами. Эпистемологистами считались те философы, которые выступали за различение философских и естественнонаучных проблем; они критиковали предыдущее поколение советских философов за непонимание такого различения. С точки зрения эпистемологистов, настоящими предметами философии науки являются такие вопросы, как мышление, логика, методология и теория познания. Они считали, что философы науки не должны обсуждать такие вопросы, как совместимость различных теорий возникновения Вселенной с марксизмом, полагая, что, принимая те или иные позиции по таким вопросам, философ не только начинает оценивать научные теории, что, по их мнению, было делом естествоиспытателей, но и рискует нанести ущерб марксизму, связывая его с теориями, ложность которых позднее может быть доказана естествоиспытателями. Онтологисты, с другой стороны, продолжали защищать мнение о том, что диалектический материализм является «наиболее общей наукой о природе и обществе» и что поэтому диалектические законы действуют в неорганической и органической материи, изучаемой химиками, физиками и биологами. Онтологистам было не только нужно, но и необходимо найти доказательства ценности диалектического материализма в результатах исследований и в теориях естествоиспытателей. Онтологисты обычно признавали, что вопросы, изучаемые эпистемологистами, являются вполне законными для марксистских философов, но их действительный интерес лежит в диалектике природы.
Этот диспут является сейчас основным в советской философии. Он обсуждается подробно в последующих главах. Хотя этот спор рассматривается некоторыми ведущими философами-исследователями как интеллектуально не интересный, в действительности он является решающим с политической точки зрения. Взаимоотношение естествознания и философии остается одним из важнейших вопросов советской интеллектуальной жизни за более чем пятидесятилетний период. Исход спора все еще не ясен. В середине 80-х годов лидирующая позиция Института философии, казалось бы, повлияла на перемещение исследовательского внимания с вопросов естествознания на вопросы обществоведения. Г.Л. Смирнов, занимавший пост директора института в 1984-1985 гг., был экспертом в вопросах политической философии, но не философом науки. В конце 1985 г. глава партии М.С. Горбачев выдвинул Г.Л. Смирнова на новый пост — советника Центрального Комитета. Сменил Смирнова на посту директора Института философии Н.И. Лапин, специалист по К. Марксу и системному анализу. Эти сдвиги от традиционной советской философии науки в сторону политических и социальных проблем показали, что значение спора между онтологистами и эпистемологистами может уменьшиться. Однако привычка обсуждений диалектики природы настолько развита в Советском Союзе, что коренных перемен в ближайшее время ожидать не приходится. Последние советские публикации свидетельствуют о том, что дебаты между онтологистамн и эпистемологистами продолжаются.
1. См. главу 4, сноску 1 на с. 115.
2. См. мою книгу: The Soviet Academy of Science and the Communist Party, 1927-1932. Princeton, 1967, особенно главы 4 и 5.
3. См.: Фролов И.Т. Генетика и диалектика. М., 1968, особенно с. 10-16 и 61-68. См. также противоположное мнение: Paul D.B. Marxism, Darwinism and the Theory of Two Sciences//Marxist Perspectives (Spring, 1979). P. 116-143.
4. Егоршин В. Естествознание и классовая борьба//Под знаменем марксизма. 1926. № 6. С. 135.
5. Цит. по кн.: Фролов И.Т. Генетика и диалектика. С. 68.
6. Там же. С. 66. (Приведенные слова принадлежат не О.Ю. Шмидту, а взяты из резолюции II Всесоюзной конференции марксистско-ленинских научных учреждений, принятой по докладу О.Ю. Шмидта. — Прим. пер.).
7. Bauer R.A., Inkeles A., Kluckhohn C. How the Soviet System Works: Cultural, Psychological and Social Themes. Cambridge, 1956. P. 114, 116-117, 118-119.
8. Bukharin N. Historical Materialism. Ann Arbor, 1969. P. 9-83, 104-129, особенно «Введение» и главы 1, 2, 3 и 5.
9. Литература о происхождении «холодной войны» огромна. Упомянем лишь обзорные работы: Alperovitz, Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam: the Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power. N. Y., 1965. Обсуждение этого же вопроса с несколько другой позиции можно найти в работах: Schlesinger A.J. Origins of the Cold War//Foreign Affairs (October, 1967). P. 25-52; Morgenthau H.J. Arguing About the Cold War//Encounter (May, 1967). P. 37-41.
10. Kuhn T. Ttie Copernican Revolution: Planetary astronomy in the Development of Western Thought, Cambridge, 1957.
11. См. особенно «Лысенко и Жданов» в первом (1972 г.) издании этой книги: Graham L.R. Science and Philosophy in the Soviet Union, N. Y., 1972. P. 443-450; Hahn W. Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation, 1946-1953, Ithaca, N. Y., 1982.
12. Примером сотрудничества философов и естествоиспытателей в защиту науки может служить второй номер основанного в 1947 г. журнала «Вопросы философии» в условиях, когда идеологическая обстановка уже становилась напряженной. В этом номере была статья физика-теоретика М.А. Маркова, энергично защищающая квантовую механику, и статья биолога И.И. Шмальгаузена, явно направленная против Лысенко. После смерти Жданова редколлегия журнала критиковалась в «Правде» за публикацию этих статей, а редактор был смещён.
13. Максимов, физик по образованию, может здесь быть исключением, так как он рассматривался некоторыми исследователями как философ науки. Давид Жоравски охарактеризовал его как «физика среди философов и философа среди физиков». Joravsky D. Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932. N. Y., 1961. Р. 185.
14. Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. М., 1980; Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. М., 1974; Марков М.А. О природе материи. М., 1976; Барашенков В.С. Проблемы субатомного пространства и времени. М., 1978. С. 351, 421-423.
15. См.: Омельяновский М.Э. Диалектика в современной физике. М., 1973; Чудинов Э.М. Теория познания и современная физика. М., 1974; Нить Ариадны: философские ориентиры науки. М., 1979; Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. Киев, 1974; Мамчур Е.А. Проблема выбора теорий. М., 1975; Степин В.С. Становление научной теории. М., 1976; Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. М., 1978; Ахундов М.Д. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени. М., 1974; Готт В.С., Недзельский В.Ф. Диалектика прерывности и непрерывности в физической науке. М., 1975; Панченко А.И. Континуум и физика. М., 1975; Физическая наука и философия. М., 1973; Теория познания и современная физика. М., 1972; Физическая теория (философско-методологический анализ). М., 1980.
16. Ахундов М.Д., Молчанов Ю.Б., Степанов Н.И. Философские вопросы физики//Философия, естествознание, современность (Итоги и перспективы исследований. 1970-1980 гг.). М., 1981. С. 239.
17. Обзоры по советской философии науки и библиографию этого периода см.: Философия, естествознание, современность. М., 1981; Философские вопросы естествознания. Обзор работ советских ученых. М., 1976; Философские вопросы современного естествознания: указатель литературы. 1971-1979. М., 1981.
18. Украинцев Б.С., Платонов Г.В. Проблема отражения в свете современной науки. М., 1964. См. также: Украинцев Б.С. Об основных направлениях исследований в Институте философии АН СССР//Вопросы философии. 1976. № 1. С. 94-104. Дополнительный материал по неолысенкоизму Платонова см. на с. 153 и далее.
19. Graham L.R. How Valuable Are Scientific Exchanges with the Soviet Union?//Science, 1978. October 27. P. 383 - 390, и источники, там цитируемые, а также: Lubrano L.L. Caught in the Crossfire//The Sciences. 1981. P. 12-14.
Глава II. Диалектический материализм в Советском Союзе: его развитие в качестве философии науки
Современный советский диалектический материализм как философия науки представляет собой попытку объяснить мир, основанную на следующих принципах: все существующее реально, эта реальность состоит из материи-энергии, а эта последняя развивается в соответствии со всеобщими правилами или законами. Исходя из этого, всякий философ-профессионал может сказать, что диалектический материализм соединяет в себе эпистемологию реализма, онтологию, основанную на существовании материи-энергии, и философию развития, сформулированную в форме диалектических законов.
Концепция диалектического материализма соединяет в себе черты как абсолютного, так и относительного; как аристотелевской приверженности чему-то неизменному, непреложному и независимому, так и гераклитовской веры в существование постоянных изменений. Для сторонников и защитников диалектического материализма соединение названных противоположных черт или тенденций является свидетельством гибкости, силы и истинности этой концепции, а для противников — свидетельством его двусмысленности, туманности и ошибочности.
Обычно считается, что диалектический материализм — это исключительно советское явление, весьма далекое от традиций западной философии. Действительно, сам термин «диалектический материализм» не встречается ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у их западноевропейских последователей. Однако корни концепции диалектического материализма уходят глубоко в историю человеческой мысли (по крайней мере ко временам милетских философов) и могут быть прослежены на всем ее дальнейшем протяжении. К сожалению, здесь представляется невозможным подробно осветить историю происхождения этой концепции, анализируя ее истоки, — это тема отдельной большой книги; тем не менее хотелось бы отметить, что /29/ при дальнейшем чтении читатель может обнаружить много общего между концепцией диалектического материализма и концепциями, возникавшими в ходе развития европейской философии.
Сам термин «диалектический материализм» впервые был использован в 1891 г. Г.В. Плехановым, которого часто называют «отцом русского марксизма»[1]. Маркс и Энгельс в своих работах пользовались понятиями «современный материализм» или «новый материализм», с тем, чтобы отличить собственные философские взгляды от классического материализма Демокрита и материализма представителей французского Просвещения (Ламетри и Гольбаха). Правда, Энгельс во «Введении» к своей работе «Анти-Дюринг» писал о диалектической природе современного материализма[2]. Ленин в своих работах использовал фразу Плеханова «диалектический материализм».
Среди основных работ Маркса, Энгельса и Ленина, посвященных философским и социальным проблемам науки, следует назвать следующие: «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса, впервые опубликованный в 1877 г.; его же «Диалектика природы», написанная в 1873-1883 гг. и опубликованная в 1925 г.; его же «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», опубликованная отдельной брошюрой в 1888 г.; докторская диссертация К. Маркса, впервые опубликованная в 1902 г.; часть переписки Маркса и Энгельса; отдельные главы из «Капитала» Маркса; «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленина (1908 г.), его же «Философские тетради», впервые опубликованные в 1925-1929 гг., а также отдельные его письма и выступления. После Маркса осталось также множество неопубликованных при его жизни рукописей по проблемам науки, техники и математики, большинство из которых находится в Москве в Институте марксизма-ленинизма. Некоторые из этих работ были опубликованы в конце 60-х годов[3]. Взятые все вместе, эти произведения классиков марксизма и составляют основы диалектического материализма в том виде, в котором он обычно обсуждается на страницах публикаций в СССР. Среди этих публикаций, представляющих собой довольно обширный массив литературы, вышедшей в течение нескольких десятилетий и написанной множеством авторов с различными целями, можно обнаружить непохожие (а иногда и противоречащие друг другу) точки зрения по весьма важным вопросам. Другими словами, время публикаций той или иной работы, а также тот общественный контекст, в условиях которого она была опубликована, играют весьма важную роль для понимания эволюции советской марксистской мысли применительно к рассмотрению проблем природы науки.
Несмотря на то обстоятельство, что основные интересы Маркса и Энгельса всегда лежали в области экономики, политики и истории, оба они на удивление значительную часть своего времени уделяли вопросам развития научной теории, опубликовали совместные работы по этим вопросам. Энгельс так пишет об этом во «Введении» к «Анти-Дюрингу»:
«Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадически. Поэтому, когда я, покинув коммерческое дело и переселившись в Лондон, приобрел необходимый для этого досуг, то, насколько это для меня было возможно, подверг себя в области математики и естествознания процессу полного «линяния», как выражается Либих, и в течение восьми лет затратил на это большую часть своего времени»[4].
Энгельс сыграл более важную роль в разработке марксистской концепции философии природы, нежели сам Маркс. По мнению Энгельса, необходимость изучения естественных наук наряду с науками общественными вытекает из того обстоятельства, что человек рассматривается марксизмом в конечном итоге как часть природы и в качестве таковой должен подчиняться наиболее общим законам ее развития. В задачу философии как раз и входит поиск этих общих законов, основанный на собственно научных знаниях. Энгельс был убежден в том, что знание материалистической, диалектической, основанной на научных представлениях философии способно оказать существенную помощь как ученым-естественникам, так и обществоведам в их исследованиях. Энгельс считал также, что те из естествоиспытателей, кто настаивал на том, что в своей работе они не нуждаются в знании философии, просто-напросто заблуждаются; по его мнению, гораздо лучше для этих ученых было бы участвовать в процессе сознательного формирования философии науки, нежели делать вид, что они могут обходиться вообще без нее:
«Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли они, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или же они желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями»[5].
Интерес Энгельса к вопросам философии науки настолько очевидно превосходил интерес Маркса к этим проблемам, что многие исследователи марксизма утверждают сегодня, что именно Энгельс, а не Маркс и является подлинным создателем концепции диалектического материализма; более того, по их мнению, введя естествознание в систему марксизма, Энгельс тем самым извратил марксизм. Среди этих авторов распространена также точка зрения, подчеркивающая, что молодой Маркс как теоретик интересовался не вопросами создания некой универсальной теории, а проблемами человека и его страданий, и в качестве главного достижения Маркса рассматривается его учение о роли пролетариата, создание концепции отчужденного труда. В качестве примеров подобных взглядов можно привести высказывания Дж. Лихтхейма о том, что диалектический материализм «как концепция не представлен в оригинальной версии марксизма и на самом деле чужд ей, поскольку для раннего Маркса в качестве единственной природы, имеющей отношение к пониманию смысла истории, выступает человеческая природа»[6], и З.А. Джордана, утверждающего, что диалектический материализм — «это концепция, по существу своему чуждая философии Маркса»[7].
Исследователи, подобные Лихтхейму и Джордану, правы, когда подчеркивают гуманистический пафос работ молодого Маркса и их антропологическую направленность, но они, однако, заблуждаются, предполагая, что Маркс, будучи в молодости идеалистом, интересовался только природой человека, а не физической природой. Уже в докторской диссертации Маркса, написанной в 1839-1841 гг., то есть за несколько лет до знаменитых «Экономических и философских рукописей», отчетливо прослеживается мысль о том, что понимание человека должно начинаться с понимания природы. Озаглавленная «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура», эта диссертация посвящена анализу физики древних, представленной в ней концепции субстанции и времени. Обращение Маркса к проблемам физической природы с целью понимания философии в целом вполне соответствовало контексту состояния европейской мысли того времени и было скорее достоинством, а не недостатком его собственного подхода. И те из исследователей, кто пытается в последнее время лишить марксизм какого-либо интереса к проблемам физической природы, не только тем самым пытаются представить марксизм в неверном свете, но и лишают его одного из главных интеллектуальных завоеваний. Для того чтобы отличить материализм Маркса от вульгарного материализма Фогта или Молешотта, вовсе не обязательно представлять его интересы ограниченными вопросами этики и экономики. Достаточно вспомнить, что одним из пунктов диссертации Маркса было стремление показать, что хотя Эпикур, подобно Демокриту, и был убежден в существовании атомов и пустоты, но он все же не был строгим детерминистом. Двадцатитрехлетний Маркс рассматривал атом как некое абстрактное понятие или концепцию, содержащую в себе гегелевское противоречие между сущностью и существованием[8]. Позднее Маркс откажется от философского идеализма, лежащего в основе этой формулировки, однако у нас нет свидетельств в пользу того, что он отказался от интереса к физической природе как таковой.
Изучая философию в студенческие годы, Маркс испытывал на себе влияние почти всех великих философских систем, созданных к тому времени, а потому рассматривал необходимость выдвижения неких эпистемологических и онтологических предположений как нечто само собой разумеющееся. В последние годы своей жизни он стремился отойти от подобной метафизики, что само по себе является достаточно знаменательным фактом, поскольку материализм (как и всякая философская система, включая прагматизм) в конечном счете основан на метафизических допущениях. Вместе с тем мы не располагаем ни одним сколько-нибудь убедительным свидетельством возражений Маркса против усилий Энгельса по непосредственному включению природы в их интеллектуальную систему. Известно, что Энгельс читал Марксу всю рукопись книги «Анти-Дюринг», которая не встретила у Маркса никаких возражений; более того, Маркс включил в эту книгу собственную главу (анализирующую, однако, не вопросы натурфилософии). Около 1873 г., то есть за десять лет до кончины Маркса, Энгельс начинает работу над книгой, получившей впоследствии название «Диалектика природы»; их переписка того времени свидетельствует о том, что и зрелый Маркс разделял интерес Энгельса к «современному материализму», уступая ему, однако, в вопросах, касающихся собственно естествознания. Еще одним свидетельством, демонстрирующим согласие Маркса с усилиями Энгельса в области философии науки, является то место в «Капитале», где Маркс утверждает возможность приложения диалектического закона перехода количества в качество не только к экономике, но также и к теории химии[9].
Хотелось бы отметить, что речь здесь идет не о том, чтобы продемонстрировать полное совпадение взглядов Маркса и Энгельса (именно это утверждали в последние годы как советские исследователи, стремящиеся сохранить единство теории диалектического материализма, так и авторы, выступающие с антисоветских позиций и стремящиеся обвинить Маркса в сходстве его взглядов со взглядами Энгельса); скорее речь может идти о том, чтобы подчеркнуть различие во взглядах этих двух ученых, считающих себя современными материалистами, подчеркнуть то обстоятельство, что сближение их взглядов является достаточно грубой натяжкой. Одно дело — утверждать, что Маркс никогда не посвящал себя поискам действия законов диалектики в природе в той степени, как это делал Энгельс, и совсем другое — утверждать, что подобные поиски противоречили взглядам Маркса, особенно если вспомнить о многочисленных случаях поддержки им усилий Энгельса в этом направлении. В упоминавшейся уже работе З.А. Джордан называет Маркса «натуралистом», а не «материалистом», имея в виду то, что Маркс стремился избежать метафизической приверженности материи как единственному источнику познания, однако признает, что «предрасположенность к материальному, разделяемая Марксом, могла включать в себя признание принципа существования материи как единственной реальности, отрицание возможности существования разума независимо от материи, признание законов природы и других «положений, традиционно связываемых с концепцией материализма»[10].
Джордан подчеркивает, что Маркс не рассматривает процесс познания как просто пассивное отражение человеческим мозгом окружающей его материи; он скорее рассматривает знание как результат сложного взаимодействия чёловека и окружающего его мира. Такая эпистемология не отрицает материализма, поскольку человек рассматривается как часть материального мира, но в то же время и не связана только с материализмом. Другими словами, мысль Маркса допускает замену материализма натурализмом, точно так же как «Философские тетради» Ленина (но не его «Материализм и эмпириокритицизм») допускают существование нескольких концепций эпистемологии. Однако, несмотря на то, что мысли Маркса допускают достаточно широкое их истолкование, он никогда не выступал против термина «современный материализм», часто использовал его в своих работах, поддерживал усилия Энгельса в направлении его дальнейшей разработки. Исходя из этого, и я в этом убежден, взгляды Маркса могут быть более точно охарактеризованы как материализм, нежели как натурализм.
Попытки, предпринимаемые в последнее время многими исследователями за пределами СССР и направленные на то, чтобы исключить из марксизма интерес к физической природе, с одной стороны, могут быть объяснены чувством отвращения, связанным с наличием идеологических ограничений в советской науке, а с другой — общей тенденцией, характерной для философской мысли стран Западной Европы и Северной Америки. Характерное для Советского Союза вмешательство идеологии в сферу науки, иллюстрацией чего, по мнению большинства людей, явился эпизод, связанный с Лысенко, привело к дискредитации претензий марксистской философии, высказываемых по поводу естествознания. Между тем в странах Западной Европы и Северной Америки различного рода метафизические и онтологические исследования вышли из моды; подход диалектического материализма к изучению природы зачастую рассматривался как отголосок архаичного натурфилософского подхода, как попытка вторгнуться в те сферы, которые являются исключительной прерогативой конкретных наук.
Те из исследователей, кто по-прежнему остается сторонником марксизма, часто пытаются развести его с натурфилософией путем различения того, что по проблемам науки писал Энгельс, от того, что по аналогичным вопросам писал Маркс; как мы уже видели выше, эта операция вполне выполнима технически, но, как правило, ее результатом является некорректное ограничение широты интересов, характерной для Маркса. С другой стороны, те из исследователей, кто выступал с антимарксистских позиций, использовали факты вторжения идеологии в советскую науку в качестве важного доказательства в пользу представлений о марксизме как об извращенном подходе к проблемам науки — подходе, являющемся, по существу, антирациональным и даже антизападным; при этом полностью игнорировалось то обстоятельство, что марксизм имеет глубокие корни, уходящие в историю западной мысли, а также то, что события, связанные с именем Лысенко, не имеют практически ничего общего с марксизмом как концепцией философии науки.
Философы в Советском Союзе не стремятся лишить Маркса его интереса к миру реальности в целом, включая физическую природу и природу человека; другими словами, они не следуют тенденции, существующей в других странах и направленной на отказ от попыток создать современную систему представлений об окружающей человека реальности, основанную на изучении самой природы. Они признают, что с интеллектуальной точки зрения наиболее привлекательной стороной марксизма является выдвигаемое им объяснение органического единства мира; согласно марксизму, человек и природа едины. Всякая попытка дать объяснение природы неизбежно влечет за собой обращение к человеку и наоборот. Однако советские философы зачастую попусту растрачивают этот интеллектуальный потенциал марксизма, поддерживая догматическую философию, поднимая ее до уровня политической идеологии, используемой, в свою очередь, для оправдания существования государственной бюрократии. Вместо того чтобы оставаться на независимых позициях, философы, как правило, оказываются в услужении у деспотичного правительства. Они не в состоянии до конца осознать тот интеллектуальный потенциал, который заключен в призыве марксизма к подлинно научному подходу к изучаемым явлениям. В результате они оказываются на позициях, не связывающих диалектический материализм с теми новыми концепциями, которые возникают в западной философии и с которыми он потенциально мог бы конкурировать.
1. Считается, что термин «диалектический материализм» впервые появляется в работе Плеханова «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» (Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. М., 1956. Т. 1. С. 443). В этой же работе Плеханов повторил эту фразу «современный, диалектический, материализм», но уже без запятой между словами «диалектический» и «материализм» (с. 445).
2. «В обоих случаях современный материализм является, по существу, диалектическим...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 24-25).
3. См.: Маркс К. Математические рукописи. М., 1968, а также специальный выпуск журнала «Вопросы истории естествознания и техники» (вып. 25, 1968 г.), приуроченный к 150-летию со дня рождения Маркса.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 10-11.
5. Там же. С. 525.
6. Lichteim G. Marxism: An Historical and Critical Study N. Y., 1961. Р. 245.
7. Jordan Z.A. The Evolution of Dialectical Materialism: A. Philosophical and Sociological Analysis. N. Y., 1967. Р. 15.
8. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 40. С. 156-197.
9. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 318.
10. Jordan Z.А. Ор. сit. Р. 26.
Энгельс и Ленин о науке
Несмотря на то обстоятельство, что Маркс и Энгельс интересовались проблемами науки с самого начала их совместной работы, справедливым является утверждение, что всерьез Энгельс обращается к этим проблемам только после того, как была полностью разработана марксистская философия истории. Как известно, политические и экономические взгляды Маркса и Энгельса вполне сформировались к 1848 г., однако Энгельс обратился к систематическому исследованию науки, а Маркс начал изучение математики лишь некоторое время спустя. Энгельс писал:
«Само собой разумеется, что при этом моем подытоживании достижений математики и естественных наук дело шло о том, чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая в общем не вызывала у меня никаких сомнений, а именно, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений прокладывают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий...»[1].
Не совсем ясно, что, собственно, Энгельс понимает под понятием «закон» (Gesetz). В своих работах он не предпринимает попыток философского анализа различных значений, которые имеют такие понятия, как «закон природы», «природный закон», «каузальный закон»; не пишет он также и о том, что, собственно, он понимает под «диалектическим законом». Законы диалектики, сформулированные Энгельсом, отличаются от законов физики, которые допускают их эмпирическую проверку (разумеется, в пределах точности измерения). Так, Энгельс видит действие диалектического закона перехода количества в качество на примере с нагреванием воды: при нагревании происходит количественное увеличение температуры воды (при нормальном давлении), а когда температура достигает 100°С, происходит качественное изменение ее состояния — переход из жидкого в газообразное состояние. Этот опыт может быть проверен путем многократного нагревания различных количеств воды до 100° С. Однако Энгельс убежден (и Маркс в «Капитале» соглашается с ним) в том, что «не всякая произвольная сумма денег или стоимости может быть превращена в капитал, что, напротив, предпосылкой этого превращения является определенный минимум денег или меновых стоимостeй в руках отдельного владельца денег или товаров»[2]. Хотя оба эти примера иллюстрируют действие одного и того же закона, все же переход количества в качество в первом из них до некоторой степени отличается от второго. Когда речь идет об экономике, действие того или иного закона невозможно проверить во всех случаях его проявления; в случае же, когда речь идет о воде, мы располагаем не только описанием того, какое изменение происходит, но также и информацией о том, когда или при каких условиях оно имеет место.
Энгельс убежден, что не существует ничего, кроме материи, а вся материя, в свою очередь, подчиняется законам диалектики. Однако поскольку в любое данное время не существует доказательств истинности этого утверждения, то и законы, существование которых предполагает Энгельс, отличаются от обычных законов, действующих в науке. Следует отметить, что даже в тех случаях, когда мы имеем дело с действием «обычных» законов естествознания, устанавливаемые ими отношения, принимающие универсальный характер, не могут рассматриваться как абсолютно достоверные. Так, например, нельзя утверждать, что невозможен случай, когда данный объем воды, нагретый до 100°С, не закипит. Вместе с тем, когда происходит нарушение действия такого рода «обычных» законов, становится очевидным, что мы имеем дело с чем-то из ряда вон выходящим.
Определение понятия «закон» — это достаточно сложный и противоречивый вопрос в рамках философии науки, а потому я не ставил перед собой задачу дать такое определение; отмечу лишь, что концепция диалектического закона, выдвинутая Энгельсом, отличается достаточной широтой и охватывает различные виды объяснений. В самом деле, рассуждая о диалектических отношениях, он говорит о них не только как о «законах», но и также как о «тенденциях», «формах движения», «регулярностях» и «принципах».
Среди основных работ Энгельса, посвященных проблемам философии науки, прежде всего следует назвать «Анти-Дюринг» и «Диалектику природы». Поскольку только первая из них представляет собой законченное произведение и была опубликована почти на 50 лет раньше второй, то нет ничего удивительного в том, что именно «Анти-Дюринг» оказал наибольшее влияние на формирование марксистского взгляда на природу. В этой работе Энгельс выступает с критикой философской системы, выдвинутой Е. Дюрингом в его «Курсе философии»[3]. Дюринг был в то время радикально настроенным профессором философии и политических наук Берлинского университета, выступал с критикой капитализма, и его взгляды начинали оказывать влияние на немецких социал-демократов. Энгельс был не согласен с претензией Дюринга на обладание «окончательной и всеобщей истиной», основанной на том, что Дюринг называл «знанием всех принципов познания и воли». Возражения Энгельса были направлены не против конечной цели Дюринга — создания некой всеобщей, универсальной философской системы, а скорее против того метода, с помощью которого он пытается ее построить, и его заявлений по поводу законченности этой системы. По мнению Энгельса, принципы Дюринга явились результатом идеалистической философии: «...речь идет у него о принципах, выведенных из мышления, а не из внешнего мира, о формальных принципах, которые должны применяться к природе и человечеству, с которыми должны, следовательно, сообразоваться природа и человек»[4]. В отличие от Дюринга Энгельс убежден в том, что подлинно материалистическая философия должна основываться на принципах, выведенных из самой материи, а не из мысли. Принципы материализма, пишет Энгельс, «не исходный пункт исследования, а его заключительный результат; эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа и человечество сообразуются с принципами, а, наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственно материалистическое воззрение на предмет, а противоположный взгляд г-на Дюринга есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей, из предшествующих миру и существующих где-то от века схем, теней или категорий, точь-в-точь как это делает ... некий Гегель»[5].
Комментируя работу Энгельса и его желание выступить против философского идеализма Дюринга, некоторые исследователи высказывали мнение, что именно это желание подтолкнуло Энгельса в его первой философской работе в направлении позитивистской позиции, утверждающей, что всякое знание должно быть основано на данных, проверяемых опытом[6]. Эти же исследователи (ссылаясь на более позднюю работу Энгельса — «Диалектику природы») пишут о наличии двух противоречивых тенденций в истории марксистской мысли: с одной стороны, тенденции позитивистского материализма, а с другой — метафизической диалектики. В теории марксизма действительно существует некая напряженность между материализмом и диалектикой (о чем речь пойдет несколько позже), однако мне представляется, что названные авторы преувеличивают степень различий между положениями, содержащимися в «Анти-Дюринге» и «Диалектике природы», считая их соответственно позитивистскими и метафизическими. Справедливыми являются утверждения о том, что в «Анти-Дюринге» Энгельс критикует Дюринга в основном за отсутствие материализма в его взглядах, а в «Диалектике природы» обвиняет ученых (Фогта, Бюхнера и Молешотта) в отсутствии диалектики, делая это, правда, мимоходом. Однако в обеих работах Энгельс пытается сбалансировать, с одной стороны, стремление к построению знания на основе эмпирических данных науки, а с другой — унаследованную от Гегеля диалектику. В «Анти-Дюринге» — работе, которую принято считать позитивистской, — Энгельс разворачивает известную дискуссию по поводу диалектики в природе, а в «Диалектике природы» — работе, которую считают глубоко гегелевской по духу, — он стойко защищает концепцию материальности Вселенной[7].
Если на основе знакомства с работами Энгельса по философии науки попытаться сделать заключение о его собственно научных познаниях, то можно будет сказать о том, что в области науки Энгельс был дилетантом, но дилетантом в лучшем смысле этого слова. Знания Энгельса в области естественных наук не выходили за рамки гимназического курса, однако в течение своей жизни Энгельс периодически обращался к изучению наук, что позволяет говорить о том, что, не будучи специалистом, он все же обладал довольно обширными познаниями в области естествознания; так, например, он мог написать довольно большую главу по проблемам электролиза химических растворов, включающую расчеты энергетических трансформаций, сопровождающих эти процессы[8]. Он был знаком с исследованиями Дарвина, Геккеля, Либиха, Лайелля, Гельмгольца и многих других выдающихся ученых XIX столетия. Рассматривая работы Энгельса с позиций сегодняшнего дня, следует отметить, что прежде всего обращают на себя внимание не его ошибки, а та безграничная энергия и смелость, с которыми он приступает к изучению практически любого предмета, и высокий уровень понимания этого предмета, которого Энгельс обычно при этом достигает. Даже и в том случае, если кто-то и не захочет согласиться с высказанной Дж. Холдейном оценкой Энгельса, «как одного из самых широко образованных людей своего времени», все же нельзя не признать, что широта познаний Энгельса производит большое впечатление[9]. Разумеется, в работах Энгельса по философии науки можно обнаружить ошибочные и наивные суждения по поводу той или иной конкретной дисциплины, однако они, думается, менее важны, нежели пронизывающее эти работы убеждение их автора в том, что новое понимание проблемы человека должно базироваться на знании всего комплекса наук, а не какой-то одной науки или даже отдельной области естествознания.
В самом деле, историки науки, думается, запоздали с переоценкой значения работ Энгельса. Так называемые «ошибки» Энгельса (в частности, странная интерпретация действия электричества, проблем космогонии, описание строения Земли и т. д.) на самом деле являлись, как правило, «ошибками» естествознания того времени. Будучи материалистом, Энгельс был не свободен от свойственной многим материалистам тенденции к упрощению действительности, однако он был далек и от того уровня упрощений, который был характерен для таких популяризаторов материализма, как Бюхнер и Молешотт. Другими словами, те из современных авторов, кто пытается приуменьшить значение работ Энгельса по проблемам науки, как правило, забывают о том, что они были написаны в контексте материализма XIX в. На фоне материализма того времени Энгельс выступает как мыслитель, отдающий себе отчет в сложности окружающего нас природного мира и опасностях, связанных с редукционизмом. Так, например, Энгельс был убежден в том, что жизнь возникла из неорганической материи, однако он высмеивал упрощенный подход к этой проблеме, который демонстрировали сторонники самозарождения жизни, теории, сокрушительный удар по которой нанес в 1860 г. Л. Пастер. С похвалой в адрес Энгельса за его подход к проблеме происхождения жизни отзываются и современные биологи[10].
Работы Ленина по проблемам науки во многом схожи с работами Энгельса и не только в смысле их философской направленности, но также и в некоторых других второстепенных аспектах: так же как и Энгельс, он обратился к науке после того, как сформировались его политические и экономические взгляды; причиной его обращения к философии науки явились соображения полемики; так же как и Энгельс, он является автором двух больших работ, посвященных вопросам философии науки; более поздний период развития его философских представлений известен меньше, нежели его более ранние взгляды.
К конкретным взглядам Ленина по проблемам философии науки, нашедшим свое отражение в «Материализме и эмпириокритицизме» и «Философских тетрадях», мы обратимся в следующей части этой главы, а пока необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что за пределами Советского Союза философские представления Ленина обсуждаются в основном на материале первой из упомянутых выше работ. Вторая же работа — «Философские тетради», представляющая собой собрание конспектов, фрагментов и заметок на полях, была опубликована лишь в конце 20-х годов, а ее английский перевод появился только в 1961 г. Таким образом, «Философские тетради» оставались какое-то время вне поля зрения англо-американских исследователей ленинизма. Говоря о значении «Философских тетрадей» в ленинском философском наследии, Г. Селзам и Г. Мартел пишут:
«Основной целью этой работы была попытка реконструкции диалектики Гегеля на материалистической основе... Хотя Ленин всегда выступал против идеализма, он возражал также против безапелляционного отклонения этого типа философствования. В противоположность вульгарному материализму он настаивал на том, что истоки философского идеализма кроются в самом процессе познания. Он писал, что «умный идеализм ближе к умному материализму, а не к глупому материализму» (ПСС. Т. 29. С. 248). Таким образом, «Философские тетради» — это необходимое дополнение к другим философским /38/ работам Ленина, поскольку содержат призыв к более углубленному развитию диалектического материализма»[11].
Интерпретация «Философских тетрадей» и определение их места в ленинском философском наследии представляют собой особую и весьма сложную проблему, стоящую перед историками. Следует помнить о том, что материалы, вошедшие в состав «Философских тетрадей», создавались Лениным для себя — он записывал свои мысли по мере того, как они возникали, не переписывая их после дальнейшего продумывания. Очевидно, поэтому эта работа требует более осторожного и тщательного подхода к ее анализу, нежели опубликованная книга «Материализм и эмпириокритицизм». В то же время попытка ограничиться при анализе философских взглядов Ленина только этой опубликованной работой будет явной недооценкой всего богатства его философской мысли. В молодости Ленин отдавал себе отчет в недостаточности своего философского образования, и «Философские тетради» являются в этом смысле впечатляющим примером, демонстрирующим стремление Ленина восполнить этот недостаток:
После их публикации, «Философские тетради» начинают оказывать возрастающее влияние на разработку концепции диалектического материализма советскими философами, хотя по-прежнему оцениваются как второстепенная по сравнению с «Материализмом и эмпириокритицизмом» работа. Как мы увидим дальше, влияние этой работы распространялось в основном на проблемы эпистемологии. После того как «Философские тетради» были впервые опубликованы в Советском Союзе, они оказались в центре дискуссии, развернувшейся в то время между сторонниками диалектики и механицистами. В последующие годы эта работа рассматривалась как предмет изучения в основном аспирантами, занимающимися проблемами диалектического материализма; это объяснялось отчасти ее фрагментарным и несистематизированным характером, а частью, разумеется, тем, что в ней Ленин представил альтернативные концепции теории познания.
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 11.
2. Там же. С. 128; Т. 23. С. 317.
3. During E. Cursus der Philosophic als streng wissenschaftiicher Weltans-chaung und Lebensgestaltung. Leipzig, 1875.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 1. 20. С. 33.
5. Там же. С. 34.
6. См., напр., Joravsky D. Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932. N. Y. 1966. P. 9.
7. Его оппозиция грубому материализму в «Анти-Дюринге» была бы более ясной, если бы вместе с этой книгой Энгельс опубликовал свое предисловие, написанное им в мае 1878 г. В этом предисловии Энгельс пишет: «Но именно диалектика является для современного естествознания наиболее важной формой мышления, ибо только она представляет аналог и тем самым метод объяснения для происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 367). Позднее Энгельс заменил это предисловие на другое; оригинальное предисловие было опубликовано спустя 47 лет как часть «Диалектики природы» (см. там же. С. 364-372).
8. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 433-485.
9. См.: введение, написанное Холдейном к американскому изданию «Диалектики природы» (N. Y., 1940. Р. XIV).
10. Keosian J. The Origin of Life. N.Y. 1968. P. 11.
11. Selsam H., Mattel H., eds. Reader in Marxist Philosophy. N. Y.: International Publishers, 1963. P. 326-327. Другой американский философ — Пол К. Фейерабенд пишет: «Немногие из современных исследователей (философии науки. — Прим. перев.) обладают такими же знаниями современной науки, какими обладал Ленин относительно науки своего времени, и уж, во всяком случае, ни один из них не может сравниться с этим поразительным автором в уровне философской интуиции» (Feyerdbend. P.K. Dialectical Materialism and Quantum Theory//Slavic Review (September 1966), 25:414).
Материализм и эпистемология[1]
Согласно марксистской философии науки, в том виде, как она представлена в работах Энгельса, не существует ничего, кроме материи и ее возникающих свойств. Эта материя существует в пространстве и времени; как пишет Энгельс: «...основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства»[2]. Как мы увидим в дальнейшем, в Советском Союзе этот взгляд претерпел известные изменения после открытия теории относительности. Материальный мир находится в процессе постоянного движения, и все его части сложным образом взаимосвязаны между собой. Вся материя движется. Более того, Энгельс соглашается с Декартом, считавшим, что количество движения в мире является постоянной величиной (константой). Материя и движение взаимосвязаны между собой, неуничтожимы и никем не сотворены: «Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи»[3].
Важно подчеркнуть, что Энгельс не рассматривает материю в качестве некоего субстрата, в качестве materia prima. Материя для него выступает скорее как некая абстракция, как продукт материального мозга, относящийся к «тотальности вещей» (totality of things). В «Диалектике природы» Энгельс пишет:
«Материя как таковая, это — чистое создание мысли и абстракция. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, когда объединяем их, как телесно существующие, под понятием материи. Материя как таковая, в отличие от определенных, существующих материй, не является, таким образом, чем-то чувственно существующим. Когда естествознание ставит себе целью отыскать единообразную материю как таковую и свести качественные различия к чисто количественным различиям, образуемым сочетаниями тождественных мельчайших частиц, то оно поступает таким же образом, как если бы оно вместо вишен, груш, яблок желало видеть плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. — млекопитающее как таковое...»[4].
Согласно Энгельсу, абстракции, подобные абстракции материи, являются частью мысли и сознания, продуктами, возникающими в результате деятельности материального мозга. Обсуждая проблему материальности мозга, Энгельс пытается отмежеваться от вульгарного материализма Бюхнера, Фогта и Молешотта. Он соглашается с ними в том, что мысль и сознание являются продуктами материального мозга, но не соглашается с выдвигаемой вульгарным материализмом аналогией, что «мысль является таким же продуктом мозга, как желчь — продуктом печени». Напротив того, основываясь на гегелевских количественно-качественных отношениях, Энгельс считает, что каждый уровень жизни обладает собственной качественной спецификой; и в этом смысле редукционистское сравнение мысли с желчью практически ничего не дает. Носителем движения является материя: «Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным путем мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но разве этим исчерпывается сущность мышления?»[5] Как мы увидим дальше, эти взгляды Энгельса на природу происхождения мысли будут иметь влияние на дискуссию по поводу возможности создания машинного интеллекта, развернувшуюся в Советском Союзе.
Согласно Энгельсу, источником человеческого знания является природа, объективный материальный мир. Он пишет о том, что в истории философии существовали две различные школы эпистемологии: материалистическая, утверждающая, что источником познания является объективная действительность, и идеалистическая, приписывающая самому разуму примат в процессе познания. «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»[6]. И далее в этой работе Энгельс говорит о связи эпистемологической проблемы познания с онтологической проблемой существования Бога:
«Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. ...Вопрос... о том, что является первичным: дух или природа, — этот вопрос... вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует от века?»[7]
Многие критики Энгельса указывают на то, что в этом своем рассуждении он допускает «фатальную ошибку», смешивая эпистемологические и онтологические проблемы[8]. По их мнению, нет оснований для того, чтобы однозначно связывать идеализм с верой в Бога, а реализм — с атеизмом. Человек может верить в существование объективной реальности и в то же время воздерживаться от категорических суждений по вопросу о существовании Бога или даже считать, что Бог «существует объективно». Если говорить только о проблемах собственно эпистемологии, то критики Энгельса действительно правы — существует больше чем два взгляда по вопросу о человеческом познании. Описывая процесс познания, того, как человек познает мир, можно подчеркивать роль объективной реальности (реализм), роль материи (материализм), роль разума (идеализм) или даже утверждать невозможность понимания того, как человек познает (агностицизм). Более того, религиозные взгляды того или иного человека вовсе не определяются его взглядами на проблемы эпистемологии. Однако для Энгельса онтологический принцип, согласно которому все существующее — это материя, имеет первостепенное значение. Таким образом, для него утверждение о том, что Бог может рассматриваться одновременно как объективная (с точки зрения эпистемологии), но не материальная (с точки зрения онтологии) реальность, является нонсенсом.
Ключом к марксистской философии науки является не ее позиция в вопросах познания (позиция, обладающая известной гибкостью, чему свидетельством являются не только «Философские тетради» Ленина, но также и последующий период развития марксистской философии, в особенности в таких странах, как Югославия), а ее позиция в вопросе о самой материи. Какие у нас есть основания для того, чтобы полагать единственно существующей только «материю» (которую позднее стали приравнивать к «энергии»)? Такие глубоко думающие русские марксисты, как Плеханов (и, возможно, временами Ленин), склонялись к позиции, рассматривающей принцип единственного существования материи в качестве некоего заведомо упрощенного представления, необходимого для дальнейшего научного анализа. Другие марксисты, включая Энгельса, Ленина как автора «Материализма и эмпириокритицизма», а также многих советских философов, утверждают, что принцип материализма — это факт, фиксируемый научным исследованием. Необходимо отметить, что вопрос обоснования веры в материализм как результата чувствительности субъекта познания до сих пор еще недостаточно глубоко исследован философами в Советском Союзе.
Возвращаясь к интерпретации Энгельсом оппозиции идеализма и материализма, подытожим его выводы, опираясь на работу «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»:
В противоположность идеализму, утверждающему, что реально существует только разум, а материальный мир, бытие и природа существуют только в нашем сознании, марксистская материалистическая философия утверждает, что материя, природа и бытие — это объективная реальность, существующая вне и независимо от нашего сознания, что материя первична, поскольку она является источником наших ощущений и идей, а сознание — вторично, поскольку оно является отражением материи, бытия...[9]
Последние слова из этого положения, говорящие о том, что «разум... является отражением материи», как раз и выражают существо проблемы отношения «разум-материя». Эта проблема всегда была одной из основных в русской марксистской философии. Вслед за Энгельсом, употреблявшим понятие «отражение» (reflection), Плеханов использует понятие «иероглиф», Богданов — «социально-организованный опыт», а Ленин — «теория отражения» (copy-theory). Ленинская теория, к обсуждению которой мы еще обратимся в дальнейшем, стала самой распространенной в советской философии моделью познания. Ее значение будет также рассматриваться в этой книге при обсуждении проблем развития физиологии и психологии.
Взгляд Энгельса на проблему природы материального мира был тесно связан с его точкой зрения по вопросу о достижимости истинного знания о мире. Аналогично тому как он был убежден в существовании материи отдельно от разума, он считал, что достижимо (пусть потенциально) и истинное знание об этой материи. Ученые в своей деятельности стремятся к исчерпывающему объяснению материи, хотя такое абсолютно исчерпывающее объяснение и недостижимо. Другими словами, согласно Энгельсу, человеческое знание асимптотически приближается к истине, хотя никогда и не достигнет ее[10]. Было бы неверно говорить о том, что Энгельс верил в возможность достижения абсолютной истины. Тем не менее Энгельс был убежден в том, что человеческое знание носит кумулятивный характер, а его продвижение к истине идет почти по прямой. Ленин в отличие от него видел в этом движении возможность различного рода временных отклонений, отступлений и т. п., а потому использовал для описания этого процесса образ «спиралевидного движения».
1. В настоящей работе не предполагалось давать исчерпывающий анализ всех дискуссий, имевших место в советской марксистской философии науки, исследовать все многообразие ее интерпретаций, возникших в период между жизнью и деятельностью Маркса и Энгельса и до начала 1930-х годов. Необходимым вместе с тем представлялось обсудить только те стороны и аспекты этой философии, которые, по моему мнению, оказали влияние на интерпретации самой науки. К их числу относятся материализм и эпистемология, законы диалектики, принцип единства теории и практики, а также категории, к обсуждению которых мы обратимся ниже. Энгельс в особенности много писал по этим вопросам. После его смерти центр внимания смещается к работам русских марксистов — Плеханова, Богданова и Ленина, в которых намечаются новые тенденции в философии науки. Затем в период с 1917 по 1931 г. возникли и имели большое влияние по крайней мере четыре «школы» в философии науки. В их число входили «вульгарные материалисты» (представленные такими людьми, как Э. Енчмен и Д. Минин); «механицисты» (И. Степанов, Л.И. Аксельрод); последователи А.М. Деборина — «деборинцы» или, как их называли оппоненты, «меньшевиствующие идеалисты»; и, наконец, официальные «диалектические материалисты», возглавляемые М.Б. Митиным. В 1931 г. Митин стал членом редколлегии философского журнала «Под знаменем марксизма», а затем в течение ряда лет был главным редактором ведущего советского философского журнала «Вопросы философии».
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 51.
3. Там же. С. 59. К этому высказыванию Энгельса мы еще вернемся далее при обсуждении теории химических связей. Отметим также, что точка зрения Энгельса во многом похожа на концепцию движения Аристотеля.
4. Там же. С. 570.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 563
6. Там же. Т. 21. С. 282.
7. Там же. С. 283.
8. Wetter Gustav A. Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union. N. Y.: Praeger, 1958. P. 281.
9. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 282-283.
10. См. там же. Т. 20. С. 549.
Пересмотр русскими марксистами взглядов на материализм и эпистемологию
Русские марксисты проявляли больший интерес к проблемам эпистемологии и философии природы, нежели их западноевропейские коллеги. Г.В. Плеханов, которого можно назвать учителем Ленина в вопросах марксизма и который выступил в дальнейшем в качестве оппонента большевизма, разработал в 1892 г. так называемую «теорию иероглифов», изложенную в примечаниях к его переводу книги Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Плеханов пишет:
«Наши ощущения — это своего рода иероглифы, доводящие до нашего сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не похожи на те события, которые ими передаются. Но они могут совершенно верно передавать как самые события, так — и это главное — и те отношения, которые между ними существуют»[1].
В своем анализе Плеханов пытается выйти за пределы реализма здравого смысла, содержащегося в работах Энгельса, и приходит к признанию различий между предметами или объектами познания самими по себе и нашими ощущениями этих объектов. С точки зрения Плеханова, эти различия настолько определенны, что позволяют говорить о том, что эти ощущения «не похожи на источники, вызывающие их». Тем не менее, пишет Плеханов, между ними существует известное соответствие. Таким образом, от «презентативной» (presentational) теории восприятия Плеханов переходит к «репрезентативной» (representational) теории[2]. Однако его эпистемология оставалась материалистической, поскольку признавала существование независимых от сознания материальных объектов, которые обнаруживают себя неявным образом посредством ощущений.
Для Плеханова важным было наличие материального коррелята каждого ощущения в процессе восприятия, равно как и чувственного коррелята каждому изменению, происходящему в материальном объекте. Иллюстрацией этого может служить используемый им пример, в котором куб бросает тень на поверхность цилиндра:
«Эта тень совершенно не похожа на сам куб: прямые линии искривлены, а плоскости становятся выпуклыми. Тем не менее всякому изменению положения куба будет соответствовать изменение его тени. Можно предположить, что нечто похожее происходит и в процессе формирования идей»[3].
Плеханов отдавал себе отчет в том, что его эпистемология не является научно доказуемой, на что, в частности, указывают слова «можно предположить» из приведенной выше цитаты. Он отдает также должное точке зрения Юма, считавшего, что вообще не существует доказательств в пользу того, что физические объекты — это нечто большее, чем просто образы, рожденные сознанием[4]. Из работ Плеханова можно сделать вывод о том, что, полагая первичной в процессе познания материю, он считает, что делает тем самым полезный в философском смысле выбор, а не приходит к научно обоснованному заключению.
Начало XX в. отмечено дискуссией среди русских марксистов по проблемам эпистемологии, наличие которой привело к обращению Ленина к этим вопросам. В результате этого Ленин пишет книгу «Материализм и эмпириокритицизм», где выступает с критикой не только своих непосредственных оппонентов в лице «русских махистов», но и с критикой взглядов Плеханова. Прежде чем говорить о самой дискуссии, необходимо, по-видимому, сказать несколько слов об Эрнсте Махе (1830-1916).
Наиболее значительная критика философского убеждения в существовании независимого от разума человека материального мира содержалась в опубликованных в конце XIX в. работах Маха, его концепции сенсуализма (sensationalism). Мах был австрийским физиком и философом, работы которого в большой степени способствовали развитию логического позитивизма, а также восприятию учеными теории относительности и квантовой теории. Антиметафизические взгляды Маха были поддержаны его современником — немецким философом Р. Авенариусом, выступившим с обоснованием теории познания, известной как эмпириокритицизм. Оба они занимают особое место в советской марксистской философии, поскольку их взгляды стали объектом критики в работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
В одной из своих работ Мах отстаивает точку зрения (имеющую давнюю традицию в истории философии и ставшую особенно актуальной для науки того времени), считающую, что «мир состоит только из наших ощущений»[5]. Согласно Маху, пространство и время являются ощущениями в такой же мере, как цвет или звук[6]. Физический объект — это всего лишь константное ощущение (или «перцепция», рассматриваемая как группа ощущений). Вслед за Беркли Мах отрицает дуализм чувственных перцепций и физических объектов. Однако если Беркли был реалистом (в том смысле, что допускал реальность существования мыслительных образов и некоего внешнего Бога), то Мах не хотел вводить в свою систему ни одного элемента, который бы не мог быть верифицирован научным путем. Поэтому в его работах ничего не говорится о некой конечной реальности (ultimate reality). Согласно выдвинутому им «принципу экономии», ученые в своей деятельности должны выбирать наиболее простые средства исследования, основанные исключительно на эмпирических данных[7]. Подход Маха, рассчитанный на его использование учеными-практиками, означал, что ученый не должен беспокоиться о вопросах природы материи (является ли она «реальностью» или «действительностью»), а должен кропотливо работать, основываясь на своих ощущениях или перцепциях. Другими словами, теория оценивается с точки зрения ее полезности для работы ученого, а не с точки зрения ее правдоподобности или других существующих соображений. Более того, согласно названному подходу, в принципе может существовать несколько «корректных», правильных путей описания материи (к этому подходу, /44/ оказавшему влияние на дискуссию по поводу квантовой механики, мы еще вернемся). Оба описания, объясняющие то или иное явление с различных сторон, могут оказаться полезными и дополняющими друг друга даже в том случае, если эти объяснения основываются на противоречащих друг другу подходах[8].
В своей концепции Мах сместил акцент с рассмотрения материи, отражающейся разумом, к разуму, организующему ощущения или перцепции материи. Вскоре у Маха появились последователи в лице группы русских философов-марксистов. В число этой группы, получившей название «русские эмпириокритики», входили А. Богданов (псевдоним А.А. Малиновского), А.В. Луначарский — будущий нарком образования, В. Базаров (В.А. Руднев) и Н. Валентинов (Н.В. Вольский). Богданов - по образованию медик — находился под впечатлением ясных и научных по своей природе аргументов Маха, однако видел их зачастую непоследовательный, противоречивый характер. Если, как утверждал Мах, ощущения и предметы — это одно и то же, то почему же продолжают существовать две различные сферы опыта — субъективная и объективная?[9] Почему каждая из этих сфер развивается в соответствии с различными принципами, различными закономерностями? Так, к объективной сфере относятся такие чувства, как осязание, обоняние, слух, а к субъективной — такие эмоции и импульсы, как гнев, желание и т. д. Под объективными чувствами или ощущениями (sensations) Богданов понимает такие, которые носят универсальный характер или испытываются всеми[10], а под субъективными — такие, которые свойственны только одному человеку или небольшой группе людей. Богданов пытается найти истоки этого дуализма и объединить две эти различные сферы в философской системе, названной им эмпириомонизмом. Ключевым для этой концепции выступает понятие «организованный опыт». Для Богданова физический мир выступает в качестве «социально организованного опыта», а мыслительный мир — в качестве «индивидуально организованного опыта». Поэтому «если в едином потоке человеческого опыта мы и обнаруживаем два принципиально различных типа закономерностей, то оба из них тем не менее в одинаковой степени проистекают из нашей собственной организации: они, по существу, выражают две тенденции, свойственные биологической организации...»[11]
В связи с этим заметим, что подчеркивание Богдановым значения организационной структуры и средств передачи информации спустя много лет вызовет в Советском Союзе новую волну интереса к его работам, связанного с применением средств кибернетики и теории информации в области психологии и эпистемологии.
Как уже отмечалось выше, обращение Ленина к философии явилось результатом его обеспокоенности по поводу взглядов, высказываемых такими русскими марксистами, как Богданов и Плеханов. Побудительная причина носила тактический характер — Ленин хотел защитить материалистический взгляд большевиков на природу и историю. Только спустя много лет он всерьез заинтересовался собственно философскими проблемами.
В 1908 г. Ленин ставит перед собой задачу написать большую работу по философии, имея в виду, как он сам об этом говорит, «разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное»[12]. По мнению Ленина, они «свихнулись» на том, что неправильно поняли значение достижений науки того времени и их влияние на философию.
В начале XX в. многие были убеждены в том, что ученые сами поставили под сомнение основы материализма[13]. Относительной уверенности ученых-естествоиспытателей в истинности своих знаний о природе, характерной для времен Маркса и Энгельса, пришло на смену чувство растерянности и неуверенности. Исследования радиоактивности радия и урана, в результате которых были открыты альфа- и бета-лучи, фактически дискредитировали концепцию неделимого атома. Ученые, подобно Л. Ульвигу, говорят о том, что «атом дематериализуется, материя исчезает»[14]. Пуанкаре говорит о том, что физика столкнулась со «всеобщим разгромом принципов»[15].
Своеобразным ответом на эти события, происходившие в науке, явилось возникновение таких философских школ, как эмпириокритицизм на континенте и феноменализм в Англии. По мнению Ленина, следуя этим тенденциям в вопросах, связанных с материей, философы подчиняют процесс поиска истины попыткам дать некие общепринятые объяснения отдельным изолированным перцепциям. Вновь возрождаются идеалистические теории Беркли, но на этот раз уже от имени науки, а не от имени Бога.
Выступая против названных тенденций, Ленин подчеркивает значение двух основных принципов собственной интерпретации диалектического материализма: теории отражения (copy-theory), относящейся к проблемам взаимоотношений материи и сознания, и принципа, в соответствии с которым природа рассматривается как бесконечная. Представляется очевидным, что Ленин рассматривает эти принципы в качестве минимального условия, обеспечивающего философский смысл и последовательность концепции диалектического материализма. Ленин не пытается навязывать науке философию, он скорее пытается определить основные принципы материалистической философии науки; он убежден в том, что наука не может противоречить названным выше принципам.
«Теория отражения», выдвинутая Лениным, означала, что материализм основывается на признании существования «вещей-в-себе» или их существовании независимо от сознания. Согласно этой теории, «идеи и ощущения являются понятиями или образами этих предметов». Ничего, правда, не говорится при этом о том, насколько эти идеи похожи на сами предметы. Есть, однако, основания полагать, что во время написания книги «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин считал, что образы предметов, возникающие в мозгу человека, достаточно похожи на соответствующие предметы. В то время его эпистемология была весьма близка к представлениям реализма здравого смысла; иероглифическую эпистемологию Плеханова Ленин критиковал за ее «неопределенность» (vagueness). И все же даже в этой книге Ленина можно обнаружить замечания, указывающие на то, что наиболее существенным аспектом теории диалектического материализма Ленин считал принцип объективного существования материи, а не степень соответствия между предметами материального мира и их образами, возникающими в мозгу человека. В самом деле, он был близок к сведению основ материалистической эпистемологии к единственному принципу: «Неизменно, с точки зрения Энгельса, только одно: это — отражение человеческим сознанием (когда существует человеческое сознание) независимо от него существующего и развивающегося внешнего мира»[16]. К этому Ленин добавлял, что этот объективный мир, существующий независимо от человека, может быть познан им: «Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств»[17].
Следует заметить, что если понимать последнюю цитату буквально и в качестве ленинского определения материализма, то тогда вполне оправданным будет утверждение о том, что Ленин смешивает здесь представления, свойственные реализму («все существующее — реально») и материализму («все существующее — материально»), и что Ленин фактически является реалистом, а не материалистом. Другими словами, в приведенной выше цитате слово «материалистом» можно с полным основанием заменить на «реалистом». Был ли в таком случае Ленин скорее реалистом, нежели материалистом? Точный ответ на этот вопрос, который бы принимал во внимание все написанное Лениным, а не только одну названную книгу, должен был бы быть отрицательным. В своих работах Ленин всегда говорил о материализме, а не о реализме, и он видит разницу между этими концепциями, что особенно заметно в его последних работах; эпистемологию реализма он дополняет предположениями материалистической онтологии, будучи убежденным в их концептуальном значении. Тот факт, что материализм Ленина основан на предположениях (assumption), не обсуждается открыто в Советском Союзе, где диалектический материализм обычно изображается как доказуемая теория, даже как неизбежный вывод современной науки. Думается, однако, что лучшая аргументация в пользу материализма должна начинаться с признания того факта, что это лишь один из возможных взглядов на действительность и взгляд этот вполне совместим с имеющимися свидетельствами и вполне приемлем для многих ученых. Разумеется, эта аргументация должна признавать право выбора за теми, кто захочет с самого начала сделать другое допущение, отличное от допущений материализма. Отдельный ученый, например, вероятнее всего предпочтет то или иное допущение. Известный американский биолог Г. Меллер сознавал предположительный характер материализма Ленина и вполне одобрял его, о чем говорит в статье, написанной в 1934 г.
Как пишет Меллер, «некоторые ученые станут утверждать, что мы не должны создавать себе предвзятых мнений о научных возможностях на основании заранее принятого философского материалистического мировоззрения, а должны в каждом отдельном случае следовать в том направлении, куда указывают эмпирические факты. Мы вместе с Лениным можем на это ответить, что все явления нашей повседневной жизни, все научные факты с неоспоримой силой свидетельствуют о правильности материалистической точки зрения (нам незачем уклоняться от темы, чтобы приводить доказательства) и что поэтому мы будем вполне правы, приняв такой принцип за основу всех наших дальнейших обобщений. Этот принцип является, в сущности, эмпирическим в лучшем смысле этого слова, причем он имеет то громадное преимущество, что он основан на всей совокупности свидетельств, а не только на какой-либо части их»[18].
В 1908 г. Ленин еще не был способен осознать именно такой характер материализма, хотя позднее в «Философских тетрадях» он приближается к такому осознанию. Тогда, в 1908 г., Ленин концентрирует свое внимание на критике русских исследователей Маха, а потому вполне естественно, что он более всего заинтересован обнаружить уязвимые места их анализа, нежели своего собственного. Он утверждает, что идеалистическая философия Богданова на самом деле скрывает веру в Бога, и такой ее характер нисколько не изменяется от того, что сам Богданов усиленно отрекается от всякой религии. Если, пишет Ленин, физический мир приравнивается просто к «социально-организованному опыту», то это означает фактически, что природа приравнивается к Богу, «ибо бог есть, несомненно, производное от социально-организованного опыта живых существ»[19].
По мнению Ленина, проблемы эпистемологии нельзя рассматривать отдельно от вопроса о природе самой материи. Психическое нельзя отрывать от материального, поскольку первое является результатом второго, но на более высоком уровне. Материя вовсе не исчезает с открытием явления делимости атома, поскольку «электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она бесконечно существует»[20]. Ленин считает, что выражение «материя исчезла» явилось своеобразным показателем философской незрелости тех ученых и философов, которые не поняли возможности науки постоянно открывать новые формы материи и новые принципы ее движения.
По убеждению Ленина, философские направления или школы, выступающие против науки, являются в основе своей либо идеалистическими, либо просто материалистическими, но не диалектико-материалистическими. Он пытается сделать диалектический материализм менее уязвимым для критики и не оказывающим тормозящего влияния на развитие науки, проводя четкое различие между диалектическим материализмом и простым материализмом (simple materialism). Однако если судить об этом намерении только на основе содержания книги «Материализм и эмпириокритицизм», то можно сделать вывод о том, что различие это проводится не совсем четко. В названной работе Ленин не останавливается даже на обсуждении законов диалектики, то есть тех принципов, которые, собственно, и отличают диалектический материализм от простого материализма. Он просто ограничивается утверждениями о том, что в качестве философской позиции (view point) диалектический материализм не может быть задет (affected) никакими колебаниями, которые происходят в научной теории. Ленин пытается двигаться в направлении установления связи между теорией диалектического материализма и практикой научного исследования. Настаивая на материалистической теории отражения, он также утверждает бесконечность природы. Деление отдельных ее частей на все более мелкие составляющие может осуществляться бесконечно долго, считает Ленин, однако материя никогда не исчезнет.
В заметках, которые Ленин делает в ходе дальнейшего изучения философии спустя шесть-семь лет, можно обнаружить более высокую оценку им альтернативных концепций эпистемологии. Хотя он и не отказывается от выдвинутой им ранее теории отражения, теперь в его представлении связь, существующая между предметами материального мира и их образами в сознании человека, становится более косвенной или опосредованной. Действительно, похоже на то, что он уверен в наличии единства материалистической и идеалистической теорий познания, реализуемого в форме единства противоположностей на высшей стадии их развития; он говорит о тенденции их взаимного проникновения. Таким образом, Гегель, которого Ленин считал величайшим философом-идеалистом, невольно приближается к позиции диалектического материализма. Отправной точкой эволюции взглядов Ленина был материализм, а не идеализм, как это было у Гегеля, но оба они пришли к одному выводу — о моменте единства этих двух философий. Как писал Ленин, различие между идеальным и материальным не является безусловным[21]. Областью, где это различие становится почти незаметным, является область абстракции; для того чтобы понять природу, человеку необходимо не только ощущать материю, но также конструировать целый ряд абстракций, которые «условно охватывали» бы постоянно движущуюся и развивающуюся природу. Эти абстракции могут включать в себя элементы фантазии:
«Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка ( = понятия) с нее н е е с т ь простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию (in letzter Instanz [в последнем счете. — Ред.] =Бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) е с т ь известный кусочек фантазии. (Vice Versa: нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке...)»[22].
Ленин, каким он предстает в приведенном выше отрывке, не таков, каким он известен большинству исследователей ленинизма; этот Ленин понимает, что процесс познания идет порой не гладко, а болезненно, с остановками и зачастую включает в себя возвращение назад. Он допускает, что фантазия является полезной «даже в самой строгой науке». Он рассматривает фантазию в качестве неотъемлемой черты, свойственной научному мышлению, отдавая себе отчет в том, что в конечном счете эта фантазия может вести к вере в Бога. Утверждение возможности включения фантазии в процесс познания природы человеческим сознанием дает основание полагать, что Ленин, вслед за Плехановым, признает, что отрицание идеализма является результатом философского выбора, а не научного доказательства. И Ленин, разумеется, делает выбор в пользу материализма.
Этот более гибкий взгляд на материализм, рассматривающий его в качестве результата выбора, а не доказательства, позволяет говорить о потенциальной возможности согласования материализма с другими философскими течениями — событии, которое, однако, до сих пор не произошло. Например, если мы обратимся к некоторым работам У. Куайна, то легко обнаружим в них много общего с аргументацией Ленина. В статье «Две догмы эмпиризма» Куайн пишет:
«Будучи эмпириком, я рассматриваю концептуальную схему науки в качестве инструмента, необходимого в конечном счете для прогнозирования будущего опыта в свете опыта прошлого. Физические объекты — это те же концептуальные схемы, которые в эпистемологическом смысле можно сравнить с домовыми. Не будучи профессиональным физиком, я тем не менее верю в существование физических объектов, а не домовых и считаю, что вера в последних является ошибочной с точки зрения науки. Однако с точки зрения эпистемологических оснований разница между физическими объектами и домовыми невелика: и те и другие включены в наши концептуальные построения в качестве неких культурных постулатов. Миф о существовании физических объектов лучше других мифов, поскольку он позволяет внести управляемую структуру в поток нашего опыта»[23].
Возможность конвергенции эпистемологии, представленной в приведенной цитате из Куайна, и эпистемологии диалектического материализма представляется весьма значительной. Сторонники обеих точек зрения предпочитают концепцию «физических объектов» и находят оправдание этой концепции в прагматическом успехе ее использования. То, что Куайн называет «лучшим мифом» (superior myth), диалектический материализм называет «истиной» (truth). Однако означает ли в данном случае, что под «мифом» здесь следует понимать «то, что ложно», или «то, что не может быть доказано»? В самом ли деле диалектические материалисты уверены в том, что «истинность» их позиции может быть проиллюстрирована или они считают свою позицию истинной, исходя из схожих с Куайном соображений, согласно которым он считает свой миф «лучшим»? И если диалектический материалист может испытывать затруднения при определении понятия «материя-энергия» (зачастую возвращаясь при этом к тому, что Энгельс называл «тотальностью вещей» (totality of things), то Куайн с не меньшей неопределенностью говорит о том, что «физические объекты — это постулируемые сущности, которые упрощают наши представления о потоке действительности»[24]. Разумеется, в конечном счете между этими позициями существуют различия, но различия эти не носят того характера, который бы выводил диалектический материализм за пределы философии, оставляя в то же время эпистемологию Куайна внутри этой сферы.
1. Плеханов Г.В. Избр. философ. произв. Т. 1. С. 501.
2. Анализ различий между этими теориями содержится в: Brennan J.G. The Meaning of Phylosophy. N.Y., 1967. P. 121-122.
3. Плеханов Г.В. Против философского ревизионизма. М., 1935. С. 168-169.
4. См.: Плеханов Г.В. Избр. философ. произв. Т. 1. С. 475 и далее.
5. Mach E. The Analysis of Sensations and The Relation of the Physical to the Psychical. Jena: G. Fisher, 1886. P. 12.
6. Ibid., P. 8.
7. Сам по себе «принцип экономии» не является, по существу, оригинальным. Еще со времен Древней Греции в истории человеческой мысли часто высказывается точка зрения, считающая простоту наиболее желательной характеристикой научного объяснения; это мнение получает свое концентрированное выражение в так называемом принципе «бритвы Оккама». И несмотря на этот достаточно традиционный аспект, содержащийся в «принцип экономии» Маха, он все же подвергался достаточно жесткой критике. Использование выражения «экономия мышления» комментировалось в том смысле, что лучший путь сэкономить мышление — это не думать совсем; отметим, что это замечание, несмотря на его прозорливость, все же носит пристрастный характер. — Прим. автора.
8. Взгляды Маха во многом помогли проложить дорогу для появления «принципа дополнительности» в современной физике, о котором речь пойдет в главе, посвященной проблемам квантовой механики. — Прим. автора.
9. Эту проблему Богданов, в частности, анализирует в своей книге «Эмпириомонизм: статьи по философии». В 3-х т. М., 1904-1907.
10. Богданов А. Эмпириомонизм... С. 25.
11. Там же. С. 41.
12. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 11. К работам, которые особенно раздражали Ленина и против которых и была направлена его критика, он относит прежде всего «Очерки по (? надо было сказать: против) философии марксизма». Спб., 1908; сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфонда, Юшкевича, Суворова; затем книги: Юшкевича — «Материализм и критический реализм», Бермана — «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова — «Философские построения марксизма» (Ленин называет эти работы в предисловии к первому изданию «Материализма и эмпириокритицизма». См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 9).
13. Даже сегодня, в конце века, многие интеллектуалы по-прежнему уверены в том, что материализм дискредитирован наукой, хотя совершенно ясно, что подобные заключения ничем не обоснованы.
14. Цит. по: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 273; Houllevigue L. L'evolution des sciences. Paris, 1908. Р. 87-88.
15. См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 267.
16. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 277.
17. Там же. С. 134.
18. См.: Памяти Ленина: сборник статей к десятилетию со дня смерти, 1924-1934 гг. М.; Л., 1934. С. 585. Подробнее см. первое издание этой книги. С. 460.
19. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 241.
20. Там же. С. 277.
21. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 151.
22. Там же. Т. 29. С. 330.
23. Quine W.V.O. From a Logical Point of View: Logico-Philosophical Essays. N. Y., 1963. P. 44.
24. Quine W.V.O. Op. cit. P. 18.
Законы диалектики
До сих пор рассказ о диалектическом материализме касался в основном второй части этого термина — материализма. Другая его часть — диалектический — имеет отношение к характеристике процессов развития и движения материи.
В различное время советские мыслители разделяли два различных взгляда на диалектику; согласно одному из них, материя-энергия подчиняется в своем развитии не просто наиболее общим законам, но эти законы тождественны трем законам диалектики, о которых речь пойдет ниже. У этого взгляда есть множество сторонников, и он также представлен в официальных советских учебниках по диалектическому материализму. Согласно другому взгляду, материя-энергия также подчиняется общим законам, но сами законы диалектики следует рассматривать в качестве временных; они могут быть изменены или, в случае необходимости, вызванной развитием науки, полностью заменены на другие. Этот неофициальный взгляд возникает время от времени в Советском Союзе и получает распространение в особенности среди профессиональных философов и молодых ученых[1].
Диалектика, которую Энгельс применил к естествознанию, основывалась на его интерпретации гегелевской философии. Эта интерпретация включила в себя не только хорошо известное превращение гегелевской философии из идеалистической в материалистическую, но также сведение всего богатства гегелевской мысли к простой схеме диалектических законов и триад.
В «Науке логики» Гегель говорил о «диалектике» как об «одной из тех древних наук, которые получили неверную оценку в современной метафизике и как в древней, так и современной популярной философии»[2]. Гегель был убежден в том, что до сих пор диалектика трактовалась как противопоставление двух понятий (дуализмы, антиномии, противоположности); он обращался к обсуждению Кантом «трансцендентальной диалектики» в его «Критике чистого разума» — здесь Кант выдвинул точку зрения, согласно которой человеческий разум по сути своей диалектичен, и каждому метафизическому аргументу может быть противопоставлен столь же убедительный контраргумент. Средство преодоления этого противопоставления Гегель видел в «отрицании, отрицания», которое он считал «наиболее объективным моментом Жизни и Духа, делающим субъекта свободной личностью»[3].
Вопреки распространенному мнению, Гегель никогда не пользовался понятием «тезис-антитезис-синтез»; он понимал, однако, важность противоположности тезис-антитезис, о которой речь шла в работах Канта, Фихте и Якоби, и очень редко использовал понятие «синтез» для обозначения момента преодоления этой противоположности[4]. Сам Гегель был против сведения собственного анализа к триадичной формуле и обращал внимание на то, что эта схема может быть использована только в качестве «просто педагогического средства», в качестве «формулы для памяти и разума»[5].
Гегель не дал такого метода анализа, который надо было просто «поставить с головы на ноги», чтобы он стал диалектическим материализмом. Использование Энгельсом диалектики Гегеля включало в себя не только ее перевертывание, но также кодификацию, представляющую собой сомнительную редукцию достаточно сложной концепции. Тем не менее многие элементы диалектического материализма Энгельса действительно можно обнаружить у Гегеля. Сам факт того, что Энгельс стремился упростить концепцию Гегеля, не представляется удивительным — многие, включая Гёте, обвиняли великого прусского философа в излишней усложненности его теоретических построений, — однако то, что Энгельс сконцентрировал свое внимание именно на законах диалектики, имело своим следствием привязку марксизма к трем кодифицированным законам природы, а не просто к принципу, согласно которому природа подчиняется законам более общим, нежели законы любой науки, — законам, которые могут быть установлены с различной степенью успеха.
Согласно Энгельсу, материальный мир представляет собой взаимосвязанное целое, управляемое определенными общими законами. В качестве побочного эффекта развитие науки за последние несколько веков привело к такой дифференциации знания, когда важные общие принципы оказались вне поля зрения. Как пишет Энгельс в «Анти-Дюринге», научный метод или «способ изучения оставил нам вместе с тем и привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого — не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменчивые, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми»[6].
Энгельс говорит о том, что под «диалектикой» он подразумевает законы всякого движения — в природе, истории и мышлении. Он называет три таких закона: закон перехода количества в качество, закон взаимопроникновения противоположностей (mutual interpenetration of opposites) и закон отрицания отрицания. Предполагается, что эти диалектические принципы или законы и представляют собой наиболее общие формы материи в движении. Подобно Гераклиту, диалектический материалист уверен в том, что ничто в природе не находится в абсолютном покое; диалектические законы представляют собой попытки описать наиболее общие моменты в процессе тех изменений, которые происходят в природе. Таким образом, концепция эволюции или развития природы является основной для диалектического материализма. Диалектические законы — это принципы, согласно которым из простого возникает сложное.
Согласно Энгельсу, эти законы имеют одинаковую силу как в науке, так и в человеческой истории. И эта-то универсальность законов диалектики и является, с одной стороны, источником силы, а с другой — слабости диалектического материализма. С одной стороны, обладание диалектикой дает в руки марксистов достаточно мощный концептуальный инструмент познания; многих мыслителей привлекло в диалектическом материализме как раз его гегелевское обрамление. Стремление к обладанию ключом к познанию было, возможно, наиболее сильной мотивацией на протяжении всей истории философии.
С другой стороны, универсальность диалектического материализма зачастую ставила его сторонников в невыгодное положение. Многие философы за пределами Советского Союза отвернулись от него, будучи уверены в том, что он содержит как раз те элементы западной философии, от которых следовало бы отказаться еще до того, как они появились; по их мнению, диалектический материализм — это рудимент средневековой схоластики. Вместо того чтобы, в соответствии с постньютонианской традицией, описывать, как движется материя, диалектический материализм, следуя аристотелевской традиции, объясняет, почему она движется. Более того, всеобщность диалектики достигается ценою такой расплывчатости ее положений, что ее полезность представляется многим критикам весьма незначительной. Как замечает один из таких критиков — X.Б. Эктон, закон отрицания отрицания носит «настолько общий характер, что почти исчезает», когда его пытаются приложить к объяснению таких разных вещей, как математика и выращивание ячменя; когда затем этот закон распространяется на объяснение перехода общества от капитализма к коммунизму, то «единственным, в чем этот закон оказывается похожим на действительность, оказываются те слова, которые используются при этом»[7]. Отвечая на эту критику, диалектический материалист скажет, что, если мы принимаем существование некой единой реальности, производными от которой являются все аспекты человеческого знания, то в таком случае справедливым будет полагать, что должны существовать по крайней мере несколько принципов, носящих общий для всех этих аспектов характер. Наиболее искушенные из числа диалектических материалистов послесталинского периода могут добавить к этому, что они готовы в принципе отказаться от трех законов диалектики, сформулированных Энгельсом, в том случае, если будет найдена лучшая их формулировка, и что попытки достичь этого с помощью понятий теории информации и системного анализа предпринимались.
Принцип или закон перехода количества в качество выведен из высказывания Гегеля о том, что «качество имплицитно содержит в себе количество и, наоборот, количество содержит имплицитно качество. В процессе измерения, таким образом, оба они переходят друг в друга: каждое из них становится тем, чем было в снятом виде...»[8].
Энгельс приводит многочисленные примеры действия этого закона в природе. К ним относятся случаи, когда в явлениях природы непрерывная цепь количественных изменений внезапно прерывается заметным изменением их качества. Одним из таких примеров, приводимых Энгельсом, является гомологический ряд соединений углерода. Формулы этих соединений (СН4; С2Н6; С3Н8 и т. д.) укладываются в прогрессию СNH2N+2. Члены прогрессии, пишет Энгельс, отличаются между собой только количеством содержащихся в них углерода и водорода. Тем не менее соединения эти обладают различными химическими свойствами. И именно в этом Энгельс видит действие закона перехода количества в качество[9].
К числу самых необычных примеров действия закона перехода количества в качество, приводимых Энгельсом в «Анти-Дюринге», принадлежит случай с кавалерией Наполеона, имевший место во время египетской кампании. В ходе столкновений между французскими и мамлюкскими всадниками обнаружилась интересная закономерность. В столкновениях небольших групп всегда (даже в тех случаях, когда имели небольшое численное превосходство) проигрывали французы. С другой стороны, в столкновениях больших групп мамлюки всегда (даже в тех случаях, когда имели небольшое численное превосходство) проигрывали. Описания Энгельса могут быть представлены следующей таблицей:
| Число мамлюков | Число французов | Победитель |
| 2 | 3 | мамлюки |
| 100 | 100 | ничья |
| 1500 | 1000 | французы |
Причиной этих очевидно парадоксальных результатов явилось то обстоятельство, что французы были очень дисциплинированными воинами, тренированными для участия в широкомасштабных маневрах; однако они были не очень хорошими наездниками. Мамлюки, будучи с детства отличными наездниками, имели слабое представление о тактике и дисциплине. Отсюда существуют такие количественно-качественные отношения, которые и дают различные результаты на различных количественных уровнях[10].
Дарвиновская теория эволюции также выступала для Маркса и Энгельса одной из важнейших иллюстраций принципа перехода количества в качество. Разумеется, в качестве части диалектики этот принцип был выдвинут Гегелем раньше Дарвина, однако Маркс и Энгельс рассматривали дарвинизм как подтверждение диалектического процесса. В ходе процесса естественного отбора появляются различные виды, имеющие общего предка; этот процесс можно рассматривать как пример возникновения нового качества на основе аккумулирования количественных изменений; возникновение нового качества определяется моментом, когда представители различных групп уже не могут скрещиваться между собой[11].
Принцип перехода количества в качество всегда рассматривался в Советском Союзе как одно из важнейших предостережений против редукционизма в ходе интерпретации науки. При этом под редукционизмом понимается убеждение в том, что все сложные явления могут быть объяснены с помощью комбинаций более простых или элементарных явлений, составляющих их. Редукционисты утверждают, что если ученый хочет понять какой-то сложный процесс или явление (рост кристаллов, звездную эволюцию, процесс жизни, мышление и т. д.), то он должен строить такое понимание начиная с самого элементарного уровня. В связи с этим редукционизм характеризуется тенденцией к подчеркиванию роли физики в ущерб другим наукам. Эта точка зрения была распространена среди материалистов XIX в. и сегодня продолжает быть весьма популярной во всем мире среди представителей так называемой «точной» науки. Советские диалектические материалисты подвергают редукционизм очень сильной критике, тщательно отделяя себя от более раннего материализма. Наличие количественно-качественных отношений, в особенности в биологических науках, интерпретируется в Советском Союзе как факт, исключающий возможность объяснения жизненных процессов — в первую очередь мышления — в понятиях элементарных физико-химических реакций. Советские философы рассматривают процесс развития материи (начиная с ее простейших неживых форм, через процесс возникновения и развития жизни и человека и кончая социальным уровнем организации) как серию количественных переходов, включающих в себя соответствующие качественные изменения. Таким образом, существуют «диалектические уровни» законов природы[12]. Социальные законы не могут быть сведены к биологическим законам, а последние, в свою очередь, несводимы к физико-химическим законам. Для диалектического материализма целое — это нечто большее, чем сумма его частей. В представлениях материалистов, этот принцип всегда служил своеобразной защитой против различного рода упрощенных объяснений, однако иногда он граничил с противоположной опасностью — концепциями органицизма или даже витализма.
Принцип перехода количества в качество отличает диалектический материализм от механистического материализма. Так, например, материалист, подобный Демокриту, мог бы сказать, что мозг человека по существу своему похож на мозг животного с той только разницей, что первый организован более эффективно. В соответствии с такими представлениями эта разница носит чисто количественный характер. Материалист же марксистского толка скажет, что человеческий мозг качественно отличается от мозга животного и что это качественное отличие является результатом накопления количественных изменений, имевших место в ходе эволюции человека. Другими словами, мыслительная деятельность человека несводима к подобной же деятельности у животного. Сами процессы жизнедеятельности вообще также несводимы к физико-химическим процессам, понимаемым с точки зрения современной науки. Подчеркивание качественных отличий сложных сущностей от более простых привело к тому, что в последние годы диалектические материалисты проявляют интерес (правда, осторожный) к концепциям «интегративных уровней» (integrative levels) и «организменной биологии» (organismic biology) — подходам, которые широко обсуждались в Европе и Америке в 30-40-е годы и с новой силой стали обсуждаться после рождения кибернетики. Взгляды советских ученых на эти концепции будут подробно освещены в соответствующей главе (см. гл. 4).
Подход советских философов к объяснению органических процессов может служить иллюстрацией сложного и, возможно, даже противоречивого характера концепции диалектического материализма. По существу, диалектический материализм утверждает, что «не существует ничего, кроме материи, но вся материя неодинакова». Некоторые из критиков рассматривают это выражение в качестве парадокса, лежащего в самой основе диалектического материализма. Например, Бердяев пишет, что «диалектика, символизирующая сложность, и материализм, характеризующийся узким и односторонним взглядом на действительность, так же несовместимы, как вода и масло»[13]. Разумеется, можно заметить, что почти любая философская или этическая система содержит в себе элемент противоречия: противоречие, существующее между идеалом индивидуальной свободы и общественным благом, присуще западной мысли, но в целом это нисколько не умаляет ее ценности. Точно так же известное противоречие (tension) между сложностью и простотой, присущее диалектическому материализму, само по себе имеет сравнительно небольшое значение при оценке адекватности подходов этой системы в целом к тем проблемам, которые перед ней стоят. Для ученого-практика наличие этого противоречия имеет то преимущество, что, с одной стороны, позволяет быть уверенным в возможности плодотворного исследования природы, а с другой — служит своеобразным предостережением против того, чтобы успех такого исследования, достигнутый в одной области или на одном уровне, рассматривать в качестве ответа на конечные вопросы.
Таким образом, известное противоречие между сложностью и простотой, присущее принципу перехода количества в качество, следует рассматривать просто в качестве перманентной черты диалектического /55/ материализма, которая, проявляясь различным образом в различное время, характеризует как силу, так и слабость этой концепции. В 20-е годы эта черта диалектического материализма явилась источником дискуссии в советской философии.Частичная рационализация названной дихотомии предлагается в другом принципе или законе диалектики — законе взаимопроникновения противоположностей, который иногда называют еще законом единства и борьбы противоположностей. Свой взгляд на этот принцип Гегель сформулировал с помощью понятий «позитивного» и «негативного»:
«Обычно полагают, что позитивное и негативное являются выражением абсолютного различия. Однако оба эти понятия в действительности выражают одно и то же: каждое из них может быть заменено на другое. Так, например, долги и доходы — это не какие-то самостоятельно существующие виды собственности. То, что положительно для кредитора, отрицательно для занимателя и наоборот. Путь на восток является одновременно путем на запад. Таким образом, положительное и отрицательное внутренне обусловливают друг друга и выступают таковыми только в их отношениях. Северный полюс магнита не может существовать без южного и наоборот. И если мы разделим магнит на две части, то это не будет означать, что мы сможем получить в одной части «север», а в другой — «юг». Точно так же, когда мы имеем дело с электричеством, положительный и отрицательный заряды не являются абсолютно независимыми друг от друга. То же самое можно говорить и о противоположностях вообще»[14].
Принцип единства противоположностей Энгельс понимал в том смысле, что гармония и порядок являются результатом синтеза двух противоположных сил[15]. Действие этого закона Энгельс видел и в процессе вращения Земли вокруг Солнца, являющегося результатом действия противоположных — гравитационных и центробежных — сил. Тот же самый закон можно наблюдать и в процессе образования соли в результате химического взаимодействия кислоты и основания. Среди других примеров единства противоположностей, приводимых Энгельсом, упоминаются атом (как единство положительного и отрицательного заряда), жизнь (как процесс рождения и смерти), а также явления магнитного притяжения и отталкивания[16].
Закон единства и борьбы противоположностей используется диалектическими материалистами в качестве объяснения внутренней энергии, присущей природе. Другими словами, в ответ на вопрос об источнике движения материи диалектический материализм говорит о том, что материя обладает свойством самодвижения, являющимся результатом взаимодействия противоположностей, заключенных в ней; такого рода взаимодействие рассматривается как противоречие. Таким образом, у диалектических материалистов нет необходимости в постулировании некоего «перводвигателя», который бы давал толчок движению планет, молекул и других материальных объектов. Концепция самодвижения в результате внутренних противоречий присутствует также и у Гегеля, который писал в своей «Науке логики»: «Противоречие является источником всякого движения и жизни в целом»[17].
Закон отрицания отрицания тесно связан со вторым законом, поскольку предполагается, что синтез осуществляется путем отрицания. Согласно Гегелю, отрицание — это позитивное понятие. Постоянная борьба между старым и новым приводит к высшему синтезу. В самом общем смысле принцип отрицания является просто формальным выражением убеждения в том, что в природе нет ничего застывшего, постоянного. Все изменяется, каждая сущность в конечном итоге отрицается другой. Энгельс считал принцип отрицания отрицания одним из важнейших для диалектического и исторического материализма, он писал, что это «весьма общий и именно потому весьма широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления; закон, который, как мы видели, проявляется в животном и растительном царствах, в геологии, математике, истории, философии...»[18]. Он приводит целый ряд примеров действия этого закона: это и отрицание капитализма (который был отрицанием феодализма) социализмом, и отрицание таких растений, как орхидеи, путем их искусственного возделывания, и отрицание личинки бабочки рождением самой бабочки, которая затем откладывает большее число личинок, и отрицание ячменного зерна ростом самого растения, которое затем приносит большее число зерен, и процессы дифференцирования и интегрирования и ряд других математических операций[19].
Очевидно, что в понятие «отрицание» Энгельс вкладывает зачастую различный смысл: замена (replacement), преемственность (succession), видоизменение (modification) и т. д. Думается, что последний из вышеперечисленных примеров требует более подробного комментария. Энгельс предлагает обозначить любую алгебраическую величину как «а», а ее отрицание как «-а», а затем помножить «-а» на «-а» (тем самым произведя «отрицание отрицания») и получить «а2». Он пишет, что в этом случае «а2» будет представлять собой «синтез высшей ступени» первоначальной положительной величины, но уже «во второй степени»[20]. Может возникнуть вопрос: почему, собственно, чтобы получить отрицание отрицания, Энгельс умножает, а не складывает, вычитает или делит? И почему он умножает именно на «-а», а не на другую величину? Очевидный ответ заключается в том, что из множества имеющихся примеров Энгельс взял именно тот, который соответствовал его задачам. Пример с корнем квадратным из «-1», приводимый Энгельсом для доказательства справедливости закона взаимопроникновения противоположностей, заставил одного математика написать Марксу письмо с жалобой на то, что Энгельс «дерзновенно затронул честь»[21].
В течение многих лет диалектические законы марксистской философии оставались, по существу, теми же, какими их сформулировал Энгельс. В период, последовавший сразу же за революцией в России, советские философы пренебрегали обращением к законам диалектики. В то время им не были еще известны ни «Диалектика природы» Энгельса, ни «Философские тетради» Ленина. Последняя работа, опубликованная отдельным изданием в 1933 г., внесла одно существенное изменение в советскую трактовку законов диалектики: Ленин выделил закон единства противоположностей в качестве самого важного из трех этих законов. Ленин даже намекает на то, что закон перехода количества в качество на самом деле является лишь другой формулировкой описания единства противоположностей; и если два эти закона на самом деле являются синонимичными, то тогда из трех сформулированных ранее законов остаются лишь два[22].
Хотя большинство советских философов утверждают сегодня, что действие трех законов диалектики можно наблюдать везде (в природе, обществе и мышлении), некоторые из них считают, что эти законы действуют только в области человеческого мышления, а не в органической и неорганической природе. Это меньшинство принадлежит к лагерю «эпистемологистов» (epistemologists), которым противостоят «онтологисты» (ontologists). Таким эпистемологистом был В.Л. Обухов, который в своей книге, опубликованной в 1983 г., критиковал своих советских коллег за то рвение, с которым они пытались везде увидеть действие законов диалектики. Точка зрения Обухова была отвергнута авторами рецензии, опубликованной в 1985 г. одним из ведущих советских философских журналов; в рецензии отмечалось, что идеи Обухова «ведут только к путанице»[23].
Прежде чем закончить обсуждение проблем диалектики, необходимо хотя бы несколько слов сказать о ее «категориях». В диалектическом материализме термин «категории» используется для обозначения тех основных понятий, через которые выражаются формы взаимосвязанности в природе. Другими словами, в то время как законы диалектики, о которых речь шла только что, представляют собой попытку установить наиболее общие закономерности развития природы, категории представляют собой такие понятия, через которые эти закономерности выражаются. Среди примеров категорий, приводимых в советских дискуссиях в прошлом, упоминались такие, как «материя», «движение», «пространство», «время», «количество» и «качество».
Нигде диалектический материализм не обнаруживает своей близости традиционной философии с такой ясностью, как в подчеркивании значения категорий; и это несмотря на то, что диалектические материалисты часто вкладывают в классические философские категории новый смысл. Впервые слово «категория» в качестве составной части философской системы было использовано Аристотелем. В своем трактате «О категориях» Аристотель выделил следующие десять категорий: субстанция, количество, качество, отношение, место, время, положение (posture), состояние (state), действие и страсть. Объекты или феномены, принадлежащие к различным категориям, рассматривались им как не имеющие ничего общего, а потому не подлежащие сравнению. В своих работах Аристотель часто перечислял лишь некоторые из этих десяти категорий, не указывая на то, что остальные им не упомянуты. Несомненно то, что Аристотель рассматривал вопросы о точном количестве категорий и наилучшей терминологии для их описания как открытые вопросы. Вслед за Аристотелем многие мыслители клали в основу построения собственных философских систем системы априорных категорий, различающихся часто как по их количеству, так и по существу. Средневековые философы обычно считали полностью завершенной систему из десяти категорий, впервые выдвинутую Аристотелем, игнорируя широкий подход самого Аристотеля к этому вопросу.
Двумя величайшими реформаторами аристотелевской системы категорий явились Кант и Гегель. Для Канта категории относятся к логическим формам, а не к вещам самим по себе. Категория «качество» означала для Канта не «горькое» или «красное», как это было для Аристотеля, а выражала логические отношения, такие, как «отрицательное» или «утвердительное». Точно так же «количество» означало для него не «пять дюймов в длину», а «общее», «особенное» и «единичное». Таким образом, Кант осуществил радикальную реформу категорий Аристотеля.
В подходах к проблеме категорий советские философы многое позаимствовали у Аристотеля и Канта, добавив к этому убеждение Гегеля в том, что категории не являются абсолютными. Как отмечается в «Кратком словаре по философии», Аристотель одним из первых сделал попытку рассмотрения категорий как отражения общих свойств объективно существующих предметов и явлений, «однако этой материалистической точки зрения он придерживался не всегда, и, кроме того, ему не удалось раскрыть внутреннюю диалектическую взаимосвязь категорий»[24]. По мнению советских философов, заслугой Канта является исследование логических функций категорий, их роли в мышлении, в обработке данных Г . чувств. Однако, продолжают они, Кант сделал большую ошибку, оторвав категории от объективного мира и рассматривая их как порождения рассудка. Согласно рассуждениям советских диалектических материалистов, достижением Гегеля в вопросе о категориях является то, что он рассматривал категории не как статичные, извечно данные, а в процессе движения, как внутренне связанные между собой. Так, например, категория «количество» могла, по его мнению, перерасти в категорию «качество».
Основное отличие подхода диалектического материализма к проблеме категорий заключается в подчеркивании роли естественных наук. Поскольку, согласно марксизму, бытие определяет сознание, а не наоборот, материальный мир, отражаемый сознанием, определяет и каждое понятие, каждую категорию, в которых мыслит человек. Таким образом, «для того чтобы материалистическая диалектика могла быть методом научного познания, направлять человеческую мысль на поиски новых результатов, ее категории должны всегда находиться на уровне современной науки, ее итогов и потребностей» (с. 120).
Поскольку знания человека о материальном мире меняются со временем, постольку изменяются и дефиниции категорий. В «Кратком словаре по философии», опубликованном в Москве в 1966 г., дается следующее их определение: «Категории — наиболее общие понятия, отражающие основные свойства и закономерности явлений объективной реальности и определяющие характер научно-теоретического мышления эпохи» (с. 119). В том же источнике в качестве примеров категорий приводятся « материя, движение, сознание, качество и количество, причина и следствие и т. д.» (с. 119).
Слова «и так далее», следующие за перечислением примеров категорий, являются важным показателем гибкости системы категорий диалектического материализма. Как и у Аристотеля, вопрос о количестве категорий остается открытым. Как отмечает Ленин в «Философских тетрадях», «если в с е развивается, то относится ли сие к самым общим понятиям и категориям мышления? Если нет, значит, мышление не связано с бытием. Если да, значит, есть диалектика понятий и диалектика познания, имеющая объективное значение»[25], Такой же подход можно обнаружить и в статье «Категории», помещенной в упоминавшемся уже словаре, где говорится, что «категории рассматриваются как гибкие, подвижные, т. к. подвижны, изменчивы и сами свойства объективных предметов, явлений. Категории не появляются сразу в готовом виде. Они формируются в длительном историческом процессе развития познания» (с. 120). Таким образом, категории развиваются вместе с развитием самой науки.
Открытое признание гибкости, изменчивости категорий неявным образом указывает на возможность интерпретаций и самих законов диалектики, поскольку эти законы выражаются через категории. Для целей, которые ставились при написании настоящей работы, возможность пересмотра категорий особенно важна; речь идет об обсуждении проблем космологии в соответствующей главе этой книги — в ходе дискуссии по проблемам космологии, развернувшейся после 1956 г., некоторые авторы пришли к новой интерпретации термина «бесконечность», что стало возможным после анализа этой категории. «Время» и «пространство» включались в состав категорий в работах 50-х годов, уже будучи пересмотренными[26]. Другой областью, где категории подверглись тщательному исследованию, была квантовая механика. Здесь модификации подверглись понятие «причинность» или категории «причина и следствие».
1. Как будет отмечено далее, в начале 60-х годов некоторые энтузиасты кибернетики обсуждали проблему переформулирования законов диалектики в кибернетических терминах (см. гл. 8).
2. Hegel G.W.F. Science of Logic. London, 1951. P. 473.
3. Ibid. P. 477-478.
4. Hegel G.W.F. Op. cit. P. 475. CM. raime: Mc Taggart J.M.E. A Commentary on Hegel's Logic. Cambridge, 1910. P. 3-4.
5. Hegel G.W.F. Encyclopedia of Philosophy. N. Y., 1959. P. 77.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 20-21.
7. Acton H.B. The Illusion of the Epoch: Marxism - Leninism as a Philosophical Creed. Boston, 1957. P. 101.
8. The Logic of Hegel. W. Wallace, trans. Oxford, 1892. P. 205.
9. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 131. Поскольку каждый из этих законов имеет одинаковое значение для экономики и науки, то, согласно советским диалектикам, переход от капитализма к социализму и коммунизму осуществляется путем качественных скачков, являющихся результатом достаточных количественных изменений в способах производства и организации общества.
10. Далее Энгельс сравнивает этот пример с рассуждениями Маркса по поводу экономического принципа, согласно которому деньги превращаются в капитал. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 131-132
11. См., напр.: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные работы. В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 388-389.
12. Концепция диалектических уровней законов природы особенно важна для понимания взглядов А.И. Опарина, известного своими работами по проблеме происхождения жизни (см. гл. 3 настоящей книги). Она также важна для понимания дискуссий в физиологии и психологии, о которых речь идет в гл. 5.
13. Berdyaev N. Wahrheit und Luge des Kommunismus. Lucerne, 1934. P. 84.
14. Цит. по: Hegel G.W.F. The Logic of Hegel. Oxford, 1892. P. 22.
15. Принцип борьбы противоположностей имеет древнюю традицию в философии природы. Огонь и вода рассматривались еще Аристотелем в качестве одной из важнейших пар противоположностей. Некоторые средневековые алхимики соединили некоторые части философии Аристотеля с материалистической, по сути, точкой зрения на природу, согласно которой простые формы материи переходят в высшие естественным путем, и этот путь, по крайней мере потенциально, может быть повторен человеком.
16. Разумеется, Энгельс приближается в этих вопросах к натурфилософским взглядам начала XIX в. Интересная попытка представить эту натурфилософию в качестве имеющей важное значение для развития теории поля содержится в книге Л. Уильямса. «Происхождение теории поля» (Williams L. The Origins of Field Theory. N. Y., 1966) Особый интерес представляет обсуждение Уильямсом взглядов X.К. Эрстеда, многие из идей которого по поводу полярностей в природе напоминали идеи Энгельса (Williams L. Op. cit. P. 51ff).
17. Hegel G.W.F. Science of Logic. London, 1951, 2:66ff.
18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 145.
19. См. там же. С. 133-146.
20. Там же. С. 140-141.
21. Энгельс принимает эту жалобу, но не называет математика (см. там же. C. 11).
22. См.: Ленин В.И. Философские тетради. М., 1938 (1965). С. 212. В вышедшей в 1938 г. «Истории ВКП(б). Краткий курс» Сталин в статье «О диалектическом и историческом материализме» не упоминает закон отрицания отрицания вообще и тем самым представляет законы диалектики по-новому.
23. См.: Гончаров С.3., Молчанов В.А., Мануйлов И.М. Рецензия на книгу «Диалектика отрицания отрицания» (М., 1983)//Вопросы философии. 1985. № 3. С. 163.
24. Краткий словарь по философии. М., 1966. С. 119. Далее ссылки на это издание будут даваться непосредственно в тексте с указанием страниц.
25. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 229.
26. В число категорий, перечисленных в «Кратком словаре по философии» (М., 1966), вошли материя, движение, время, пространство, количество, качество, взаимодействие, противоречие, причинность, необходимость, форма и содержание, явление и сущность, возможность и действительность и т. д. Подробнее см.: Wetter G.A. Soviet Ideology Today. N.Y., 1966. P. 65.
Единство теории и практики
Другим аспектом диалектического материализма, имеющим важное значение для науки, является методологический принцип единства теории и практики. В советской истории был довольно длительный период, когда принцип единства теории и практики понимался таким образом, что ученые должны были привязывать свою исследовательскую деятельность к потребностям советского общества. Настоятельность этого требования по-разному звучала в разное время и довольно сильно варьировалась в зависимости от конкретной области научных исследований. Требование единства теории и практики можно прочесть и в работах Маркса, выступавшего против спекулятивного характера философии и стремившегося преодолеть его с помощью «актуализации» философии. Одним из наиболее известных высказываний Маркса на этот счет является одиннадцатый из «Тезисов о Фейербахе», гласящий, что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»[1]. По убеждению Энгельса, принцип единства теории и практики был связан с проблемой познания в целом. Он считал, что самым убедительным свидетельством против идеалистической эпистемологии является то, что знания человека о природе приносят практическую пользу; различные теории материи «работают» лишь в том смысле, что приносят конкретные результаты, которыми может воспользоваться человек. Как пишет Энгельс, «если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой «вещи в себе» приходит конец»[2]. Таким образом, практика становится критерием истины. Разумеется, Энгельс отдает при этом себе отчет в том, что многие теории или объяснения «работают», будучи незавершенными, неполными или основанными на ложных посылках или допущениях. Так, древние вавилоняне были способны предсказывать с помощью изобретенных ими таблиц некоторые явления звездного неба, не располагая практически никакими знаниями ни о местоположении звезд, ни о законах их движения. В каждый данный момент времени всякая научная теория содержит в себе ложные посылки и испытывает недостаток в важных свидетельствах в пользу ее истинности; многие весьма полезные теории, подобные астрономии Птолемея, оказались «низвергнутыми». Однако Энгельс утверждает, что успешное применение той или иной теории природы на практике указывает на то, что такая теория содержит внутри себя зерно истины[3].
1. Впервые «Тезисы о Фейербахе» были опубликованы в 1888 г. в качестве приложения к работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Подробнее об этом см.: Dutt C.P., ed. Ludwig Feuerbach. N.Y. 1935. P. 35. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 4).
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 284.
3. В качестве примера того, как в советской литературе обсуждается важность практики в качестве критерия истины, приведу работу Руткевича «Практика — основа познания и критерий истины», опубликованную в конце сталинского периода (Руткевич М.Н. Практика — основа познания и критерий истины. М., 1952).
Дискуссия между эпистемологистами и онтологистами
Как уже неоднократно упоминалось выше, основная дискуссия, развернувшаяся в последние годы среди советских диалектических материалистов, проходила между теми, кто считает, что законы диалектики внутренне присущи природе и что марксистская философия способна даже помочь ученому предсказать результаты исследования (позиция онтологистов), и теми, кто ограничивает роль диалектического материализма исследованием собственно философских проблем — таких, как проблемы логики, методологии и познания в целом (позиция эпистемологистов). Одним из лидеров эпистемологистов был Энгельс Матвеевич Чудинов. Названный в честь Фридриха Энгельса, Чудинов был убежденным марксистом, который хотел помочь советскому диалектическому материализму стать более изощренной, нежели ему удавалось быть до сих пор, формой философии. В 70-х годах Чудинов опубликовал целый ряд работ, демонстрирующих глубокое знание их автором состояния философии науки как в Советском Союзе, так и в странах Запада. Возможно, /61/ лучшей из его работ (он умер в 1980 г.) была книга «Природа научной истины» (М., 1977), в которой предпринимается попытка создать тщательно разработанную марксистскую эпистемологию[1]. В этой книге он в очень интеллигентной манере обсуждает работы целого ряда западных авторов, включая О'Коннора, Решера, Поппера, Куна, Лакатоса, Рассела, Фейерабенда, Бунге, Гемпеля, Карнапа, Масгрейва, Куайна, Грюнбаума и Гёделя.
Чудинов описывает диалектический материализм как дальнейшее и высшее развитие классической концепции диалектики, выдвинутой Платоном и Аристотелем и рассматривающей «истину» как соответствие между идеями и реальностью. Диалектический материализм отличается от этого традиционного взгляда тем, продолжает Чудинов, что вводит понятие «относительной истины» и подчеркивает роль практики как критерия истины. Таким образом, диалектический материалист знает, что он никогда не будет обладать абсолютной истиной, а будет обладать лишь такими знаниями, которые лишь асимптотически будут приближаться к отражению объективной реальности.
Будучи приверженцем взгляда о существовании объективной реальности, Чудинов выражает свое несогласие с концепцией Т. Куна о сменяющих друг друга научных парадигмах на том основании, что эта концепция не оставляет места для идеи прогресса в науке, осуществляющегося путем постепенного приближения к истине; он также отвергает критику концепции Куна Карлом Поппером, поскольку концепция «опровержения» (refutation), выдвигаемая Поппером, не придает должного значения практике, которая, по мнению Чудинова, является критерием истины.
Хотя позицию Чудинова и можно критиковать с различных точек зрения, его стремление исследовать собственно философские вопросы, а не просто давать оценку тем или иным достижениям в конкретных областях науки, как это было характерно для предыдущего поколения советских философов, следует рассматривать как положительный момент в развитии советской философии. В этом смысле он явился истинным «эпистемологистом», представителем того поколения реформаторов советской философии науки, которое достигло академической зрелости в 60-70-х годах.
До середины 70-х годов казалось, что эпистемологисты возьмут верх над онтологистами. Кроме всего прочего, многие онтологисты получили образование во времена Сталина, когда роль философии в науке была более сильной. Ослабление «хватки» сталинизма совпало по времени с уменьшением влияния онтологистов. Б.М. Кедров писал даже о том, что в большой степени онтологический подход был инспирирован четвертой главой знаменитого сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)», где диалектика грубо была применена к природе. Кедров весьма кстати заметил, что такой подход позднее был назван «онтологическим»[2].
Большинство онтологистов были либо философами старшего поколения, либо философами и естествоиспытателями различного возраста, работавшими за пределами престижных академических институтов. Однако к концу 70-х годов онтологисты все чаще начинают посягать на истеблишмент, приобретают новые силы. В связи с этим наиболее удивительным представляется то обстоятельство, что в 70-80-х годах к /62/ числу онтологистов примыкают некоторые молодые исследователи, ставшие приверженцами старого понимания диалектики природы, Одна из причин этого успеха заключалась, по-видимому, в той дидактической простоте, с которой это старое понимание могло преподаваться в вузах, где каждый студент обязан изучать курс диалектического материализма.
Важную роль в усилении позиций онтологистов сыграла книга М.Н. Руткевича «Диалектический материализм» (М., 1973), принятая Министерством высшего образования в качестве учебника для философских факультетов советских университетов. В этой работе содержатся заявления, указывающие на то, что марксизм — это не только философия, описывающая будущее развитие социальной и политической истории, но также концепция, способная давать оценку той или иной естественнонаучной теории. Подобная самонадеянность со стороны философа оскорбляла многих ученых-исследователей, которые часто выступали с критикой этой работы Руткевича. Однако, несмотря ни на что, книга эта продолжала пользоваться влиянием, особенно среди выпускников вузов и преподавателей средних школ.
Возможно, наибольшее раздражение в тексте Руткевича вызывает отсутствие в нем ясности по одному из кардинальных вопросов — вопросе о наследственности. Руткевич считает, что в интеллектуальном отношении взгляды Ламарка и Менделя имеют сегодня одинаковое значение, и предсказывает, что в будущем победа в этом вопросе будет за ламаркизмом[3].
Многие советские генетики сочли эти высказывания Руткевича вводящими в заблуждение; кроме того, особое раздражение у них вызвало присутствующее в этих высказываниях положение, согласно которому философ может давать более точную оценку той или иной теории наследственности, нежели биолог-специалист. Вдобавок, эти ученые-специалисты выступили с протестом против того, что в книге Руткевича ничего не говорится о том, какие ужасные последствия для генетики имела в прошлом подобная точка зрения на отношения марксизма и биологии. Думается, что Руткевича мало чему научил опыт прошлого.
В 1974 г. острый конфликт между представителями онтологистов и эпистемологистов возник на страницах журнала «Философские науки»[4]. Эта дискуссия дала более ясное представление о профессиональной принадлежности представителей этих фракций. Журнал «Философские науки» выступал органом Министерства высшего и среднего специального образования СССР. В 1974 г. в составе редколлегии журнала были представители философских кафедр вузов Свердловска, Еревана, Ростова-на-Дону, Киева, Ленинграда, Москвы, Минска, Одессы и Ступино. На философских кафедрах вузов (особенно провинциальных городов) в последние годы работало гораздо больше онтологистов, нежели в институтах системы Академии наук СССР, где большинство составляли эпистемологисты. Причину подобного «расклада сил» нетрудно понять: дело в том, что в СССР основной деятельностью факультетов университетов является преподавательская, а не исследовательская; взгляды онтологистов удобны для преподавания, поскольку им можно обучать, пользуясь традиционными учебниками и несколькими отрывками из классических работ Энгельса. В то же время в Академии наук работает большое количество профессиональных философов, занимающихся исследованием проблем познания, логики и семантики. Эти профессиональные философы-исследователи стремятся отделить философию от естествознания, с тем чтобы продемонстрировать различие предмета исследования в этих областях науки.
Это различие было наглядно продемонстрировано в ходе обмена мнениями между преподавателем Пермского университета В.В. Орловым и философом-исследователем из Института философии АН СССР Л.Б. Баженовым. Орлов утверждал, что философия должна «объяснять» процессы происхождения жизни и сознания, а Баженов выражал несогласие с этим, говоря о том, что задача давать такие объяснения стоит перед естествознанием, а не перед философией. Философия, писал Баженов, может вырабатывать лишь методологические принципы, которыми руководствуется мышление, а конкретные науки должны давать реальное объяснение этим явлениям.
Орлов считал, что позиция Баженова в этом вопросе означает, по существу, отказ от эвристической и педагогической функций диалектического материализма. Само определение «материя», продолжает он, должно даваться с помощью философских категорий марксизма; более того, «материя», лежащая в основе природы, развивается в определенном законами диалектики направлении, приводящем последовательно к появлению жизни, сознания и, наконец, самого человека. Орлов был известен как лидер группы марксистских философов из Пермского университета, считавших, что диалектический материализм включает в себя представления о целенаправленной эволюции материи, кульминацией которой является появление человека. Человек, как пишет Орлов, является высшей ступенью развития материи, ее венцом и хозяином природы[5].
В своих критических замечаниях Баженов говорит о том, что взгляды Орлова носят «откровенно телеологический» характер. И далее он пишет о том, что, требуя определения материи в категориях марксизма, Орлов тем самым приговаривает марксизм к постоянному «повторению задов» естествознания, поскольку естественнонаучные представления о материи постоянно развиваются и изменяются.
В конце 70-начале 80-х годов онтологисты вновь обретают влияние и силу, что совпадает по времени с возрождением консервативных настроений в Советском Союзе во многих областях. В 1980 г. выходит новый учебник по философии, в котором диалектика в природе трактуется так же, как это было сделано семью годами раньше Руткевичем[6]. Большое влияние взгляды онтологистов имели на формирование курсов по повышению квалификации преподавателей общественных наук. Эти курсы являлись формой образования, предлагаемой для преподавателей университетов (особенно провинциальных), технических вузов и техникумов. Качество обучения было весьма низким, однако количество учащихся — весьма большим. Число тех, кому преподавалась упрощенная трактовка диалектического материализма, позволяет говорить о том, что влияние онтологистов в системе советского образования было весьма большим. В 1982 г. вновь развернулась дискуссия между представителями названных направлений, в которой приняли участие более 70 авторов, опубликовавших статьи по этим вопросам в философских журналах. Как отмечалось в одной из работ конца 1982 г., «онтологические блуждания /64/ в нашей философии не закончились до сих пор. Больше того, в последнее время они обрели как бы второе дыхание. Существуют планы создания марксистской философии как системы онтологического знания. «Выпячивание» онтологического момента в марксистской философии объективно ведет к реставрации донаучных философских представлений»[7].
1. См. также его работы: «Теория относительности и философия» (М., 1974) и «Нить Ариадны: философские ориентиры науки» (М., 1979).
2. См.: Кедров Б.М. Марксистская философия: ее предмет и роль в интеграции современных наук//Вопросы философии. 1982. № 1. С. 60.
3. См.: Руткевич М.Н. Диалектический материализм. М., 1973. С. 349.
4. См. статью В.В. Орлова «О некоторых вопросах теории материи, развития, сознания» и отклики на нее, написанные С.Т. Мелюхиным, В.С. Тюхтиным и Л.Б. Баженовым (Философские науки. 1974. № 5. С. 47-77). Особый интерес представляют «Некоторые замечания по поводу публикации В.В. Орлова», написанные Л.Б. Баженовым (там же. С. 74-77).
5. См.: Орлов В.В. Указ. соч.//Философские науки. 1974. № 5.
6. См.: Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика. М., 1980.
7. Это мнение В.К. Бакшутова и В.И. Корюкина было опубликовано в «Обзоре откликов на статью Б.М. Кедрова »Марксистская философия: ее предмет и роль в интеграции современных наук« (Вопросы философии. 1982. № 12. С. 131). Более подробная информация о дискуссии содержится там же. С. 124-135, 53-62.
Социологизим (nurturism)
Другой характерной чертой диалектического материализма (которая, правда, представлена в работах советских философов, а не в работах Маркса и Энгельса) является убеждение в том, что первостепенное значение для формирования человеческого мышления имеет социальная среда, в которой формируется сам человек. Дополнением этого принципа является убеждение в том, что люди, выросшие в различных социально-культурных условиях, будут различаться не только содержанием, но и самим способом мышления. Этот принцип выведен из высказывания Маркса о том, что «бытие определяет сознание», и его значение всячески подчеркивалось советским руководством в силу его важности для целей преобразования общества. С 20-х годов этот принцип был важным аспектом советской педагогики; именно тогда известный советский педагог А.С. Макаренко (1888-1939) начал создавать лагеря для малолетних преступников, где, по его заявлениям, он намеревался перевоспитывать их, используя «общественно полезный труд» в качестве фактора, формирующего поведение[1]. Такие выдающиеся советские психологи-марксисты, как Л. Выготский, А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев, также подчеркивали значение социального окружения для формирования психики человека, о чем речь пойдет в главе, посвященной проблемам психики. Как во времена Сталина, так и после него главной целью Советского государства являлось формирование «нового советского человека» путем создания такого социального окружения для советских граждан, которое поощряло бы формы поведения, считающиеся приемлемыми для «советского социалистического общества».
В связи с этим в вопросе о роли «наследственности» (naturism) и «среды» (nurturism) в формировании человека советские марксисты в целом отдают предпочтение «среде», хотя время от времени здесь наблюдались известные колебания. Как мы увидим в последующих главах, в 20, 70 и 80-х годах отдельные советские марксисты высказывались в том смысле, что диалектический материализм не запрещает учитывать влияние и генетических факторов при объяснении поведения человека. В последние годы по этому вопросу в Советском Союзе ведется дискуссия, о которой речь пойдет в 6-й и 7-й главах этой книги.
Бросая взгляд на систему советского диалектического материализма в целом, в самом общем виде можно констатировать, что она представляет собой систему философии природы (natura philosophy), основанную на следующих, как представляется, вполне разумных принципах и представлениях:
— мир материален и построен из того, что современная наука описывает как материю-энергию;
— материальный мир представляет собой взаимосвязанное целое;
— человеческое знание формируется объективно существующей реальностью (как природной, так и социальной); бытие определяет сознание;
— мир находится в постоянном движении, и не существует ничего статичного в этом мире;
— все изменения материи происходят по определенным всеобщим законам;
— законы развития материи существуют на различных ее уровнях и соответствуют различным предметам наук, а потому не следует ожидать, что в каждом случае объяснение таких сложных сущностей, как, например, биологические организмы, можно осуществить с помощью элементарных физико-химических законов;
— материя бесконечна в своих свойствах, а потому и познание человека никогда не будет полным;
— движение мира объясняется внутренними факторами, а потому нет необходимости в постулировании некоего внешнего двигателя;
— человеческое знание прирастает со временем, что демонстрируется возрастающими успехами приложения этого знания на практике, однако это приращение осуществляется путем аккумулирования относительных, а не абсолютных истин.
История развития мысли ясно показывает, что ни один из вышеперечисленных принципов не является оригинальным завоеванием диалектического материализма, хотя, взятые в совокупности, они характерны только для этой концепции. Многие из перечисленных выше принципов или представлений поддерживались или высказывались различными мыслителями на протяжении последних двух тысяч лет. И сегодня многие ученые-практики в явной или неявной форме строят свою деятельность на основе допущений, во многом сходных с этими принципами (отсюда, кстати, вытекает часто высказываемое советскими авторами соображение о том, что выдающиеся ученые, не являющиеся марксистами, по крайней мере имплицитно являются сторонниками диалектического материализма). Однако даже весьма частое употребление большинства из наиболее общих принципов диалектического материализма не обесценило их. Прежде всего, эти принципы с наибольшей полнотой были разработаны и в наибольшей степени связаны с развитием науки именно в работах сторонников диалектического материализма, а не в любом другом своде литературы. Кроме того, несмотря на то, что некоторые из перечисленных принципов могут на первый взгляд показаться вполне приемлемыми и; не содержащими в себе чего-то необычного, существуют люди, не разделяющие этого взгляда. Так, многие, а возможно, и большинство философов отвергают приверженность диалектического материализма представлениям о первичности материи. В любой данный момент истории западной философии материализм никогда не был философской позицией, которую разделяло бы большинство философов; наиболее горячие его сторонники и защитники, как правило, не принадлежали к числу профессиональных философов. В дополнение к сказанному следует отметить, что диалектические материалисты выражали свое несогласие не только со взглядами их очевидных оппонентов в лице теистов и идеалистов, но также со взглядами материалистов старого типа — бескомпромиссных редукционистов, уверенных в том, что когда-нибудь все науки будут поглощены только одной — физикой. Суммируя сказанное, можно констатировать, что диалектический материализм, несмотря на то, что некоторые отмечают неопровержимый характер его наиболее общих принципов, по-прежнему остается достаточно противоречивым взглядом на мир — взглядом, находящим открытую поддержку лишь у незначительной части философов и ученых во всем мире. Если к упомянутым препятствиям, носящим скорее интеллектуальный характер, добавить политические, вытекающие из поддержки диалектического материализма со стороны бюрократического, авторитарного и репрессивного государства, то будет ясно, что нет ничего удивительного в том, что за пределами Советского Союза диалектический материализм имеет лишь относительно небольшое число сторонников. И все же следует заметить, что в интеллектуальном отношении диалектический материализм является вполне разумной, заслуживающей внимания точкой зрения, она представляется более интересной, чем было принято до сих пор считать философами и учеными за пределами Советского Союза.
Советский диалектический материализм в качестве философии науки черпает как из русской традиции, так и из традиции европейской философии. Его вклад в их развитие заключается прежде всего в подчеркивании роли естествознания как определяющего элемента философии. По мнению советских философов, с одной стороны, диалектический материализм помогает ученому-исследователю в его работе, а с другой — в свою очередь, испытывает на себе влияние результатов научного исследования. Время от времени критики диалектического материализма утверждают, что подобное описание отношений науки и философии, по существу, не является описанием вообще. Каков точный смысл, заключенный в заявлении о том, что «философия оказывает влияние на науку и, в свою очередь, испытывает на себе ее влияние»?
Разумеется, трудно дать ответ на этот вопрос, в котором бы содержалась точная оценка меры взаимного влияния философии и науки, однако совершенно ясно, что подобное взаимовлияние существует. Более того, подобное взаимовлияние, взаимодействие является важным элементом процесса рождения и выработки той или иной научной теории. Периодически могут возникать вопросы о степени влияния философии на науку или о тех механизмах, посредством которых такое влияние осуществляется, однако сам факт существования подобного взаимодействия или взаимовлияния не может ставиться под вопрос. На протяжении всей истории науки философия оказывала существенное воздействие на развитие научных представлений о природе и, в свою очередь, наука оказывала влияние на развитие философии. В своей деятельности ученые неизбежно выходили за рамки эмпирических данных и в явной или неявной форме следовали дальше, основываясь на тех или иных философских представлениях. Философы со своей стороны всем ходом эволюции научного знания направлялись к пересмотру основных понятий, на которых строились их философские системы, как это было с понятиями материи, пространства, времени и причинности.
Моменты, когда философия оказывала важное влияние на науку, можно обнаружить на протяжении всей истории науки, начиная с ее ранних этапов и кончая современностью. Учениям ионийских натурфилософов, основанным на натуралистических или нерелигиозных подходах к природе, пришли на смену учения греческих философов постсократовского периода, чьи философские взгляды исходили из существования некоего божества, необходимого для понимания Космоса. Бенджамин Фаррингтон отмечает, что астрономия была «пифагорезирована и платонизирована в течение относительно короткого отрезка времени, последовавшего за закатом ионийской школы». Далее он добавляет, что «астрономия не воспринималась греческой публикой до тех пор, пока не была избавлена от атеистических представлений»[2]. Это лишь один из примеров того, как философский взгляд на мир может влиять на формирование научной теории.
За этим примером последовало множество других. Известный историк науки Александр Койре (А. Ko yre) утверждает, что в вопросах понимания природы Галилей был платонистом и что это обстоятельство имело важное влияние на его становление как ученого. Взгляды Койре подвергались критике, но критика эта не отрицала возможности влияния философских представлений на Галилея[3]. Объяснение природы, предпринятое Ньютоном, также было представлено им в рамках религиозного мировоззрения, что делало это объяснение приемлемым для широкой публики, а также раскрывало нечто важное для понимания внутренних убеждений самого Ньютона. Декарт даже отложил публикацию своей книги «Principia Philosophia», с тем чтобы попытаться как-то приспособить свои взгляды на природу к ортодоксальным религиозным представлениям о ней; надо отметить, что в целом ему это удалось, однако потребовало известных усилий. Влияние, оказанное немецкой натурфилософией начала XIX столетия на европейских ученых, широко известно, и это влияние привело к тому, что такой известный историк науки, каковым является Л. Пирс Уильямс, рассматривал натурфилософию в качестве важного составного элемента теории поля; он, в частности, утверждал, что идея обратимости сил «была идеей, заимствованной у натурфилософии, — идеей, к которой ньютонианская система физики относилась если и не враждебно, то, по крайней мере, индифферентно»[4]. В каждом из перечисленных случаев проблема взаимодействия между наукой и философией является одной из основных проблем исследования для историка науки.
Воздействие философии на науку продолжается и до сегодняшнего дня; его не следует рассматривать как некий пережиток прошлого, который если еще не преодолен, то будет преодолен в будущем. По этому поводу Эйнштейн писал: «В наше время физикам приходится беспокоиться о философских вопросах в гораздо большей степени, нежели это делали предыдущие поколения физиков»[5]. Сам Эйнштейн часто признавал, что лично многим обязан критике науки со стороны философии; результатом этой критики явилась революция в науке XX в.
Мы слишком приближены к процессу развития современной науки для того, чтобы ясно различать ее взаимодействие с философией, но то, что такое взаимодействие имеет место, не вызывает сомнений. В качестве примера можно сослаться на то обстоятельство, что новые концепции квантовой механики и теории относительности, появившиеся в нашем столетии, не только имеют известные философские основания, но, в свою очередь, оказали определенное влияние на развитие философии западноевропейских стран первой половины XX столетия. В этих странах были представлены различные философские взгляды, однако самые популярные из них предпочитали религию атеизму и идеализм — материализму. Отсюда нет ничего удивительного в том, что некоторые достаточно известные ученые и философы из этих стран ухватились за эти новые физические теории, пытаясь построить с их помощью философские системы, которые оправдывали бы их религиозные и эпистемологические взгляды. Так, принцип неопределенности явился для них основанием для защиты принципа свободы воли, а появление физики относительности явилось сигналом, означающим конец материализма. В ответ на это советские диалектические материалисты полной мерой — даже более чем полной мерой — отвечают критикой религиозных и идеалистических взглядов. Каждая из сторон при этом в своей критике противоположных взглядов выходит за рамки интеллектуально оправданных утверждений, пытаясь представить противоположную позицию как не имеющую оснований. Эта дискуссия продемонстрировала, что ни одна из сторон не имеет преимущества в аргументации. Постепенно это стало очевидным для многих авторов, и качество их аргументации улучшилось. Советские авторы, работы которых являются предметом рассмотрения в этой книге, разработали диалектико-материалистическую интерпретацию Вселенной, основанную на тех самых принципах современной науки, которые их оппоненты пытались обратить против них.
Из всего сказанного вытекает вывод о том, что наука и философия взаимодействовали везде и во все времена, а не только в глубоком прошлом или только в Советском Союзе. Советская наука является частью мировой науки, и тип их взаимодействия, который может быть обнаружен в советских научных работах (принадлежащих подлинным интеллектуалам, а не партийным активистам), по существу мало в чем отличается от типа их взаимодействия в любой другой стране. Однако поскольку советская философская традиция отличается от традиций западноевропейской или американской философии, то и результаты названного взаимодействия не совпадали.
Таким образом, значение диалектического материализма состоит не столько в подчеркивании факта взаимодействия философии и науки — многие критики этого направления согласны с этим, — а в том, в какой форме это взаимодействие осуществляется в Советском Союзе. Советский диалектический материализм сегодня отличается от того диалектического материализма, который существовал в этой стране 50 лет назад, и не в последнюю очередь это изменение является результатом развития научного знания. Но, с другой стороны, и сама наука в Советском Союзе претерпела изменения за последние 50 лет, и изменения эти явились результатом влияния со стороны диалектического материализма. Хотя Коммунистическая партия и пыталась осуществлять контроль за этим взаимодействием (каковые попытки относятся скорее к прошлому, чем к настоящему), ей это не удалось сделать. Параллельно с этими попытками и независимо от них шел интеллектуальный процесс, имеющий большое значение и интерес для историков и философов науки. Последующие главы содержат в себе детальное описание тех дискуссий, которые шли в Советском Союзе в науке и философии. Основным источником для анализа этих дискуссий явились работы отдельных советских ученых.
1. См.: Балабанович Е.Н. А.С. Макаренко: человек и писатель. М., 1963.
2. Farrington B. Greek Science. Baltimore, 1961. P. 94-95.
3. Ko yre A. Galileo and Plato//Metaphysics and Measurement. London, 1968. P. 1-43. См. также: Etudes Galileennes. Paris, 1966. P. 227-291. Критику взглядов Койре см. в: McTighe T.P. Galileo's Platonism': A reconsideration//Galileo: Man of Science. N. Y., 1968. P. 365-387.
4. Williams L.P. The Origins of Field Theory. N. Y., 1966. P. 47.
5. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. 4. С. 248.
Глава III. Проблема происхождения жизни
Проблема происхождения жизни относится к числу наиболее интересных и в то же время наименее исследованных вопросов, связанных с взаимоотношением науки и марксистской философии. К сожалению, до сих пор ощущается недостаток информации в этом вопросе, связанный с отсутствием тщательных монографических исследований тех работ, которые велись в 20-х и 30-х годах (особенно в России и Великобритании) и посвященных изучению проблемы происхождения жизни. Вместе с тем, однако, как видно из слов Уоддингтона, вынесенных в эпиграф этой главы, здесь возникают вопросы, которые представляются важными для понимания связей между наукой и марксистской философией.
Большинство ученых и историков науки, безусловно, скептически относятся к идее о существовании прямой связи между наукой и политической идеологией, а потому нет сомнения в том, что и в приведенных выше словах Уоддингтона не содержится стремления установить такую причинную связь. В этих словах, взятых из его рецензии, имеет место скорее постановка вопроса о возможном влиянии марксизма на формирование теории происхождения жизни, которая могла быть осуществлена в первой половине XX столетия, чем попытка ответить на этот вопрос. История науки содержит в себе множество примеров, дающих возможность установить связь между наукой и политикой, однако при более внимательном их изучении эти связи зачастую либо исчезают совсем, либо оказываются более сложными, нежели это представлялось сначала. Как мы увидим в ходе дальнейшего изложения, существуют довольно веские доказательства против убеждения в том, что, создавая свои теории, Опарин и Холдейн занимались, по существу, применением марксизма в биологии. Тем не менее сам по себе вопрос о взаимодействии марксизма и биологии в XX в. представляется весьма важным и заслуживающим внимания и изучения.
Для начала представляется полезным сравнить отношение обозревателей на Западе к двум различным событиям в истории науки — к так называемому «делу Лысенко» и к дискуссиям по проблеме происхождения жизни. По отношению к обоим этим событиям можно сказать, что ни в одном из этих случаев не существует очевидных свидетельств в пользу того, что марксизм как система мысли имел сколько-нибудь существенное значение для их возникновения. Вместе с тем, однако, все трое ученых, чьи имена связаны с этими событиями, — Опарин, Холдейн и Лысенко — во времена, последовавшие за выдвижением каждым из них собственной, отличающейся от других гипотезы, вполне ясно заявляли о том, что марксизм оказал важное влияние на развитие их биологических представлений. Все трое стали диалектическими материалистами. И все же если в разговоре со средним образованным западноевропейцем или американцем произносятся слова «марксизм и биология», то он (или она) сразу же подумают только о Лысенко. Эта тенденция объяснять известное всем бедствие для науки результатами влияния марксистской философии, одновременно считая, что замечательная страница в истории биологии не имеет ничего общего с марксизмом, представляет собой отражение (по крайней мере, отчасти) той предвзятости и избирательного подхода, которые свойственны западным журналистам и историкам, освещающим эти события.
И все же остается важный вопрос: какое отношение имеет марксизм к гипотезе Опарина — Холдейна? Несмотря на то, что и сегодня, как представляется, невозможно дать на этот вопрос вполне определенный ответ, все же можно попытаться кое-что прояснить здесь. Однако прежде чем попытаться сделать это, я бы хотел остановиться на некоторых наиболее общих моментах, связанных с именем А.И. Опарина и проблемой происхождения жизни. Будучи русским, чья сознательная жизнь почти полностью совпадает по времени с историей Советского государства, Опарин, естественно, представляет больший интерес в связи с целями настоящей книги, нежели Холдейн. Работа Опарина над решением проблемы происхождения жизни предшествовала сходной, но абсолютно независимой от нее работе Холдейна; сам британский ученый заявил в 1963 г.: «Я не сомневаюсь в том, что работы профессора Опарина обладают приоритетом по сравнению с моими работами»[1].
Проблема происхождения жизни является одной из самых старых в истории человеческой мысли. И почти на протяжении всей этой истории наиболее распространенной была точка зрения, считающая жизнь результатом «самозарождения». Убеждение в том, что жизнь — это самозарождающееся явление, не было отличительной особенностью какой-то одной школы или направления общественной мысли; для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить имена Демокрита, Аристотеля, святого Августина, Парацельса, Ф. Бэкона, Декарта, Бюффона и Ламарка, обладавших различными взглядами на природу, но тем не менее разделявших убеждение в возможности самозарождения жизни. С изобретением микроскопа центр внимания в дискуссиях о происхождении жизни перемещается на уровень невидимых обычным глазом явлений. В конце 1860-х годов имел место знаменитый спор о возможностях самозарождения микроорганизмов между французскими учеными Феликсом Пуше и Луи Пастером; /71/ спор не дал результатов, и это способствовало тому, что до конца века дискуссии на эту тему пользовались плохой репутацией среди ученых. Вместе с тем некоторые из них, например X.Ч. Бастиан, продолжали рассматривать самозарождение как вполне возможную вещь[2]. В «Диалектике природы» Ф. Энгельс иронически замечал, что было бы нелепостью воображать, «что можно принудить природу при помощи небольшого количества вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались тысячелетия»[3]. Большинство исследователей при этом не замечают следующих слов самого Пастера, произнесенных им в 1878 г.: «Самозарождение? Я не мог обнаружить свидетельств в его пользу на протяжении 20 лет и продолжаю их искать, но это не значит, что я исключаю саму возможность его существования»[4].
Большая часть сказанного может, как представляется, служить своеобразным введением к разговору об А.И. Опарине как о представителе теории самозарождения в XX в. Однако если под самозарождением жизни из неживой материи понимать некое внезапное появление относительно сложных сущностей, будь то организм, клетка или молекула ДНК, то следует подчеркнуть, что на самом деле Опарин был оппонентом такого рода понимания самозарождения жизни. По его мнению, убеждение в том, что столь сложная структура, каковой является клетка или даже «живая» молекула нуклеиновой кислоты, может появиться «спонтанно», самопроизвольно, основано на представлениях «метафизического материализма» и страдает теми же недостатками (о которых речь пойдет ниже), что и выдвинутые в свое время аргументы Пуше.
Александр Иванович Опарин (1894-1980) был выдающимся биохимиком, в 1917 г. он закончил Московский университет и стал впоследствии его профессором[5]. Его имя также тесно связано с деятельностью Института биохимии АН СССР, одним из создателей которого в 1935 г. он был и директором которого он стал в 1946 г. В том же году он был избран действительным членом Академии наук. В 1950 г. он становится лауреатом премий имени А.Н. Баха и имени И.И. Мечникова. Его деятельность была связана с решением многих проблем, включая такие практические вопросы, как производство сахара, хлеба и чая, однако широкую известность как в СССР, так и за его пределами получили его работы по созданию теории происхождения жизни. За почти шестидесятилетний период своей творческой деятельности Опарин опубликовал множество книг и статей по этой проблеме. Еще в 1922 г. он выступил в Московском обществе ботаников с докладом по проблеме происхождения жизни, основные положения которого нашли свое отражение в брошюре, опубликованной им в 1924 г.[6]. И хотя эта брошюра часто цитируется в научной литературе, ее следует рассматривать как весьма редкое издание, английский перевод которого появился лишь в 1967 г.[7]. Большинство англоязычных читателей Опарина ссылаются на издание его работы 1938 г.[8] и последующие ее переиздания; следует, однако, отметить, что текст этого издания отличается от текста брошюры 1924 г. тем, что представляет интерес для историков науки, о чем речь пойдет несколько ниже. Следует также сказать, что советские достижения конца 50-х годов в космической области привели к росту интереса к советской науке во всем мире, что, в свою очередь, способствовало более быстрому распространению внимания к работам Опарина. В 1968 г. его работа «Возникновение и начальное развитие жизни» (1966 г.) была опубликована на английском языке Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) [9].
Наиболее выдающийся вклад Опарина в исследование происхождения жизни заключается в возобновлении интереса ученых к этой проблеме. В своей популярной книге «Происхождение жизни» американский биолог Джон Кеосиан так пишет об этом: «Заслуга Опарина в том, что он возродил материалистический подход к изучению вопроса о происхождении жизни, а также в детальной разработке этой концепции»[10]. В своей книге (1967 г.) английский ученый Дж. Бернал отмечает, что работа Опарина, опубликованная в 1924 г., «уже содержала в себе в зачаточном состоянии новую программу исследований в области химии и биологии. В большой степени эта программа была осуществлена им самим, но она вдохновляла также работу многих других людей... При ее выполнении Опарину вряд ли удалось ответить хотя бы на один из поднимавшихся в этой работе вопросов, но сами эти вопросы были настолько важны и многообещающи, что дали толчок многочисленным исследованиям и поискам ответов на них, которые велись в течение четырех десятилетий, последовавших с момента опубликования этой работы. Это еще раз подтверждает справедливость мысли о том, что не столь важно решить какую-то проблему, сколь важно увидеть ее и поставить. Эта мысль справедлива по отношению к деятельности самых выдающихся ученых... Значение этой работы в том, что за ней последовали другие, и хотя она страдала известными недостатками, они могли быть и на самом деле были исправлены в дальнейшем» (с. 240-241).
Обращаясь теперь к вопросу об интеллектуальных и социальных влияниях, испытанных Опариным при разработке своей теории, следует со всей ясностью подчеркнуть, что начиная с начала 30-х годов Опарин находился под воздействием диалектического материализма. Свидетельством тому являются не только его многочисленные высказывания в поддержку этой теории, но, что гораздо важнее, сам метод анализа, который присутствует в его последующих публикациях, проникнутых представлениями «философии процесса» (process philosophy) и представлениями о существовании в природе различных уровней движения, подчиняющихся различным законам. Все эти представления описываются в его работах языком теории диалектического материализма. Опарин настолько часто в своих работах говорит о значении диалектического материализма для теории биологического развития, что почти все его публикации, имеющие сколько-нибудь значительный объем, содержат подобные заявления. Существует, разумеется, вероятность того, что эти высказывания являлись результатом политического давления, однако, если прочесть работы Опарина в хронологическом порядке их публикации в течение многих лет, во время которых политическая атмосфера в советском обществе могла значительно изменяться, то нельзя, как мне представляется, будет избежать вывода о том, что деятельность Опарина испытывала на себе весьма существенное и все возрастающее со временем влияние со стороны диалектического материализма. В 1953 г. Опарин писал:
«Только диалектический материализм нашел правильные пути к познанию жизни. Согласно диалектическому материализму, жизнь есть особая форма движения материи, которая возникает как новое качество на определенном этапе исторического развития материи. Поэтому она обладает свойствами, отличающими ее от неорганического мира, и ей присущи особые, специфические закономерности, не сводимые только к закономерностям физики или химии»[11].
А в книге, опубликованной в 1966 г. и переведенной НАСА в 1968 г., Опарин отмечает:
«Диалектический материализм, рассматривая жизнь как качественно особую форму движения материи, даже самую задачу познания жизни формулирует иначе, чем механицизм. Для последнего он заключается в наиболее полном сведении жизненных явлений к физическим и химическим процессам. Напротив, с диалектико-материалистической точки зрения главное в познании жизни заключается в установлении именно ее качественного отличия от других форм движения материи»[12].
По мере того как я буду обращаться к другим работам Опарина, посвященным проблеме происхождения жизни, будет проясняться, как я думаю, специфика его диалектико-материалистического подхода к этой проблеме. Хочу подчеркнуть, что предпринимаемый мною анализ работ Опарина не следует рассматривать как историю развития его теоретических взглядов в целом; эта история еще остается ненаписанной, и ее будущему автору необходимо будет в более полном, нежели у меня, объеме представить эту историю на фоне развития биохимии в целом. Думается, что в этой истории диалектический материализм будет играть меньшую роль, нежели в настоящем анализе, но тем не менее даже и в этом случае влияние, оказанное диалектическим материализмом на творчество Опарина, будет рассматриваться как весьма важное.
Если мы обратимся к упомянутой брошюре Опарина 1924 г., то мы не найдем в ней упоминания марксизма. И что имеет гораздо большее значение, в этой брошюре (в отличие от большинства его последующих работ) мы не обнаружим следов концепции «различных уровней законов», а также заявлений по поводу качественного отличия принципов, управляющих движением материи на ее различных онтологических уровнях. Другими словами, в 1924 г. Опарин выступал как материалист (и здесь, безусловно, сказалось влияние социально-политической обстановки того времени), но как материалист старого образца, убежденный в том, что явление жизни может быть полностью объяснено с помощью представлений и понятий физики и химии. Для примера сравним его вышеприведенное высказывание из работы, опубликованной в 1953 г., со следующими словами, взятыми из брошюры 1924 г. издания: «Чем ближе, чем детальнее мы познаем сущность процессов, совершающихся в живой клетке, тем больше и больше крепнет в нас уверенность в том, что в них нет ничего особенного, таинственного, неподдающегося объяснению с точки зрения общих для всего сущего законов физики и химии» (с. 214). И в другом месте в этой же брошюре Опарин отмечает: «Жизнь характеризуется не какими-либо определенными свойствами, а особенной, специфической комбинацией этих свойств» (с. 217). Как видим, в обеих цитатах Опарин выражает вполне редукционистские взгляды, хотя слова об «особенной, специфической комбинации свойств», взятые из второй цитаты, оставляют место для выработки концепции о существовании «специфически биологических законов», отличающихся от законов физики и химии, — концепции, которая позднее стала играть фундаментальную роль в творчестве Опарина. По иронии судьбы Опарин, боровшийся в 1924 г. с витализмом с позиций чисто физико-химического подхода к явлениям жизни, в 50-х и 60-х годах выступает в защиту представлений об уникальном характере биологических закономерностей, борясь при этом против тех представителей молекулярной биологии, которые пытались объяснять явление жизни исключительно с помощью представлений о структуре молекул нуклеиновой кислоты, то есть с помощью чисто физико-химических представлений.
Тот факт, что в 1924 г. Опарин пока не обладал глубокими и систематическими познаниями в теории диалектического материализма, еще не является доказательством того, что марксизм вообще не имел никакого отношения к выбору Опариным времени публикации своих представлений. В начале 20-х годов Россия была страной победившей революции, совершенной под знаменем марксизма. «Материализм» был одним из наиболее популярных лозунгов того времени, и по большей части это выражение понималось упрощенно, механистически (что, собственно, и нашло отражение в брошюре Опарина), а не в утонченной форме, которая была разработана позднее. Ни «Диалектика природы» Энгельса, ни «Философские тетради» Ленина еще не были опубликованы в то время; именно в этих двух работах жесткому редукционизму раннего материализма была противопоставлена концепция существования качественно различных уровней действия законов природы. Материалистические взгляды Опарина развивались параллельно тем философским представлениям, которые господствовали в советском обществе. Коммунизм, вероятно, имел известное отношение к тем заявлениям, которые содержались в брошюре 1924 г., но не в смысле отношения диалектики к теориям происхождения жизни; коммунизм в России в 20-е годы создавал скорее атмосферу, в которой материалистический ответ на вопрос: «Что есть жизнь?» — казался естественным. Именно эта атмосфера советского общества 20-х годов делала различного рода спекуляции, основанные на материалистических представлениях, не только возможными, но и почти неизбежными. Поэтому, выражая свои взгляды, Опарин, естественно, мог не опасаться реакции со стороны политического и социального окружения. Интересно, что в условиях Великобритании того времени сходные взгляды могли вызвать противоположную реакцию, что и случилось, когда спустя пять лет Холдейн высказал сходную точку зрения на проблему происхождения жизни. Как отмечал в своей книге Бернал, «идеи Холдейна были отброшены как необдуманная спекуляция» (с. 251). В 1929 г. Холдейн заверял своих читателей в том, что его взгляды (не совпадающие полностью со взглядами Опарина, но похожие на них) вполне совместимы с «представлением о том, что некий разум или дух могут ассоциировать себя с определенным видом материи»[13]. И все же было совершенно ясно, что Холдейн не придерживался точки зрения витализма и высказывания, подобные /75/ вышеприведенному, объяснялись его надеждой на то, что его научная концепция не будет отвергнута просто потому, что «некоторые люди посчитают достаточным назвать эту концепцию материалистической»[14].
Насколько лично Опарину были близки в то время идеи марксизма, остается до сих пор неизвестным. Начиная с 1921 г. он работает в тесном контакте со старейшим советским биохимиком А.Н. Бахом, который был революционером, бывшим эмигрантом и который еще с 1880-х годов публиковал работы по марксизму[15]. Однако до тех пор, пока мы не узнаем больше о философских взглядах Опарина в период 1917-1924 гг., трудно будет сказать что-то определенное относительно того влияния, которое марксистский материализм оказал на содержание его брошюры 1924 г.
Попутно можно было бы добавить, что сходная проблема существует и в случае с Холдейном. Подобно Опарину, он, как представляется, испытал наибольшее влияние со стороны марксистской мысли уже после того, как опубликовал первую фундаментальную работу по проблеме происхождения жизни. Как уже говорилось, свою первую статью на эту тему Холдейн опубликовал в 1929 г. А в 1938 г. Холдейн пишет: «Я являюсь марксистом только около года. Я еще не успел прочесть всю литературу, в которой раскрывалось бы существо марксизма, однако я, разумеется, прочел много подобной литературы до того, как стал марксистом»[16]. Эти слова, разумеется, не являются доказательством того, что к 1929 г. Холдейн не был знаком с марксистскими идеями относительно развития. В конце 20-х годов Холдейн становится лидером группы кембриджских интеллектуалов, весьма интересующихся марксизмом. Однако в атмосфере тех дней содержались и другие веяния, которые могли представлять интерес для таких людей, как Холдейн, и иметь отношение к проблемам биологии; речь идет о «философии процесса» (process philosophy) А.Н. Уайтхеда. Некоторые исследователи творчества Холдейна считают, что его взгляды на науку явились результатом сложного взаимодействия между редукционистской биохимией, «философией процесса» Уайтхеда и марксизмом. Каково бы ни было соотношение этих составляющих, думается, что в действительности имела место их совместная эволюция, основанная на взаимодействии[17]. Результатом этой эволюции и явилось написание Холдейном работы, озаглавленной «Марксистская философия и конкретные науки» (The Marxist Philosophy and the Sciences). Сходная эволюция взглядов наблюдалась и у Опарина; разница между ним и Холдейном заключалась в том, что с течением времени интерес Опарина к марксизму углублялся.
Задача, стоявшая перед Опариным в 1924 г., заключалась как в изменении психологической ориентации ученых-биологов, так и в изменении направления исследований в самой биологии. Ему предстояло убедить своих читателей в том, что, несмотря на победу Пастера в его уже упоминавшемся споре с Пуше и неудавшиеся попытки ученых создать в лабораторных условиях хотя бы простейшие живые организмы, материалистический подход к проблеме объяснения происхождения жизни по-прежнему заслуживает внимания.
Бросая взгляд в прошлое, отмечает Опарин, мы не должны испытывать чувство удивления исходом спора между Пастером и Пуше. Последний на самом деле был не прав в этом споре, но не потому, что придерживался материалистических взглядов. Даже самые простейшие микроорганизмы (включая те, которые рассматривались в споре между Пастером и Пуше) являются достаточно сложными материальными объектами; они обладают «исключительно сложной» протоплазмой. Как же в таком случае Пуше мог даже предположить, что столь высокоорганизованные и специализированные формы материи могли «случайно» возникнуть в течение нескольких часов или даже дней из относительно бесформенной смеси? Подобные предположения носили ненаучный характер в самом глубоком смысле этого слова, они, по существу, нарушали принцип объяснения природы с помощью наиболее простых из имеющихся в наличии средств. Как отмечает Опарин, даже «простейшие, состоящие всего из одной клеточки, представляют из себя весьма сложные образования... Предположение о том, что такое сложное образование с вполне определенной тонкой организацией могло самопроизвольно зародиться в течение нескольких часов в бесструктурных растворах, какими являются бульоны и настои, так же дико, как и предположение об образовании лягушек из майской росы или мышей из зерна» (с. 203).
Каким же образом можно начать процесс объяснения происхождения жизни на основе материалистических представлений? По мнению Опарина, начать следует с обращения к самым простым формам неживой материи, распространив на их изучение дарвиновский принцип эволюции. Связь между «миром живого» и «миром неживого» может быть установлена путем попытки рассмотреть эти два мира в их историческом развитии. Всякая структурированная сущность, представляющая живую или неживую материю, — одноклеточный организм, кусочек неорганического кристалла[18] или глаз орла — не может быть понята или объяснена вне изучения их исторического развития, их эволюции. Пуше проиграл спор потому, что микроорганизмы, которые, по его мысли, могли зарождаться спонтанно, на самом деле являлись конечным продуктом исключительно долгой эволюции и могли появиться на свет только в результате длинной цепочки развития материальных форм, а не в результате отхода от этой линии развития.
В одном из разделов своей брошюры 1924 г., носящем название «От разрозненных элементов к органическим соединениям», Опарин пытается реконструировать исторический процесс, который мог бы привести в итоге к появлению жизни, — процесс, в котором простое всегда предшествовало сложному. В связи с этим он считает необходимым отказ от обычных представлений о том, что все органические соединения являются продуктами деятельности живых существ — представлений, по-прежнему распространенных в то время, несмотря на то что, как считалось, Вёлер осуществил синтез мочевины еще в 1828 г.[19] По мысли Опарина, постулирование того, что все органические соединения производятся живыми организмами, является методологически ошибочным, поскольку сами эти организмы состоят из органических соединений и многие из них обладают при этом более сложной структурой, нежели те продукты, которые, как считается, они производят. Правильнее было бы, считает Опарин, исходить из того, что, по крайней мере, некоторые органические соединения предшествовали по времени происхождения организмам и сыграли важную роль в их происхождении. Важную роль в развитии этих мыслей Опарина сыграла теория карбидного происхождения нефти, выдвинутая за много лет до этого великим русским химиком Д.И. Менделеевым. Суть этой теории заключалась в том, что Менделеевым была предложена формула, показывающая возможность происхождения углеводородного метана в результате воздействия пара на карбиды металлов в условиях высокой температуры и давления:
С3Al4 + 12H2O —> 3CH4 + 4Al(OH) 3
Согласно этой теории, метан, возникший из неорганического источника, претерпевал в дальнейшем целый ряд трансформаций, ведущих в конечном итоге к возникновению нефти. Опарин не принял гипотезу Менделеева о возможных путях происхождения нефти[20] (как, впрочем, не приняли ее и представители геологической науки в целом, хотя были известны попытки возродить эту идею), но сама идея стимулировала его размышления по поводу возможности неорганических источников происхождения органических соединений. И даже в 1963 г. Опарин продолжал подчеркивать важное значение идеи Менделеева для формирования его собственной концепции происхождения жизни[21].
С целью обнаружения необходимой температуры, давления и источника энергии Опарин обращается к теории происхождения Земли, согласно которой в момент своего появления Земля представляла собой оболочку раскаленного газа. Опарин утверждает:
«Только в огне, только в калильном жару могли образоваться вещества, впоследствии родившие жизнь. Был ли то циан, или были то углеводороды — в конце концов не так уж важно; важно то, что эти вещества обладали колоссальным запасом химической энергии, давшей им возможность дальнейшего развития, совершенствования» (р. 226).
При переиздании своей книги в 1936 г. Опарин свяжет этот взгляд на происхождение Земли с теорией планетарной космогонии Джеймса Джинса, согласно которой при приближении к Солнцу звезда может захватить небольшую часть раскаленной солнечной атмосферы. Как отмечается в главе этой книги, посвященной проблемам космологии и космогонии, в последующие годы эта теория подверглась в Советском Союзе суровой философской критике как «сверхъестественная и невероятная». В дальнейшем и Опарин отвергает теорию планетарной космогонии Джинса, обнаружив другие возможные источники энергии, необходимой для формирования сложных углеводородных соединений.
В заключительной части своей первой работы Опарин обсуждает проблему появления живых существ в результате эволюции простых органических соединений. И здесь он формулирует одно из наиболее парадоксальных (но сегодня представляющихся вполне правдоподобными) положений своей теории, которое сохранит свое значение до конца жизни Опарина: одним из необходимых условий возникновения жизни является ее отсутствие до момента возникновения, и, следовательно, теперь, когда жизнь на Земле существует, она уже не может возникнуть на ней вновь, по крайней мере таким же образом, каким она возникла сначала. Опарин вполне наглядно объясняет это положение в своей книге:
«Если бы даже такие вещества и образовались в настоящее время в том или ином месте земного шара, то они не могли бы уйти далеко в своем развитии. На определенной стадии этого развития они все сплошь были бы съедены, разложены вездесущими бактериями и другими микроорганизмами, населяющими землю, воду и воздух.
Иначе обстояло дело в ту отдаленную эпоху существования Земли, когда органические вещества впервые возникли. Тогда Земля, по нашим представлениям, была бесплодна, стерильна. Ни бактерий, ни каких других микроорганизмов на ней не было, и органические вещества имели полную возможность на протяжении многих и многих тысячелетий широко следовать своей большой склонности к превращениям» (р. 228).
Положение о том, что необходимым условием для возникновения жизни является ее первоначальное отсутствие, в 1924 г. представлялось более оригинальным, нежели сегодня, поскольку в промежутке между этими двумя датами увидело свет письмо Ч. Дарвина, написанное в 1871 г. и содержащее упоминание аналогичной гипотезы[22]. Некоторые другие ученые также упоминают эту гипотезу в своих работах в конце XIX — начале XX в.[23] В последующих изданиях этой работы Опарин объясняет этот парадокс с помощью диалектической концепции закона природы: на каждом уровне развития бытия действуют различные законы, а потому законам химии и физики, действовавшим на Земле до возникновения жизни, пришли на смену отличающиеся от них биологические законы, возникшие с появлением жизни на Земле. С появлением человека на смену биологическим законам пришли социальные.
Продолжая развивать свой гипотетический сценарий возникновения жизни, Опарин описывает процесс возникновения коллоидных растворов (р. 229). Именно акцент на появлении жизни в жидкой среде путем «выпадения геля» и стал отличительной особенностью концепции Опарина; с того момента, как его общий материалистический подход к проблеме происхождения жизни получил широкое признание, эта теория геля, или, как ее еще называют, «коацерватная теория», стала рассматриваться как личное достижение Опарина в исследовании этой проблемы. Вследствие этого в центре внимания многих дискуссий, обсуждавших значение взглядов Опарина, находились вопросы, связанные с проверкой коацерватной теории на прочность.
Сама по себе идея о возникновении жизни из «первородного студня» не была, разумеется, чем-то новым, поскольку являлась частью представлений, выдвинутых в свое время Т. Хаксли, однако, в отличие от него, Опарину удалось представить эту идею в более приемлемом виде. В работе 1924 г. Опарин не использует еще понятия «коацерват». Оно появляется в последующих изданиях этой работы, после того как Опарин знакомится с исследованиями процессов коацервации, осуществленными Г. Бунгенбергом-де-Йонгом. Однако и в первой своей работе, и в последующих публикациях Опарин твердо настаивает на принципе, согласно которому жизнь возникает на уровне многомерных структур: коагулянты, гели и коацерваты — это мультимолекулярные образования, обладавшие довольно сложной структурой до того момента, как их можно было назвать «живыми». После того как они становились живыми, в действие вступал естественный отбор, результатом которого явилось появление сложных организмов, чья жизнеспособность начинает неуклонно повышаться.
Момент перехода от «неживого» к «живому» является решающим с философской или методологической точки зрения. И здесь следует отметить, что в своих работах Опарин не пытается дать строгой дефиниции понятия «жизнь», предпочитая пользоваться метафорами или говорить о различных комбинациях условий, необходимых для возникновения жизни; при этом совершенно очевидно, что его представления о том, в какой момент появляется жизнь, претерпевали со временем известные изменения. В 1924 г. он описывает этот момент как «момент выпадения геля или момент образования первородного студня», замечая далее, что «с некоторыми оговорками мы даже можем считать этот впервые возникший на Земле кусочек органической слизи первичным организмом. В самом деле, он должен был обладать многими из тех свойств, которые в настоящее время рассматриваются как признаки жизни» (с. 229). Это замечание вполне совпадает с редукционистским, механистическим подходом молодого Опарина к проблеме происхождения жизни, согласно которому простой физический процесс коагуляции мог предвещать собою главный переход — переход от «неживого» к «живому». В последующие годы он будет утверждать, что первые капельки коацерватов не являлись живыми и что именно на этом уровне неживых форм и возникает «примитивный естественный отбор» (эти представления Опарина подвергались сильной критике, о чем речь пойдет дальше). Жизнь, согласно Опарину, возникает не только после того, как появляются те из ее характеристик, которые считаются общепринятыми (метаболизм, самовоспроизводство), но также после того, как достигается определенная «целенаправленность» ее организации[24]. К этому противоречивому аспекту теоретических построений Опарина, который наиболее агрессивные его критики связывали с аристотелевскими представлениями об «энтелехии», мы еще обратимся в дальнейшем изложении.
Одна из метафор, которую Опарин использовал в своих ранних работах, была использована им и в последующих работах — это было сравнение жизни с потоком. В 1924 г. он писал, что «... организм можно уподобить водопаду, который сохраняет постоянным свой общий вид, несмотря на то что его состав все время меняется, что через него непрерывно проходят все новые и новые частицы воды» (с. 211); в 1960 г. Опарин отмечает, что «наши тела текут, как ручьи, материя возобновляется в них, как вода в потоке, — учил еще великий диалектик Древней Греции Гераклит. И действительно, поток или просто струя воды, вытекающая из водопроводного крана, позволяет нам в простейшем виде понять ряд существеннейших /80/ особенностей организации таких поточных, или открытых систем, какою, в частности, является и живое тело»[25]. Эти высказывания, основанные на представлении о постоянном движении материи, происходящем в живых организмах, послужили причиной вовлеченности Опарина в дискуссии по поводу того, могут ли относительно устойчивые статичные образования (высушенные зерна и вирусы), иногда рассматриваемые как живые, соответствовать подобному пониманию жизни.
Если попытаться сравнить брошюру Опарина 1924 г. издания с другой его работой, вышедшей в 1936 г. (которые содержали соответственно около 35 и 270 страниц), то можно будет заметить целый ряд изменений, отличающих вторую работу от первой. Биохимик заметит, что вторая работа содержит более полное описание коллоидной фазы возникновения жизни, а также следующее за ним описание развития способностей к фотосинтезу у предков растительных организмов. Историк и философ отметят возросшую осведомленность Опарина в философских вопросах, более усовершенствованный характер дефиниций, содержащихся в работе 1936 г., и, наконец, его осознанное обращение к марксизму.
К 1936 г. Опарин уже мог извлечь пользу из работ Г. Бунгенберга-де-Йонга о «коацервации», в которых само это понятие было использовано с целью отличить явление коацервации от процессов обычной коагуляции. Известно, что в растворах гидрофильных коллоидов часто возникает расслоение на два слоя или пласта, уравновешивающих друг друга; один слой содержит жидкий осадок, состоящий в основном из коллоидной субстанции, а второй слой оказывается относительно свободным от содержания коллоидов. И как раз содержимое первого из этих слоев Бунгенберг-де-Йонг и назвал коацерватом. Опарин подчеркивал значение явления, происходящего на границе между упомянутыми слоями или на поверхности коацервата: различные субстанции, растворенные в другом слое, абсорбируются коацерватом. Таким образом, коацерваты могут увеличиваться в размерах, делиться на части и подвергаться химическим изменениям. Говоря об активной роли коацерватов, Опарин пытался представить их как модели «протоклеток». Согласно Опарину, процессы, происходящие между коацерватом и другим слоем, представляли собой начало метаболизма как условия, необходимого для существования жизни. Вместе с тем Опарин говорит о том, что для того, чтобы инициировать жизненные процессы, коацерваты должны были приобрести «новые качества еще более высокого порядка, качества, подчиняющиеся уже биологическим закономерностям»[26]. В работе 1936 г. Опарин высказывает более высокие требования в отношении возникновения жизни, нежели в 1924 г., и теперь его концепция содержит фазу эволюции неживых коацерватов[27].
В книге 1936 г. переход от неживых форм к живым по-прежнему не получает ясного определения в теоретической схеме Опарина. Этот переход, по его мысли, возникает тогда, когда на смену «соревнованию в скорости роста «приходит» борьба за существование». Возникновение и обострение этой борьбы является результатом того, что иссякают запасы «предбиологического» органического материала, которым «питались» коацерваты. В конечном итоге эта нехватка приводит к появлению различных путей, с помощью которых организмы получают пищу (что, в свою очередь, приводит к разделению организмов на гетеротрофные и автотрофные), однако еще до этого совершается важнейший переход к биологическому уровню развития. Первые организмы в собственном значении этого слова появляются тогда, когда уменьшается количество органического материала вне коацерватов. Опарин так описывает этот момент:
«Чем дальше шел процесс роста органической материи и чем меньшее ее количество оставалось в свободном состоянии в земной гидросфере, тем более точным становилось действие «естественного отбора». Борьба за существование все больше и больше начинает вытеснять соревнование в скорости роста. Начинают действовать строго биологические факторы» (с. 194-195).
Из схемы развития, предложенной Опариным, становится очевидным его убеждение в том, что гетеротрофные организмы (питающиеся органической пищей) предшествовали по времени автотрофным организмам (питающимся неорганической пищей). Многие ученые полагали ранее, что последовательность возникновения этих организмов была противоположной, исходя из того, что двуокись углерода (необходимая для процесса фотосинтеза у автотрофных зеленых растений) являлась основным строительным материалом, используемым живыми организмами. Опарин считал, что этот тезис является сомнительным. В качестве обстоятельства, свидетельствующего, по его мнению, против этого тезиса, Опарин ссылался на тот факт, что гетеротрофные организмы в массе своей используют в качестве пищи только органические соединения, в то время как автотрофные зеленые растения «в значительной степени сохранили в себе» способность использовать в качестве пищи преформированные органические субстанции (с. 130). Выражение «сохранили в себе» как раз и указывает на временную последовательность появления гетеротрофных и автотрофных организмов; Опарин считал, что все организмы сначала были гетеротрофными, а когда запасы органической пищи сократились, произошло разделение организмов по способу питания. (Это разделение, строго говоря, не то же самое, что деление на мир растений и животных, хотя и похоже на него, поскольку большая часть зеленых растений является автотрофами, а все высшие и низшие животные, а также большинство бактерий и все грибковые — гетеротрофы.)
В книге 1936 г. Опарин излагает свою теоретическую схему шире, нежели ранее, используя философскую терминологию. К тому времени он уже прочел «Диалектику природы» Энгельса и цитировал эту работу в примечаниях, равно как и ранее опубликованный «Анти-Дюринг». Он отмечает, что в этих работах Энгельс «подвергает сокрушительной критике как теорию самозарождения, так и теорию вечности жизни» (с. 22). (В брошюре 1924 г. Опарин еще вкладывал положительный смысл в понятие «самозарождение», хотя и считал попытки обоснования этой теории достаточно грубыми.) Теперь Опарин говорит о том, что любые попытки объяснить «внезапное происхождение организмов» могут основываться либо на представлении о действии некой «божественной воли», либо «особой жизненной силы». Подобные взгляды, считает Опарин, «совершенно несовместимы с материалистическим мировоззрением» (с. 23). Напротив того, «жизнь не зародилась самопроизвольно и не существует вечно. Она возникла в результате длительной эволюции вещества, и это возникновение есть лишь определенный этап исторического развития материи» (с. 24).
Еще более показательным моментом существенных изменений, происшедших во взглядах Опарина, является его отказ от механистических представлений. Грубый материализм, убеждение в том, что все явления могут быть объяснены с помощью составляющих их элементов, становится теперь для Опарина предметом критики:
«Все эти попытки объяснить жизнь тем или иным расположением атомов в молекуле органического вещества можно заранее считать обреченными на неудачу. Законы органической химии сами по себе еще недостаточны для разъяснения тех новых явлений, явлений более высокого порядка, с которыми мы встречаемся при изучении живой клетки» (с. 89).
И хотя теперь Опарин часто цитирует Энгельса, считая его высказывания по проблеме происхождения жизни весьма прозорливыми, он предпринимает также попытки собственной интерпретации и модификации формулировок Энгельса по этому вопросу. Когда Энгельс говорит о том, что «жизнь — это форма существования белковых тел», то эта формула, утверждает Опарин, вовсе не предполагает вывода о том, что «белок — это живая материя». Эту формулу, как считает Опарин, следует понимать в том смысле, что «именно в белковом веществе с его исключительными химическими особенностями заложены те колоссальные возможности для дальнейшей эволюции органического вещества, которые при определенных условиях обязательно должны были привести к возникновению живых существ» (с. 87). Подобная интерпретация вполне соответствует убеждению Опарина в том, что жизнь не является неотъемлемым свойством какой-то структуры, а представляет собой «поток материи», процесс. По его представлениям, структура имеет большое отношение к жизни, но, однако, смешивать наличие структуры с наличием самой жизни означает почти то же самое, что отождествлять замерзшую воду с текущей. Акцент на том, что жизнь — это процесс, на том, что это «координированные химические реакции», а не определенная структура, приведет со временем к спорам Опарина с представителями двух различных направлений: ультраортодоксальными диалектическими материалистами, желающими сохранить верность буквальному смыслу слова «белок», отражающему сущность жизни по Энгельсу, и молекулярными биологами, видящими сущность жизни в структуре нуклеиновых кислот и пользующимися для ее описания такими словами, как «модель» и «код», то есть словами, несущими статичный смысл.
Именно книга Опарина 1936 г. издания, переведенная на английский язык в 1938 г., принесла Опарину международную известность. Первое впечатление от знакомства с книгой заключается в выводе о том, что в ней он прежде всего хотел узаконить материалистический подход к изучению проблемы происхождения жизни. Как следствие этого, некоторые зарубежные исследователи высказали свое согласие с этим подходом в целом, отмечая свои расхождения с позицией Опарина в деталях. Так, например, в работе, опубликованной в 1929 г., Холдейн высказал гипотезу (противоположную Опарину) о том, что первоначально земная атмосфера была богата двуокисью углерода, и описывал первые «живые или полуживые существа» как, «возможно, огромные молекулы», не упоминая коацерваты, студень или гели. В этих моментах точки зрения Опарина и Холдейна расходились. Тем не менее гипотеза происхождения жизни получила название «гипотезы Холдейна — Опарина» (или Опарина — Холдейна), и до сих пор ее весьма часто называют именно так.
Книга Опарина 1936 г. на протяжении 20 лет не претерпела существенных изменений. Ее издание 1941 г. содержало лишь небольшие изменения; и только в 1957 г. вышло ее третье, переработанное издание, опубликованное почти одновременно на русском и английском языках. Между тем биохимия развивалась исключительно быстрыми темпами. Возникновение молекулярной биологии привело к союзу биохимии и генетики, кульминацией которого явилась публикация в 1953 г. результатов работы Уотсона — Крика по созданию модели молекулы ДНК. То обстоятельство, что концепции молекулярной биологии имеют отношение к теориям происхождения жизни, представлялось большинству исследователей в мире достаточно очевидным, хотя вопрос о том, какое именно отношение, оставался дискуссионным.
Проблема вирусов была особенно близка к проблеме природы жизни, если рассматривать ее на молекулярном уровне; вирусы состоят из нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), заключенных в белковую оболочку. Отношение молекулярной биологии к работе Опарина заключалось отчасти в том, что ставило в центр обсуждения проблему вирусов. В этой связи наиболее животрепещущий вопрос мог быть сформулирован очень просто: являются ли вирусы живыми существами? Если, имея в виду тот факт, что наиболее простые из них представляют собой, по существу, молекулы нуклеиновых кислот, ответ на этот вопрос является положительным, то в таком случае нельзя ли говорить о том, что Опарин не прав, утверждая, что жизнь появляется на мультимолекулярном уровне? Не является ли в таком случае молекула нуклеиновой кислоты первой живой формой?
Обсуждение ответов на эти вопросы в Советском Союзе проходило в весьма трудных и сложных условиях, поскольку появление в мировой науке нового союза — союза биохимии и генетики — почти совпало по времени с завоеванием Лысенко и его последователями контроля над советской генетикой. Как бы ни были Опарин и Лысенко далеки друг от друга в интеллектуальном отношении, в политическом отношении они были близки. И тот и другой пользовались расположением со стороны сталинского режима, оба сделали карьеру в условиях существования этого режима, оба стали основоположниками школ в биологии, официально именуемых как «марксистско-ленинские» или «мичуринские». Оба они извлекали для себя выгоду из поддержки со стороны правительства, и оба платили за это сотрудничеством с этим правительством и, в свою очередь, оказанием ему политической поддержки. Опарин был активным проводником советской политики в международных организациях, в которых он состоял. Являясь представителем высших административных кругов советской биологической науки в те времена, Опарин сыграл важную роль в сохранении школы Лысенко в неприкосновенности. С 1949 по 1956 г. он занимал пост академика-секретаря Отделения биологических наук Академии наук СССР — пост, который позволял оказывать огромное влияние на процессы назначения на руководящие должности и иного рода продвижения в то время, когда именно от этого зависело сохранение Лысенко у власти в биологии. Советский биолог Ж. Медведев в своей «Истории лысенкоизма» пишет о том, что в 1955 г. среди советских ученых собирались подписи под петицией, направленной против административных злоупотреблений, допущенных как Лысенко, так и Опариным[28]. В течение многих лет Опарин неоднократно выступал в поддержку Лысенко, в том числе и на страницах своих работ[29]. Тем не менее, как мы увидим в дальнейшем, Опарин боролся с попытками, предпринимаемыми некоторыми симпатизирующими Лысенко учеными, вторгнуться в его область исследования. Как отмечает в своей книге Медведев, в финале борьбы против Лысенко Опарин занял нейтральную позицию[30].
Один из наиболее скверных моментов в интеллектуальной карьере Опарина связан с его поддержкой в 1951 г. новой теории клетки, предложенной Ольгой Лепешинской. Лепешинская была посредственным биологом, но при этом была весьма внушительной фигурой в политическом отношении; это объяснялось тем, что она являлась членом Коммунистической партии с момента ее создания, а также ее сотрудничеством с Лениным и многими другими советскими политическими лидерами. В 1950 г., то есть в том году, когда в Советском Союзе существовал политический гнет, Лепешинская заявила, что ею получены клетки из живой неклеточной материи. При этом она даже утверждала, что ей удалось получить эти клетки из питательных сред всего за 24 часа[31]. Ее работа заслужила высокую оценку со стороны самого Лысенко[32]. Как, должно быть, очевидно из предыдущего изложения взглядов Опарина, он скептически относился к крайностям всех гипотез, предполагающих внезапное появление неких окончательно оформленных сущностей из менее организованной среды. Подобная ошибка, считал он, допускалась в прошлом всеми сторонниками концепции самозарождения. Однако в 1951 г. Опарин отступил от этих своих взглядов под влиянием политического давления, существовавшего в то время в сталинской России, и с похвалой отозвался о «великой заслуге» профессора Лепешинской, «продемонстрировавшей» возникновение клеток из живой неклеточной материи, и сделал это, несмотря на то, что везде за пределами советского блока свидетельства Лепешинской были отвергнуты. Он даже согласился с тем, что подобные процессы происходят «и в настоящее время», хотя в прошлом неоднократно выступал против подобного взгляда[33]. Как мы увидим далее, только после 1953 г. Опарин стал выступать в печати против подобных взглядов. К 1957 г. он вновь возвращается на позиции, категорически отрицающие самозарождение и внезапное появление клеточных форм в том виде, как это было описано Лепешинской. В период с 1953 по 1958 г. в ответ на возражения Опарина сторонники Лепешинской и она сама в свою очередь обрушиваются с критикой на Опарина.
Опарина критиковали также и идеологи, чьи взгляды были близки взглядам Лысенко. Одним из объектов их критики явилось мнение Опарина относительно того, что, однажды появившись, жизнь уже никогда не возникнет на Земле. Некоторые особенно воинствующие идеологи считали, что Опарин приписывает жизни столь уникальные свойства, что это противоречит материалистическим доктринам. Высказывая эти соображения, эти идеологи напоминали материалистов XIX в., считавших, что концепция самозарождения жизни является логически необходимой для материализма. И хотя эти идеологи и называли себя диалектическими материалистами, они при этом игнорировали критику, высказанную в свое время Энгельсом в адрес подобных концепций самозарождения жизни; для них тот факт, что Опарин также выступал против концепций самозарождения, являлся свидетельством его философских колебаний[34].
В начале 1953 г. Опарин выступил с ответом на критику своих взглядов[35]. Он задает вопрос: «Возникает ли жизнь сегодня, в настоящее время?» Да, конечно, отвечает он, поскольку материя постоянно развивается, возникают новые формы ее движения. Однако жизнь не возникает на Земле — эта стадия развития материи уже пройдена здесь, — она возникает на других планетах, разбросанных во Вселенной. Он признал справедливой критику, относящуюся к тому, что его книги носят название «Происхождение жизни», как будто то, что имело место на Земле, исчерпывает всю историю возникновения жизни. (Следует заметить, что последующие издания его книги уже носили название «Происхождение жизни на Земле», что являлось ответом на эту критику.) Однако он по-прежнему отстаивал свое убеждение в том, что необходимым условием возникновения жизни является то, что до этого момента она не существовала. /86/ В 1956 г. Опарин публикует еще одну небольшую книгу, на этот раз в соавторстве с известным советским астрофизиком и астрономом В. Фесенковым, чьи космологические взгляды упоминаются в главе 12 настоящей книги[36]. Опарин подвергался в Советском Союзе критике на основаниях, сходных с теми, на которых подвергалась критике гипотеза Джеймса Джинса, которую использовал в своих ранних работах Опарин. В книге 1956 г. Опарин и Фесенков признают, что гипотеза Джинса «неизбежно приводит к идеологически порочному заключению об исключительности Солнечной системы во Вселенной. Кроме того, гипотеза Джинса также оказалась не в состоянии объяснить основные особенности Солнечной системы» (с. 113). Оба автора книги соглашались с тем, что идея О.Ю. Шмидта о том, что Солнце захватило часть пылевого облака во Вселенной, обладает несомненными преимуществами в плане объяснения возникновения Солнечной системы.
Критики Опарина пытались обнаружить и другие сходства между его взглядами и взглядами Джинса. По их мнению, утверждение Опариным необходимости особых условий для возникновения жизни и то обстоятельство, что он постоянно настаивал на невозможности повторения процесса возникновения жизни на Земле, вело к приписыванию свойства исключительности факту возникновения жизни на Земле, что в конечном итоге приводило к выводу об исключительности появления самого человека. В своей совместной работе с Фесенковым Опарин пытается ответить на эту критику. Происхождение жизни, пишут авторы, является совершенно нормальным событием в ходе эволюции материи: «Материя в своем постоянном развитии идет различными путями, и те формы ее движения, которые при этом возникают, могут быть весьма разнообразными. Жизнь, как одна из таких форм, возникает всякий раз, когда для этого создаются надлежащие условия в том или ином пункте Вселенной» (с. 217). Однако из этого вовсе не следует, пишут они далее, что возникновение жизни можно наблюдать везде. Те материалисты, которые постоянно пытаются вокруг себя обнаружить свидетельства возникновения жизни с тем, чтобы продемонстрировать, что она не носит исключительного характера, попросту игнорируют подлинно качественное различие, характерноё для развития материи; если их взгляды развить до логического конца, то они приведут к одной из форм гилозоизма. Жизнь, считают авторы книги, следует рассматривать не как некое неотъемлемое свойство материи, а как особую, исключительную форму ее движения.
Насколько же редким явлением предстает жизнь во Вселенной? В итоге довольно длинного и детального обсуждения физических условий, необходимых для возникновения жизни, а также описания известных в то время характеристик самой Вселенной Опарин и Фесенков приходят к выводу о том, что «только в одном случае из миллиона пересмотренных наугад звезд можно рассчитывать обнаружить планету, где жизнь находится на той или иной ступени своего развития» (с. 222). Однако это вовсе не означает приписывания жизни уникальных свойств; как утверждают в своей книге два выдающихся ученых, «в нашей Галактике... могут быть сотни тысяч планет, на которых возможно возникновение и развитие жизни. Во всей бесконечной Вселенной должно существовать также и бесконечное множество обитаемых планет» (с. 223).
В 1957 г. Опарин публикует «третье, полностью переработанное» издание своей основной работы, носящей на этот раз более строгое название — «Возникновение жизни на Земле». В этом издании он попытался ответить на критику в адрес его системы, включив в него анализ последних достижений науки. Таким образом, его первая работа, опубликованная в 1924 г., при ее третьем издании выросла в объеме почти до 500 страниц.
Как и в предыдущих изданиях, главный вопрос при публикации книги 1957 г. заключался для Опарина в обосновании его убеждения в ошибочности концепций самозарождения жизни. По его мнению, книга О. Лепешинской «Происхождение клеток из живого вещества» представляла собой «попытку реабилитировать опыты Пуше и тем возродить теорию самозарождения»[37]. Пуше надеялся, что результатам самозарождения явится появление микроорганизмов, а Лепешинская ожидала появления не сформировавшихся организмов, а отдельных клеток. Однако и в том, и в другом случае поиски внезапного появления порядка из хаоса были «a priori обречены на неудачу»[38].
Опарин выступил со сходной критикой и в адрес тех ученых, которые предлагали рассматривать в качестве первоначальной частицы жизни ген, молекулу или частицу ДНК. Каждая из этих теорий является материалистической, поскольку ищет материальные основы жизни, и в этом смысле, говорит Опарин, заслуживает похвалы, однако все они являются теориями самозарождения и в этом смысле являются механистическими: они берут за точку отсчета эволюции жизни ту частицу материи, которая на самом деле является результатом длительной эволюции материи. Поскольку при этом не дается объяснения происхождения той или иной из названных частиц материи, то и вся концепция (желали того ее авторы или не желали) приобретает мистическую ауру.
К тому времени Дж. Д. Уотсон и Ф. Крик уже предложили свою известную модель двойной спирали молекулы ДНК. Было уже известно также, что ДНК является наследственным материалом почти для всех организмов. Эта модель позволяла говорить об астрономическом числе возможных структурных комбинаций этого наследственного материала. Другими словами, макромолекулу ДНК можно было рассматривать в качестве своеобразного «жизненного кода», различающегося не только у представителей разных видов, но и у представителей одного и того же вида. Исследователи стали говорить о генах как об «участках молекулы ДНК» и выдвигать предположения о том, что именно молекула ДНК и является первой частицей жизни.
Опарин рассматривал открытие Уотсона-Крика как событие большой важности и дал его детальное, с использованием рисунков и диаграмм, описание в своей работе. Однако при этом он совершенно определенно высказывается против любых разговоров на тему о «первой живой молекуле ДНК». Его возражения, по существу, были сходными с теми аргументами, которые еще задолго до этого он выдвигал против теории самозарождения организмов. Говоря о надеждах на появление микроорганизмов из экстрактов, Опарин тогда писал:
«Если бы я предложил читателю обсудить, насколько велика вероятность того, чтобы среди неорганизованной материи путем каких-нибудь естественных, например вулканических, процессов случайно образовалась большая фабрика — с топками, трубами, котлами, машинами, вентиляторами и т. п., то такое предложение в лучшем случае произвело бы впечатление неуместной шутки»[39].
Теперь, правда, признает Опарин, уже никто не надеется на самозарождение организмов или даже отдельных клеток; если придерживаться вышеприведенной метафоры, уже никто не надеется на внезапное возникновение «целой фабрики». Однако он выражает убеждение в том, что те, кто считает началом истории жизни на Земле случайный синтез ДНК, допускают, по существу, ту же самую ошибку — они не делают вид, что думают, будто такая «фабрика» может появиться внезапно, однако они действуют таким образом, как будто план работы этой «фабрики» может появиться случайно. Этот план (заключенный в молекуле ДНК) содержит всю информацию, необходимую для построения этой «фабрики»; думать, что такое количество закодированной информации может возникнуть случайно, подчеркивает Опарин, также дико, как исходить из того, что эта «фабрика» сама способна материализоваться внезапно. Подчеркивая значение молекулы как точки отсчета в истории жизни, многие ученые фактически игнорировали вопрос, который для Опарина являлся самым важным: «Каким образом мог возникнуть строго определенный порядок последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК?»[40].
Опарин видел сходство между тем, что сегодня ученые рассматривают в качестве первой частицы жизни молекулу ДНК, и тем, что ранее в качестве таковой рассматривался ген. Более того, взгляд на ген как на «участок молекулы ДНК» позволял объединить эти два подхода. Однако в обоих этих случаях, считает Опарин, серьезные исследования получали неверную интерпретацию. «Жизнь» для него по-прежнему выступала как процесс, поток, обмен веществ в материи, а потому не могла быть идентифицирована ни с одной застывшей формой. Опарин считал, что подчеркивание значения ДНК являлось прямым продолжением ошибочных взглядов, высказанных в прошлом такими учеными, как Г. Меллер (концепция «случайного появления гена из мириада молекул»), Т. Морган (концепция «генной молекулы»), Ч. Липман (идея о первичном возникновении «живой молекулы»), Р. Бойтнер (идея о «саморегенерирующихся энзимах») и А. Довийе (идея об органической молекуле, обладающей «живой конфигурацией»)[41].
Многие из числа молекулярных биологов были готовы принять эволюционный подход Опарина к ДНК, отдавая должное его преимуществам, однако при этом они считали, что его приверженность к определению жизни как мультимолекулярному явлению приводила к неестественному (если не абсурдному) отношению к проблеме вирусов. К этой проблеме Опарин неоднократно обращается в книге 1960 г.[42], обсуждалась она и в ходе международного симпозиума по проблемам возникновения жизни на Земле, который проходил в августе 1957 г. в Москве[43].
С открытием вирусов исследователи столкнулись с такой формой «жизни», которая (по крайней мере в отдельных случаях) могла принимать кристаллическую форму и сохранять ее неопределенно долгое время, которая обладала меньшими, нежели определенные молекулы, размерами, которая могла расти и воспроизводиться и обладала способностью изменяться или мутировать в процессе своего воспроизведения[44]. Почему бы в таком случае не рассматривать вирусы как «живые» существа? Некоторые из исследователей так и делали. Так, например, на симпозиуме 1957 г. В. Стенли, говоря о вирусах, высказал соображение, что «все они, согласно определению, живые»[45]. Другие, включая Опарина, считали, что существуют серьезные основания против рассмотрения вирусов в качестве подлинно живых существ. Опарин отличался среди них тем, что особенно твердо отстаивал убеждение в том, что ни вирусы, ни любые другие «живые» формы, существующие на молекулярном уровне, не могут рассматриваться как предшествующие всем другим живым организмам. Для него молекулярные формы выступали как продукты жизни, а не как ее производители. Он считал, что рассматривать эти формы в качестве точки отсчета в истории жизни означало бы начинать эту историю с необъяснимого, становясь тем самым жертвой метафизических, полных таинственности интерпретаций природы. К его аргументации в этом вопросе мы еще обратимся чуть ниже, после того как сделаем еще несколько замечаний о природе вирусов.
Ясное представление о действии вирусов и центральной роли молекул нуклеиновых кислот в этом процессе можно получить, обратившись к действиям бактериофагов, то есть тех вирусов, которые «охотятся» на бактерий. Подходящим в этом смысле примером бактериофага представляется вирус, который борется с бациллами кишечной палочки (colon bacilli). Сначала этот вирус прикрепляется к бацилле и проникает в нее, а затем, находясь уже внутри клеточных стенок бактерии, начинает размножаться. В результате бактерия «взрывается», освобождая вновь образованные вирусы, которые продолжают дальнейшую борьбу.
Здесь важно подчеркнуть, что эти процессы не похожи на известные в биологии процессы паразитирования — в рассматриваемом примере действуют более элементарные механизмы. Вирус не обладает способностью к осуществлению процессов метаболизма, поскольку не обладает ни одним из физиологических механизмов, необходимых для осуществления этих процессов. Вместо этого он использует механизмы, которыми обладает «хозяин», вводя в их действие информацию, необходимую для достижения своих целей. Таким образом, можно говорить о том, что нуклеиновая кислота — это не более чем программа использования существующих процессов для достижения другой цели.
Из довольно обширного обсуждения Опариным проблемы вирусов наибольший интерес для нас представляет его мнение по вопросу о том, можно ли их считать живыми. В своей книге 1957 г. он нигде прямо не говорит о том, что вирусы не являются живыми существами, однако все его рассуждения направлены именно в сторону такого заключения. Действительно, замечает Опарин, вирусы обладают способностью к самовоспроизведению. Но наличие этой способности не тождественно самой жизни, поскольку даже неорганические кристаллы способны воспроизводить себя и расти. Более того, продолжает он, вирусы оказываются не способными к самовоспроизведению до тех пор, пока не оказываются «внутри» уже существующего жизненного процесса. Опарин пишет:
«Однако ни при каких других условиях, ни на каких искусственных средах никогда не удавалось осуществить это так называемое «размножение» вирусных частиц. Вне организма хозяина вирус остается в указанном отношении таким же инертным веществом, как и любой другой нуклеопротеид. Он не только не обнаруживает каких-либо признаков обмена веществ, но пока еще никому не удалось показать, что этот вирус обладает даже простым ферментативным действием. Ясно, что биосинтез вирусного нуклеопротеида, как и любого другого белка, осуществляется комплексом энергетических, каталитических и структурных систем живой клетки растения-хозяина, а вирус лишь вносит в течение происходящих здесь процессов какие-то свои изменения, обусловливающие возникновение специфических особенностей конечных продуктов синтеза»[46].
И хотя в этой работе Опарин сомневается в том, что вирусы являются живыми существами, в последующих своих публикациях он, как представляется, в меньшей степени настаивает на этой точке зрения. Существовало несколько путей, ведущих к компромиссу между противоположными взглядами в этом вопросе. В. Стенли, которому удалось кристаллизовать растительный вирус табачной мозаики, на симпозиуме в 1957 г. даже говорил о том, что «некоторые могут предпочитать рассматривать молекулу вируса в кристаллическом виде в пробирке только как потенциально живую структуру и ограничивать применение термина «живой» только таким вирусом, который действительно находится в процессе воспроизведения. Я бы не стал делать такого противопоставления»[47]. Однако затем Стенли продолжает утверждать, что вирусы являются живыми существами, не оговаривая точно тот момент во времени, когда они становятся таковыми. То, какую позицию занял бы Опарин в ответ на предложение считать вирусы попеременно «живыми» и «мертвыми», осталось неясным.
Интересы Опарина к проблеме вирусов концентрировались вокруг вопроса о том, находятся ли вирусы на магистральном пути развития, ведущего к появлению жизни, или они лежат на ответвлении от этого пути? Он был убежден в том, что ответом на этот вопрос является следующее: они лежат на ответвлении от этого пути. Независимо от того, были ли вирусы когда-либо живыми, они никогда не являлись первыми формами жизни, с которых начался отсчет всех остальных ее форм. Как он отмечал в ходе своего выступления на симпозиуме в 1957 г.:
«Сейчас я хотел бы сформулировать в двух словах свою точку зрения, которую я подробно изложил и обосновал в своей книге. Мне представляется, что первично абиогенным путем могли возникнуть не те в функциональном отношении в высшей степени совершенно построенные нуклеиновые кислоты или белки, которые мы сейчас выделяем из организмов, а только довольно беспорядочно построенные полинуклеотиды и полипептиды, из которых образовались многомолекулярные исходные системы и только на основе эволюции этих систем возникли функционально совершенные формы строения молекул, а не наоборот»[48].
В книге, опубликованной в 1960 г., Опарин возвращается к проблеме вирусов. Говоря о вирусе табачной мозаики, он обращает внимание на то, что происходит, когда этот вирус «атакует» клетки табачного листа: «...здесь нет «размножения» вируса в биологическом понимании этого слова, нет его «самовоспроизведения» на какой-то питательной среде, а происходит только строго постоянное новообразование специфического нуклеопротеида при помощи биологических систем табачного листа. Значит, это новообразование возможно лишь при наличии организации, которая свойственна только жизни, и, следовательно, не вирус послужил началом жизни, а, наоборот, он сам мог возникнуть подобно другим современным специфическим белкам и нуклеиновым кислотам только как продукт биологической формы организации»[49].
Опарин приводит хорошо известный факт о том, что внутренняя организация паразитов становится проще, по мере того как они становятся все более и более зависимы от своих «хозяев» и адаптируются к этой экологической нише. Все вирусы являются паразитами. Исходя из этого, Опарин выдвинул предположение, что, хотя закодированные нуклеиновые кислоты вирусов и являются продуктом эволюции более высоко организованных организмов, сами по себе вирусы являются конечным результатом паразитического «вырождения». Они утратили всё, за исключением собственного генетического материала; они являются, если так можно сказать, «исчезнувшими» частицами генетического кода, которые способны самовоспроизводиться, используя метаболические процессы более высокоорганизованных организмов. Согласно Опарину, они никогда не могли бы появиться на свет, если бы до них не имела место эволюция организмов, обладающих способностью к осуществлению метаболических процессов.
В книге «Жизнь, ее природа, происхождение и развитие», вышедшей в 1960 г. и переведенной на английский язык в 1961 г., с наибольшей ясностью представлены философские взгляды Опарина. В этой книге, как ни в одной другой из предыдущих его основных работ, можно наблюдать, как представления диалектического материализма, которые он выработал на протяжении многих лет своей деятельности, буквально пронизывают его собственно научные взгляды — оказывают сильнейшее влияние на саму структуру предпринимаемого им анализа проблем жизни. Как мне представляется, внимательный читатель этой книги не сможет всерьез говорить о том, что диалектический материализм является для Опарина чем-то, чему он в результате политического давления отдает должное только на словах и о чем говорит только в предисловии и заключении, Напротив, философия диалектического материализма, разработке которой он сам помог своими работами, в свою очередь, оказала системный эффект на его научную аргументацию.
В этой книге Опарин вновь и вновь обращается к вопросу о том, что диалектический материализм выступает как некая via media между позициями идеалистов и виталистов, с одной стороны, а с другой — механистических материалистов, восторженных кибернетиков и сторонников теории самозарождёния жизни. Диалектический материализм на самом деле выступает как одна из форм материализма и в качестве таковой противостоит идеалистическому взгляду, согласно которому сущность жизни заключается «в каком-то вечном, сверхматериальном, непостигаемом опытным путем начале» (с. 8). Точно так же диалектический материализм противостоит взгляду, согласно которому все явления жизни могут быть объяснены как физико-химические процессы. Этой позицией, согласно Опарину, «фактически отрицается какое-либо качественное различие между организмами и телами неорганической природы. Получается так, что или и эти последние наделены жизнью, или ее вообще реально не существует» (с. 9). Диалектический материализм, продолжает Опарин, позволяет исходить из принципа материальности жизни, не рассматривая при этом «все то, что не укладывается в рамки физики и химии, как что-то виталистическое, сверхматериальное» (с. 9). Согласно теории диалектического материализма, жизнь — это «особая форма движения материи», обладающая вполне определенными принципами и закономерностями своего развития.
Опарин убежден в том, что живые организмы должны обладать таким свойством, как «целесообразность» их строения. В этой книге Опарина названное свойство фигурирует в большей степени, нежели в предыдущих его работах. Он убежден, что свойство «целесообразности» строения «пронизывает весь живой мир сверху донизу, до самых элементарных форм жизни» (с. 16). Он отдает себе отчет в том, что настаивание на этом взгляде таит в себе известную опасность, поскольку, например, «учение Аристотеля об «энтелехии» приобрело ярко выраженный идеалистический характер» (с. 14). Тем не менее Опарин выражает убеждение в том, что «всеобщая приспособленность или, иносказательно говоря, «целесообразность» организации живых существ является объективным, самоочевидным фактом, мимо которого не может пройти ни один вдумчивый исследователь природы. Противоречивость приведенных нами, а также и многочисленных других определений жизни зависит от той или иной трактовки самого слова «целесообразность», от того или иного понимания ее происхождения и сущности» (с. 15). Опарин считает, что диалектический материализм способен избежать недостатков, присущих идеализму, путем исследования этой целесообразности с точки зрения ее развития и происхождения. Поскольку в таком случае целесообразность будет пониматься как результат истории взаимодействия между организмом и окружающей его средой, то и не надо будет опасаться появления идеалистических ее трактовок. Таким образом, делает заключение Опарин, основным методологическим руководством для избежания возможных опасностей в вопросе трактовки проблемы «целесообразности» является мысль, «высказанная еще Гераклитом Эфесским, а затем вошедшая в сочинения Аристотеля: «Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение и развитие» (с. 36). В следовании этому принципу, выдвинутому еще философией древности, Опарин видит то общее, что объединяет теорию диалектического материализма и дарвинизм.
Истоки целесообразности, утверждает Опарин, кроются в фундаментальном различии между человеком и машиной. Машины (так же как и живые организмы) обладают целесообразностью строения, но она привнесена в них человеком. И именно поэтому они всегда будут отличаться от «подлинно живых» существ. Для того чтобы лучше понять Опарина, когда он настаивает на том, что жизнь может быть понята только тогда, когда понято ее происхождение (что само по себе интересно, но дискутабельно), представляется целесообразным обратиться к приводимой ниже цитате, содержащей элементы научной фантастики. В этой цитате можно будет обнаружить не только акцент, который Опарин делает на необходимости исторического подхода к пониманию проблемы происхождения жизни, но также и концепцию диалектических уровней развития; для Опарина существуют «физико-химические», «биологические» и «социальные» закономерности. И только на уровне человека можно наблюдать их все:
«Представим себе, что людям удалось создать такие автоматические машины-роботы, которые не только осуществляют ряд работ по обслуживанию человека, но могут без дополнительного управления сами строить необходимые им для работы энергетические установки, получать металл, создавать из него детали и из этих деталей монтировать новые такие же роботы. Но вот на Земле произошла какая-то ужасная катастрофа, погибло не только все людское население, но оказались уничтоженными и все живые существа нашей планеты. Однако построенные из металла роботы сохранились. Они продолжали строить сами себя, поэтому, хотя старые механизмы постепенно изнашивались, появлялись новые, и «племя» роботов сохранялось и даже, может быть, в определенных размерах увеличивалось в своем числе.
Представим себе далее, что все это уже произошло на какой-либо из планет нашей Солнечной системы, например на Марсе, и мы, прилетев на эту планету, на ее безводных и безжизненных просторах непосредственно встречаемся с ее роботами. Должны ли мы рассматривать их как живое население этой планеты? Конечно нет. Роботы будут представлять собою не жизнь, а иную, может быть, очень сложную и совершенную, но все же иную, чем жизнь, форму организации и движения материи... Невозможно постигнуть и природу «марсианского робота» без достаточного знакомства с породившей его социальной формой движения материи. Даже в том случае, если мы будем в состоянии разобрать этот робот на отдельные детали и вновь правильно смонтировать его обратно. Даже и тогда останутся скрытыми от нашего понимания те черты организации робота, которые целесообразно направлены на решение задач, предусматривавшихся когда-то их конструктором, но совершенно неизвестных и непонятных нам сейчас» (с. 33 - 34).
В этом пассаже взгляды Опарина на проблему происхождения жизни предстают особенно ярко, Из его содержания становится очевидным, что он не принял бы чисто функционального подхода к определению понятия «жизнь». Менее очевидно, однако, то, как бы он встретил аргументы «функционалистов». Как, например, человек, встретивший таких роботов на Марсе, узнает, что они на самом деле роботы? Как, пользуясь выражением Опарина, человек узнает, что их не следует рассматривать «как живое население этой планеты»? Можно быть уверенным в том, что подобный исследователь будет ожидать встречи с неземными формами жизни, живущими в условиях, отличных от земных, а потому предположительно имеющих иное обличие, нежели те, которые он видел на Земле. Очевидно, что на поставленные выше вопросы Опарин ответил бы в том смысле, что такой исследователь мог бы допустить ошибку, однако в дальнейшем он, вероятнее всего, пришел бы к пониманию социального происхождения этих роботов, даже если ему мало что было бы известно об исчезнувшем обществе, породившем их. В октябре 1963 г. Опарин принял участие в работе конференции на тему «Происхождение добиологических систем», которая состоялась в г. Вакулла Спрингс (штат Флорида) и была организована университетами штатов Флорида и Майами и НАСА[50]. В ходе этой конференции один из ее участников — П.Т. Мора из Национального института здоровья подверг методологической критике существовавшие в то время теории происхождения жизни, включая теорию Опарина[51]. В своем выступлении он продемонстрировал тот факт (который часто отмечался философами науки), что вопросы, связанные с определением своеобразия и происхождения жизни, не могут быть в принципе решены средствами экспериментальной науки. Таким образом, со строго логической точки зрения, а также с точки зрения методологии эмпирических наук вопрос, решению которого Опарин посвятил свою жизнь, не мог быть решен. Особенную критику со стороны Мора вызвало применение понятия «естественный отбор» (как это делал Опарин) к неживым системам[52].
Мора говорил о том, что в действительности пропасть между физикой и биологией «слишком велика, чтобы перебросить через нее мост»[53]. Исходя из этого, Мора крайне скептически относился к попыткам (которые, в частности, предпринимал Опарин) перебросить мост через эту пропасть; он был уверен в том, что это можно было бы сделать, только совершив методологическую ошибку.
«Я убежден в том, — писал Мора, — что объяснение появления первой саморепродуцирующейся единицы на уровне добиотических систем является недозволенным расширением значения слова «отбор», использованного Дарвином совсем в другом смысле. Нельзя забывать о том, что Дарвин пришел к концепции эволюции путем естественного отбора, эмпирическим путем, наблюдая целый спектр живущих видов»[54].
Выступление Мора вызвало полемику в ходе конференции во Флориде[55]. В нем была поставлена одна из самых старых и самых важных проблем в истории науки. Эту одну из наиболее фундаментальных для понимания вопросов развития проблему можно сформулировать, используя тезис Мора, следующим образом: мы не можем получить уровень или порядок организации, который бы превосходил существующий.
Попытаться ответить на выступление Мора взялся тогда не Опарин, а Бернал. (Опарин ответит на это выступление в своих последующих публикациях.) Подобно Опарину, Бернал отдавал предпочтение материалистическому подходу к проблеме происхождения жизни — подходу, рассматривающему ее в развитии. В отличие от Опарина Бернал сомневался в значении процессов коацервации, однако их позиции совпадали в том, что оба они считали плодотворными попытки перебросить мост через пропасть, разделяющую неживое и живое. Бернал отдал должное аргументации Мора и согласился с ним, в частности, в том, что происхождение жизни не может быть объяснено на основе логических рассуждений. Этот вопрос, сказал Бернал, «имеет собственную логику». Однако, отмечал Бернал, при этом Мора «приходит к заключению, прямо противоположному тому, которое делаю я. Существующих на сегодня законов физики, и в этом я согласен с ним, недостаточно для описания процессов происхождения жизни. Для него это открывает дверь телеологии и даже возможности создания жизни неким духовным существом. Обе эти гипотезы были вполне приемлемы до XV или даже, возможно, XIX в. На сегодняший день, однако, степень их вероятной справедливости намного ниже, нежели у любой из гипотез, которые Мора поставил под сомнение в своем выступлении... Я не могу согласиться с критикой ограниченных возможностей использования научного метода, с которой выступил д-р Мора, однако я думаю, что он сделал большое дело, заявив о них. Противопоставление картезианской физики телеологичной биологии, которое сделано им, на мой взгляд, является ложным. Тем не менее в нем содержится справедливая мысль о существовании различных законов для различных уровней организации — мысль, являющаяся, по существу, марксистской»[56].
Однако на самом деле разница во взглядах Мора и Опарина — Бернала заключалась не в подходе к вопросу о том, существуют ли специфические для каждого уровня организации закономерности. В действительности Мора даже в большей степени, нежели Опарин и Бернал, был убежден в существовании этих различных уровней, поскольку считал, что пропасть, лежащая между физикой и биологией, является непреодолимой, то есть считал различие между двумя этими уровнями организации абсолютным. С другой стороны, Опарин и Бернал рассматривали это различие как носящее относительный характер.
Вопрос о путях перехода от более низкого к более высокому уровню организации рассматривается Опариным в книге «Возникновение и начальное развитие жизни», вышедшей в 1966 г. и переведенной НАСА в 1968 г.[57].
В этой работе, используя последние достижения науки, Опарин рисует более детальную картину состояния «предбиологических» систем. В ней он высказывает соображения, оставляющие место и для существования некоацерватных предбиологических систем, то есть указывающие на возможность компромисса со взглядами Бернала. Такие образования, обладающие значительно более сложной и совершенной организацией, чем статичные коацерватные капли, но одновременно устроенные на много порядков проще, чем «самые примитивные живые существа», Опарин называет в этой книге «протобионтами». Эти «протобионты» претерпевают дальнейшую эволюцию путем процессов, которые Опарин по-прежнему называет «примитивным естественным отбором». В главе, посвященной вопросам эволюции «протобионтов» и возникновению первичных организмов, Опарин ссылается на критику Мора и пытается ответить на нее. При этом он утверждает, что та «собственная логика», о которой говорил в ходе конференции во Флориде Бернал, на самом деле является логикой диалектики. Опарин пишет:
«В настоящее время в научной литературе высказывается ряд соображений о правомочности использования термина «естественный отбор» только применительно к живым существам. Согласно широко распространенному среди биологов мнению, естественный отбор, являясь специфически биологической закономерностью, не может быть распространен на еще неживые объекты, в частности на наши протобионты.
Однако ошибочно думать, что сначала возникли живые тела, а потом уже и биологические закономерности или, наоборот, что первоначально сформировались биологические законы, а затем живые тела...
Диалектика обязывает нас рассматривать образование живых тел и формирование биологических закономерностей происходящими в неразрывном единстве. Поэтому вполне допустимо считать, что протобионты — эти исходные для возникновения жизни системы — эволюционировали, подвергаясь действию не только собственно физических и химических законов, но и зарождающихся биологических закономерностей, в том числе и предбиологического естественного отбора. Здесь можно провести аналогию со становлением человека, то есть с возникновением еще более высокой, чем жизнь, социальной формы движения материи, которая, как известно, складывалась под влиянием не столько биологических, сколько формирующихся общественных факторов, прежде всего трудовой деятельности наших предков, возникшей на очень ранней стадии гомогенеза и затем все более совершенствовавшейся. Поэтому как возникновение человека не есть результат действия всего лишь биологических законов, так и возникновение живых тел нельзя свести к действию толъко одних законов неорганической природы»[58].
В приведенной выше цитате со всей ясностью раскрываются представления Опарина о существовании иерархии законов природы — социальные, биологические и физико-химические законы действуют на различных уровнях организации. В рамках схемы, предложенной Опариным, наиболее трудным для понимания моментом является переход от одной области действия законов к другой. Если исходить из того, как это делает Опарин, что живая материя возникает в результате эволюции неживых ее форм, а человек — в результате эволюции животных, то возникает необходимость в методологическом объяснении подобного рода переходов. При построении своей схемы Опарин исходит из диалектической концепции возникновения качественных различий; он убежден в том, что «в зачаточном виде» действие законов более высокого уровня может быть обнаружено на предшествующем уровне. Концепции такого рода возникали и в прошлом: похожие взгляды, например, содержались в теории «эмерджентной эволюции» К. Ллойд Моргана, и они не лишены известной убедительности. Тем не менее следует отметить, что философия биологии, с которой выступил Опарин, страдает неточностью дефиниций, на что, собственно, и обращают внимание ее критики, подобные Мора; более того, подчеркивание Опариным несводимости биологии к физике и химии, а также все возрастающее внимание с его стороны к «целесообразности» было чревато действительной опасностью рецидивов витализма.
Советский философ И.Т. Фролов в своей книге 1968 г., посвященной проблемам генетики и диалектики, говорит об этом (см. с. 152 и далее), когда описывает несводимость биологии скорее как результат неполноты человеческих знаний, нежели как свойство живой материи как таковой. Согласно Опарину, живая материя отличается от неживой существенным образом, а потому в принципе не может быть сведена к физике и химии. Фролов же проявляет меньшую настойчивость в этом вопросе.
Следует отметить, что из философской системы материализма вовсе не вытекает абсолютное требование убежденности в том, что живая материя возникла на Земле в результате эволюции неживой материи. Материалисты, как правило, поддерживали подобный взгляд, поскольку он представлялся им лучшим объяснением происхождения жизни на Земле, не требующим вмешательства неких божественных сил. Однако, строго говоря, в рамках материалистического подхода существует и другая альтернатива: материалист может утверждать, что жизнь во Вселенной, как в живых, так и в неживых формах, существует вечно. Таким образом, вопрос о том, на самом ли деле живая материя является результатом эволюции ее неживых форм, остается открытым и при этом не нарушается ни одно из предположений философского материализма. Появление жизни на Земле может в таком случае быть объяснено тем, что она возникла в результате эволюции примитивных организмов, занесенных в далеком прошлом на поверхность земного шара извне. Подобные гипотезы, часто именуемые как концепции «панспермии», в различных формах выдвигались в прошлом такими известными учеными, как Либих, Гельмгольц и Кельвин.
В конце 60-х годов отдельные советские ученые вновь обратились к концепции панспермии. Так, в статье, опубликованной в 1966 г. журналом «Вопросы философии», геолог Б.И. Чувашов писал, что, по его мнению, жизнь существует во Вселенной вечно[59]. Говоря о причинах своей неудовлетворенности теорией Опарина и интереса к концепции панспермии, Чувашов ссылается на критику, высказываемую ученымй против применения Опариным понятия «естественный отбор» к анализу развития предбиологических систем. Тем не менее Чувашов высказывает мысль о том, что неживая материя может иногда развиваться до уровня живой материи, но подобное может случиться лишь однажды в каждой данной галактике или планетной системе. В этом случае жизнь распространяется на соседние планеты в результате того, что ее споры оказываются занесенными туда метеоритами.
Этих взглядов придерживалось лишь незначительное меньшинство ученых в Советском Союзе, не получили они широкой поддержки и в других странах. В качестве свидетельства в поддержку этой гипотезы некоторые ученые ссылались на наличие углеродистых хондритов в образцах лунного грунта, привезенных экспедицией на «Аполло II»[60]. Эти свидетельства получили, однако, и другую интерпретацию, что указывает на недостаточную обоснованность выводов из них[61].
Марксистские философы и биологи по-прежнему отдают предпочтение точке зрения, согласно которой жизнь возникла из неживой материи. Концепция развития, охватывающего всю материю и не имеющего никаких непреодолимых препятствий на своем пути, глубоко пронизывает теорию диалектического материализма.
Отличительной особенностью дискуссии по проблеме происхождения жизни, развернувшейся в советской философии в 70-80-е годы, является многообразие точек зрения на эту проблему. Несмотря на то что школа Опарина по-прежнему имеет большое влияние, все же она не занимает того монопольного положения, которым она располагала в предыдущие годы[62]. В самом деле, в этот период начинают раздаваться голоса, отдающие должное Опарину как пионеру в этой области, но в то же время констатирующие, что его взгляды на проблему происхождения жизни уже устарели. Теперь эта проблема изучается средствами, которые никогда не использовал Опарин, — молекулярной биологии, биофизики, теории информации, термодинамики.
Ведущим вопросом, вокруг которого вращаются дискуссии и возникают споры, по-прежнему остается проблема определения понятия жизни. Эта проблема является центральной для диалектического материализма, поскольку отличительной особенностью этой теории является принцип, согласно которому материя существует на различных уровнях организации, несводимых один к другому. Другими словами, необходимо определить понятие «жизнь» таким образом, чтобы имелась возможность отличить ее от просто физических или химических процессов.
Попытки определить специфику понятия «жизнь», предпринятые советскими авторами в 70-80-х годах, обнаруживают наличие двух основных подходов к решению этой проблемы — функционального и субстанционального. Сторонников первого из названных подходов волнует не столько вопрос о конкретных материальных компонентах, из которых состоят живые организмы, сколько вопросы, связанные с процессами сохранения и передачи информации[63]. С точки зрения этих авторов, организм является своеобразным «черным ящиком», внутренняя структура которого либо неизвестна, либо считается незаслуживающей внимательного анализа. Лидерами сторонников функционального подхода были А.А. Ляпунов и А.Н. Колмогоров, использовавшие средства высшей математики для решения вопроса о специфике жизни, что было чуждо Опарину. Обоих интересовали процессы, происходящие в гомеостатичных системах. Отличительную особенность живых организмов они видели в наличии «управляемых процессов» передачи информации.
Самое поразительное, что отличало сторонников одного подхода от другого, заключалось в отношении к вопросу о возможном разнообразии живых форм. Поскольку «функционалистов» интересовали главным образом управляемые процессы, они были убеждены в том, что жизнь может возникать тогда, когда возникают необходимые формы управления; при этом они не обращали внимания на необходимость существования определенных химических элементов и других составляющих, характеризующих живые организмы. В связи с этим они даже допускали возможность небелковых форм жизни.
Сторонники субстанционального подхода были убеждены в том, что ключевое значение для происхождения жизни имеет наличие определенной субстанции, определенных ее структур. К. числу сторонников этого подхода относился сам Опарин, а также еще один выдающийся советский биолог — В.А. Энгельгардт, который также считал, что подлинное изучение проблемы жизни должно основываться на данных химии, а не математики[64].
Хотя оба названных подхода были вполне совместимы с теорией диалектического материализма, все же субстанциональный подход обладал особой привлекательностью для марксизма. Кроме всего прочего марксистские философы часто говорят о жизни как о «специфической, качественно определенной форме движения материи», но, подчеркивая материальность жизни, отдают тем самым приоритет субстанции.
Разделение на «функционалистов» и «субстанционалистов» не исчерпывает всего многообразия точек зрения советских авторов на проблему происхождения жизни. Еще одним важным вопросом, по поводу которого среди советских ученых нет единства мнений, является вопрос о числе критериев, которые необходимо учитывать при описании сущностных свойств живых существ. Два различных подхода к ответу на этот вопрос часто называют «моноатрибутивным» и «полиатрибутивным». И хотя это разделение может показаться трудным для понимания и весьма далеким от вопросов политики, все же трудно понять природу современного советского марксизма, не поняв того, что подобные научные вопросы по-прежнему считаются заслуживающими внимания со стороны партийных идеологов. Анализу этих различий в подходах к пониманию проблемы жизни посвящаются публикации в таких политических журналах, как «Коммунист» — журнале, который читают в основном партийные активисты, а не ученые-естествоиспытатели[65].
Большие споры вызвал вопрос о том, в какой степени должно быть модернизировано определение жизни, данное Энгельсом («жизнь есть форма существования белковых тел») в XIX в. Общий вывод, вытекающий из анализа этой дискуссии, заключается в том, что, хотя конкретные взгляды Энгельса на роль белков и требуют модернизации, его более общая позиция в вопросе понимания сущности жизни по-прежнему сохраняет свое значение. Этот наиболее общий подход может быть сведен к следующим позициям: 1) жизнь материальна по своей природе, 2) жизнь обладает особым материальным носителем, 3) жизнь является качественно определенной формой движения материи[66]. Таким образом, в результате подобного анализа достигается сохранение значения специфически марксистского подхода к проблеме природы путем постепенной модификации классических текстов. Подобные интеллектуальные операции весьма напоминают те, которые осуществляются наиболее интеллигентными теологами, желающими модернизировать веру и одновременно сохранить верность основным ее доктринам.
Вышеназванное различие между «моноатрибутивным» и «полиатрибутивным» подходом имеет известное значение с точки зрения сохранения верности идеологическим принципам. Сторонники полиатрибутивного подхода (такие, как Н.Т. Костюк)[67] стремились к расширению толкования определения жизни, данного Энгельсом; они определяли жизнь с помощью таких характеристик, как способность к саморегуляции, самообновлению, обмену веществ, пластичность, относительная стабильность и способность к воспроизводству. По мнению одного из идеологов марксизма — М. Чепикова, подобного рода подход к определению сущности жизни имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, он обогащает формулировку Энгельса новыми представлениями, основанными на последних данных науки, а с другой — настолько расширяет определение жизни, что при этом сторонниками этого подхода утрачивается философская ясность их позиций. Другими словами, отмечает Чепиков, сторонники этого подхода пытаются «объять необъятное», то есть отразить в определении жизни все многообразие ее проявлений. Таким образом, продолжает он, моноатрибутивный подход сохраняет свое значение, поскольку он пытается выделить одну из характеристик жизни, имеющую «самое существенное» значение.
Однако сторонники моноатрибутивного подхода не могли прийти к согласию по вопросу о том, что же считать такой чертой, имеющей «самое существенное» значение. Для Опарина это было свойство метаболизма или «обмена веществ»; для А.А. Ляпунова — наличие «управляемых процессов или систем»; для В.Н. Веселовского — «динамичное самосохранение»; для А.П. Руденко — «эволюционный катализ». Другие авторы подчеркивали значение способности к воспроизводству и развитию[68].
Чепиков пытается дать новое определение жизни, которое бы, с одной стороны, не обладало недостатками, присущими полиатрибутивному подходу, а с другой — сохраняло бы верность как данным современной науки, так и позиции Энгельса в этом вопросе. Он дает следующее определение:
«Жизнь есть способ существования специфически гетерогенного материального субстрата, универсальность и уникальность которого обусловливают целесообразное самовоспроизведение всех форм органического мира в их единстве и многообразии» [69].
До самой своей смерти в 1980 г. Опарин продолжал рассуждать о жизни при помощи таких общих понятий, как «поток» или «качественно определенный процесс». С другой стороны, Энгельгардт (который, подобно Опарину, интересовался диалектическим материализмом) был убежден в том, что необходимо иметь более ясные представления о сущности жизни. В частности, Энгельгардт думал, что научные представления о том, как частицы ДНК «узнают» друг друга, позволяют говорить об этом «узнавании» как об одной из наиболее существенных характеристик жизни. До конца своей жизни, которая оборвалась в 1984 г., Энгельгардт придерживался полиатрибутивного подхода, выделяя в качестве существенных характеристик жизни такие, как воспроизводство, метаболизм, развитие, иерархичную структуру, интеграцию и узнавание[70].
В 70-х и 80-х годах наиболее горячие споры среди советских ученых развернулись по вопросу о том, имеет ли развитие материи предопределенное направление. Другими словами, является ли появление жизни неизбежным событием, или она возникла случайно? В начале 70-х годов новый импульс этим спорам придал лауреат Нобелевской премии западногерманский физик Манфред Эйген, опубликовавший в то время серию статей, в которых утверждал, что жизнь возникла «случайно»[71]. Наиболее ортодоксальные из числа диалектических материалистов посчитали эту точку зрения неприемлемой. Для них такие события, как происхождение жизни и сознания, являются не случайными, а результатом неизбежного развития материи. Для этих марксистов жизнь является просто одной из форм существования материи, чье возникновение не требует ни какого-то счастливого стечения обстоятельств или событий, ни волшебства.
В 1979 г. Опарин сам выступает со статьей, в которой критикует точку зрения Эйгена и утверждает, что жизнь возникла вполне «закономерно» (а не случайно) на определенном историческом этапе развития Земли, а также, возможно, и других планет. Это событие явилось интегральной частью всеобщего развития материи, утверждает он далее, а потому оно не может рассматриваться как случайное[72].
Позиция Опарина была поддержана В.В. Орловым — одним из «онтологистов», о которых говорилось выше в связи с дискуссией в советской философии. Орлов писал, что, согласно марксизму, возможность и необходимость возникновения биологической и социальной форм жизни заложены в основании самой материи[73]. Во взглядах Опарина и Орлова мы видим намек на телеологический способ мышления, что было свойственно некоторым версиям советского диалектического материализма и в прошлом и что сближало его с философией природы Тейяра де Шардена, устремленной к Омеге.
Некоторые советские биологи и философы рассматривали идеи Опарина и Орлова по этому вопросу как опасное возрождение идей о превосходстве философии над наукой. В то время Николай Дубинин — один из наиболее известных сторонников диалектического материализма в Советском Союзе — высказывал несогласие со взглядами Опарина и Орлова по этому вопросу. Он писал, что «жизнь — это не фатальное последствие химической эволюции. Жизнь на Земле могла и не возникнуть...». А перед этим он писал, что «уникальность перехода от одной формы движения материи (неорганической) к другой (органической) ясно указывает на роль случайного в данном явлении»[74]. А.П. Руденко еще более критически отзывался о том, что он назвал «телеологическими идеями о направленной эволюции». Гипотеза Опарина о закономерном возникновении жизни из коацерватов, пишет Руденко, является «в принципе невозможной»[75].
Таким образом, мы видим, что по вопросу о происхождении жизни среди советских биологов и представителей философии биологии существует известное расхождение во мнениях. В то же время, однако, те авторы, которые в своих работах касаются наиболее общих философских вопросов, продолжают придерживаться той или иной интерпретации теории диалектического материализма. Возможно, что некоторые из попыток обсуждать биологические проблемы с помощью марксистской терминологии являлись неискренними, отражающими желания их авторов приспособиться к господствующей политической атмосфере. Тем не менее антиредукционистский подход к проблемам биологии имеет глубокие корни в истории русской и советской мысли, и многие работы, посвященные проблеме происхождения жизни, питаются именно от этих корней. В этом вопросе существует близкое сходство взглядов между биологами, настроенными против редукционализма по внутринаучным соображениям, и марксистами, занимающими по отношению к редукционализму ту же позицию, но по идеологическим соображениям. В действительности же у людей, подобных Опарину и Дубинину, эти две мотивации невозможно разделить, поскольку в своих представлениях они объединяют взгляды биологов-антиредукционистов с убеждениями марксистов.
1. Цит. по: Fox S.W. ed. The Origins of Prebiological Systems and of Their Molecular Matrices. N. Y.; L., 1965. P. 98.
2. Bastion H.C. The Beginning of Life. N. Y., 1872.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 612.
4. Цит. по: Nicolle J. Louis Pasteur: A Master of Scientific Enquiry. London, 1961. P. 67. Анализ дискуссий по проблеме происхождения жизни содержится в: Farley J. The Spontaneous Generation Controversy from Descartes to Oparin Baltimore, 1977.
5. См. статью об Опарине Марка Б. Адамса в: «Dictionary of Scientific Biography», Supplementary Volume 2, New York.
6. См.: Опарин А.И. Происхождение жизни. М., 1924.
7. Этот перевод, сделанный Энн Синг, появился как Приложение 1 к книге Дж. Бернала «Происхождение жизни» (Bernal J.D. The Origin of Life. London, World, 1967). Несмотря на все мои поиски и помощь, оказанную мне в этом со стороны Службы межбиблиотечного обмена, мне не удалось разыскать оригинальный текст этой брошюры 1924 г. ни в одной библиотеке США. По этой причине я пользовался упомянутым выше переводом этой работы на английский язык; на эту книгу в дальнейшем и будут даваться ссылки непосредственно в тексте.
8. Oparin A. I. The Origin of Life. N. Y., 1938.
9. Oparin A. I. The Origin and Initial Development of Life (NASA TTF-488). Washington, 1968.
10. Keosian J. The Origin of Life. N. Y., 1968. P. 12.
11. Опарин А.И. К вопросу о возникновении жизни // Вопросы философии. 1953. № 1. С. 138.
12. Опарин А.И. Возникновение и начальное развитие жизни. М., 1966. С. 8.
13. Haldane J.B S. The Origin of Life // Bernal J.D. ed. The Origin of Life. L., 1967. P. 249.
14. Haldane J.B.S. The Origin of Life // Bernal J.D. ed. The Origin of Life. L., 1967. 1?. 248.
15. См.: Александр Иванович Опарин (Материалы к биобиблиографии ученых СССР, серия биохимии, вып. 3). М.; Л., 1949. С. 5.
16. Haldane J.B.S. The Marxist Philosophy and the Sciences. N. Y., 1939. P. 3.
17. Точка зрения, содержащаяся в письме К.X. Уоддингтона (от 16 октября 1969 г.), адресованном автору этой книги.
18. Замечательными являются рассуждения Опарина по поводу кристаллов и их связи с проблемой жизни; эти рассуждения напоминают рассуждения Э. Шрёдингера, изложенные им позднее в книге «Что есть жизнь?» и оказавшие известное влияние на формирование взглядов некоторых выдающихся молекулярных генетиков. В своей книге Бернал так пишет об Опарине: «Его рассуждения о кристаллах, которые обладают способностью к росту и репродуцированию формы, очень близки современным идеям о саморепродуцировании, которые оказались ключевыми для молекулярной биологии» (с. 237).
19. Вёлер действительно начал свои эксперименты с органическими соединениями с «синтеза» мочевины. В истории науки существует, однако, дискуссия по поводу значения этой его работы. См. об этом в: The New York Review of Books. April 9, 1970. P. 45-46.
20. В статье «К вопросу о возникновении жизни», опубликованной в 1954 г. в журнале «Вопросы философии» (№ 2), Н.Л. Кудрявцева писала, что карбидная теория Менделеева, получившая обоснование в геологической науке, вновь выступает как наиболее простая и ясная теория происхождения нефти, объясняющая этот процесс исходя из развития материи от простых форм к более сложным (с. 220).
21. Во время конференции, состоявшейся в Вакулла Спрингс (Флорида) в октябре 1963 г., имела место следующая беседа: «Д-р Бачанан: Когда д-р Опарин решил, что синтез сложных органических молекул может явиться результатом взаимодействия метана, аммиака, воды и водорода, почему он выбрал именно эти соединения? Д-р Опарин: Почти 40 лет назад, в 1924 г., в брошюре, опубликованной мною тогда, я изложил эту идею, на которую меня натолкнула гипотеза Менделеева о неорганическом происхождении нефти, отвергнутая впоследствии геологами. Кроме того, большое значение для меня имело открытие метана в атмосфере больших планет» (Fox S.W. , ed. The Origins of Prebiological Systems and of Their Molecular Matrices. N.Y.; L., 1965. P.97).
22. Это письмо цитируется в книге Бернала на с. 21.
23. Fox S.W. , ed. The Origins of Prebiological Systems and of Their Molecular Matrices. N.Y.; L., 1965. P.97.
24. Подробнее см. об этом, напр., в: Oparin A.I. Life: It's Nature, Origin, and Development. Edinburg London, 1961. P. 10-13.
25. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М., 1960. С. 12.
26. Опарин А.И. Возникновение жизни на Земле. М.; Л., 1936. С. 103. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться непосредственно в тексте.
27. Гипотезу Опарина о коацерватах как протоклетках не следует смешивать со взглядами Ольги Лепешинской, которые сам Опарин подвергал критике как представления о самозарождении жизни.
28. Medvedev Zh. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. P. 137-138.
29. В качестве примера защиты Опариным Лысенко можно назвать его работу «Значение трудов товарища И.В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской биологической науки». М., 1951. С. 10-15.
30. Medvedev Zh. Op. cit. P. 214.
31. В 1950 г. Лепешинская опубликовала по этому поводу статью, однако в более полном виде ее взгляды отражены в: Лепешинская О.Б. Клетка: ее жизнь и происхождение. М., 1952.
32. См.: Лысенко Т.Д. Новое в науке о биологическом виде: о работах действительного члена Академии медицинских наук СССР О.Б. Лепешинской. М., 1952.
33. См.: Опарин А.И. Значение трудов товарища И.В. Сталина... С. 14-15.
34. Дискуссия по проблеме происхождения жизни возникла в Советском Союзе в начале 50-х годов и в интеллектуальном отношении была достаточно убогой. Описание этой дискуссии см.: Wetter G.A. Der dialektische Materialismus und der Problem der Entstehung des Lebens. Zur theorie von A. I. Oparin. Munich, 1958. В центре дискуссии находился вопрос о том, является ли белок субстанцией, имеющей существенное значение для возникновения жизни, и является ли жизнь молекулярным или супрамолекулярным явлением. 3.Н. Нудельман согласился с А.П. Стуковым и С.А. Якушевым в том, что на уровне белковых молекул могут быть обнаружены свойства, присущие живым существам (тем самым критикуя взгляд Опарина на эту проблему), однако в отличие от Стукова и Якушева, придерживавшихся практически виталистических взглядов, Нудельман объяснял наличие этих свойств с помощью представлений о структуре молекул белка. А.Е. Браунштейн, который в целом поддержал позицию Опарина, видел важное значение белка как носителя жизни не в его «химической структуре», а в присущем ему «особом механизме обмена веществ». По мнению Нудельмана, качественный переход материи от «неживой» к «живой» возникает при переходе от микроструктуры молекулы к ее макроструктуре (при этом под макроструктурой понимается молекула в целом, а под микроструктурой — ее отдельные части). Опарин же продолжал отстаивать позицию, согласно которой простейшей формой жизни является супрамолекула. Его взгляды подвергались критике как со стороны «лысенкоистов», включая Лепешинскую, которые зачастую впадали в витализм, так и со стороны некоторых молекулярных биологов, считавших, что Опарин не способен оценить значение их работы. О том, что Лепешинская отдавала себе отчет в отличии своей позиции от позиции Опарина, см.: Игнатов А.И. Международный симпозиум по происхождению жизни на Земле // Вопросы философии, 1958. № 1. С. 154. О критике взглядов Опарина с позиции Лепешинской и ее сторонников см.: Скабичевский А.П. Проблема возникновения жизни на Земле и теория акад. А.И. Опарина // Вопросы философии. 1953. № 2. С. 150-155. Из других статей, имеющих отношение к названной дискуссии, можно назвать следующие: Коникова А.С., Крицман М. Г. Живой белок в свете современных исследований биохимии // Вопросы философии. 1953. № 1. С. 143-150; Стуков А.П., Якушев С.А. О белке как носителе энергии // Вопросы философии. 1953. № 2. С. 139-149; Кудрявцева Н.Л. К вопросу о возникновении жизни // Вопросы философии. 1954. № 2. С. 218-221; Нудельман 3.Н. О проблеме белка // Вопросы философии. 1954. № 2. С. 221-226; Эмме А.М. Несколько замечаний по вопросу о процессе возникновения жизни // Вопросы философии. 1956. № 1. С. 155-158; Такач Ласло. К вопросу о возникновении жизни // Вопросы философии. 1955. № 3. С. 147-150; Сысоев А.Ф. Самообновление белка и свойство раздражимости — важнейшие закономерности жизненных явлений // Вопросы философии. 1956. № 1. С. 152-155; Кожечников А.В. О некоторых условиях возникновения жизни на Земле // Вопросы философии. 1956. № 1. С. 149-152.
35. См.; Опарин А.И. К вопросу о возникновении жизни // Вопросы философии. 1953. № 1. С. 138-142.
36. См.: Опарин А.И., Фесенков В.Г. Жизнь во Вселенной. М., 1956. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться непосредственно в тексте.
37. Опарин А.И. Возникновение жизни на Земле. М., 1957. С. 47; см. также: Лепешинская О. Клетка: ее жизнь и происхождение. М., 1952.
38. Опарин А.И. Возникновение жизни на Земле. С. 48.
39. См.: Опарин А.И. Возникновение жизни на Земле. М., 1941. С. 55.
40. См.: Опарин А.И. Возникновение жизни на Земле М., 1957.
41. См. там же. С. 99-102.
42. См.: Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М. 1960.
43. Возникновение жизни на Земле. Труды международного симпозиума (19- 24 августа 1957 г., Москва). Под ред. А.И. Опарина и др. М, 1959.
44. См., напр., статьи Г. Френкель-Конрата и Б. Сингера, а также В. Стенли в указанных «Трудах международного симпозиума...» (С. 306-311, 317-326).
45. См.: Стенли В. О природе вирусов, генов и жизни // Труды международного симпозиума... С. 320.
46. Опарин А.И. Возникновение жизни на Земле. М., 1957. С. 253-254.
47. Труды международного симпозиума... С. 321.
48. Там же. С. 362.
49. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М., 1960. С. 63-64. Далее ссылки на эту работу будут даваться непосредственно в тексте.
50. Материалы этой конференции были опубликованы в: Fox S. W., ed. The Origins of Prebiological Systems and of Their Molecular Matrices. N. Y.; London, 1965.
51. Mora P.T. The Folly of Probability // Ibid. P. 39-64.
52. Мора утверждал, что «физико-химическая избирательность» может привести только к временному установлению метастабильного порядка или функции, которые затем перестают существовать и приобретают тенденцию к дисперсии по мере возрастания их сложности». Fox S. W., ed. The Origins of Prebiological Systems... P. 47.
53. Ibid. P. 57.
54. Ibid. P. 48. В другом месте Мора утверждал, что его подход, подобно подходу Опарина, является материалистическим (Mora P.T. Urge and Molecular Biology // Nature, July 20, 1963. P. 212-219).
55. Дж. Бернал говорил о том, что в этом выступлении были поставлены самые фундаментальные вопросы, относящиеся к проблеме происхождения жизни, из числа тех, которые поднимались «на этой конференции или, насколько мне известно, вообще где-либо». Н. Пири (Pirie) отметил: «Доктор Мора, Вы заставили людей думать» (Fox S.W., ed. The Origins of Prebiological Systems... P. 52, 57).
56. Fox S.W., ed. The Origins of Prebiological Systems... P. 53-55.
57. См.: Опарин А.И. Возникновение и начальное развитие жизни. М., 1966.
58. Опарин А.И. Возникновение и начальное развитие жизни. С. 132-133.
59. См.: Чувашов Б.И. К вопросу о возникновении жизни на Земле // Вопросы философии. 1966. № 8. С. 76-83.
60. Sullivan W. Moon Soil Indicates Clue to Life Origin // New York Times. January 7, 1970.
61. Официальный доклад, опубликованный НАСА, носит крайне неубедительный характер. Смотри специальный выпуск журнала «Science» (January 30, 1970), полностью посвященный результатам анализа материалов, привезенных с Луны.
62. В качестве примера продолжающегося влияния взглядов Опарина можно привести сборник статей, выпущенный к 80-летию со дня его рождения, «Происхождение жизни и эволюционная биохимия». М., 1975; в качестве еще одного примера см.: Буркова А. Развитие диалектико-материалистической теории жизни в современной биологии // Методология научного познания. М., 1976. С. 111 -119.
63. См.: Лисеев И.К., Фесенкова Л.В. Сущность и происхождение жизни // Философские вопросы естествознания: обзор работ советских ученых. М., 1976. Часть 2. С. 25-26.
64. См.: Энгельгардт В.А. Интегратизм — путь от простого к сложному в познании явлений жизни // Философские проблемы биологии. М., 1973. С. 7-44.
65. См., напр.: Чепиков М. Современное понимание сущности жизни: философские аспекты // Коммунист. 1974. № 8. С. 77-90.
66. См. там же. С. 79.
67. См. там же. С. 80-81. См. также: Костюк Н.Т. Мировоззренческие аспекты проблемы сущности жизни // Диалектический материализм — философская основа коммунистического мировоззрения. Киев, 1977. С. 183-193.
68. См.: Веселовский В.Н. О сущности живой материи. М., 1976.
69. Чепиков М. Современное понимание сущности жизни: философские аспекты // Коммунист. 1974. № 8. С. 89.
70. См.: Энгельгардт В.А. О некоторых атрибутах жизни: иерархия, интеграция, узнавание // Современное естествознание и материалистическая диалектика М., 1977. С. 106.
71. Eigen M. Self-Organization of Matter and the Evolution of Biological Macromolecules // Die Naturwissenschaften. October. 1971. Vol. 10.
72. См.: Опарин А.И. О сущности жизни // Вопросы философии. 1979. № 4. С. 40, 43.
73. См.: Орлов В.В. О некоторых вопросах теории материи, развития, сознания // Философские науки. 1974. № 5. С. 50.
74. Дубинин Н.П. Диалектика происхождения жизни и происхождения человека // Вопросы философии. 1979. № 11. С. 35.
75. См.: Руденко А.П. Эволюционный катализ и проблема происхождения жизни // Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. М., 1976 С. 220.
Глава IV. Генетика
Для многих людей выражение «марксистская идеология и наука» ассоциируется с именем «Лысенко». Из всех проблем, которые обсуждаются в этой книге, проблема «дела Лысенко» является одной из наиболее известных за пределами Советского Союза. Эту проблему часто рассматривают как самую важную из ряда спорных и дискуссионных проблем, связанных с отношениями диалектического материализма и природы. Обсуждению этой проблемы посвящены сотни статей и множество книг.
Ирония ситуации, однако, заключается в том, что «дело Лысенко» имеет меньшее отношение к проблемам диалектического материализма (в том виде, как его понимали Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин), нежели любая другая проблема, связанная с этой концепцией и обсуждаемая в настоящей работе. Интерпретация диалектического материализма, с которой выступил Лысенко, не возникала ни среди марксистских биологов, ни среди выдающихся марксистских философов[1].
По сравнению с другими научными вопросами, связанными с диалектическим материализмом, дискуссия вокруг «дела Лысенко» является уникальной. В интеллектуальном отношении эта дискуссия, однако, гораздо менее интересна, нежели другие. Можно, наверное, испытывать захватывающие чувства от знакомства по историческим источникам с процессом подавления науки, однако подобная реакция могла бы объясняться либо драматичностью событий, связанных с этим процессом, либо стремлением познакомиться с его подробностями, с тем чтобы эти события не повторились в будущем. Взгляды Лысенко на генетику знаменовали собой историю развития псевдонауки, а не науки.
Ряд авторов утверждают, что одной из наиболее важных причин, приведших к господству Лысенко, явилось существование в дореволюционной России необычной школы в биологии[2]. Одни связывают возникновение этой школы с именами Маркса и Энгельса, другие — с работами таких писателей-народников, как Писарев и Чернышевский[3]. Действительно, в работах русских авторов левой ориентации в тот период часто можно было встретить поддержку концепции наследования приобретенных признаков или критику идей генетики раннего периода. Однако с этим можно было столкнуться и в работах, выходящих и в других странах. Вторая половина XIX столетия — это время больших дискуссий и споров вокруг биологии в Западной Европе, и эти дискуссии, естественно, нашли отклик и в России. Писатели левого толка во всех странах выражали протест против «бессердечности» биологических теорий, возникавших после Дарвина. Надо отметить, что взгляды русских писателей-народников Писарева, Ножина и Чернышевского на биологию были достаточно различны между собой, а убеждение в том, что наследуются приобретенные признаки, было частью биологии XIX в., а не специфической чертой, присущей взглядам марксизма или народничества на биологию[4]. Лидеры русского марксизма Плеханов и Ленин не уделяли в своих работах специального внимания биологии; если какая-то область науки и рассматривалась основателями русского марксизма в качестве имеющей отношение к идеологии, то такой областью была физика.
В России времен революции работали представители старшего поколения биологов (такие, как К.А. Тимирязев), которые не были готовы принять генетику в качестве нового направления в биологии, но такие биологи были и в других странах, а не только в России. Как мы увидим дальше, первые десятилетия XIX в. отмечены борьбой величайших представителей генетики против возможных злоупотреблений в ходе применения теории генетики на практике. В этом отношении Россия не была уникальной страной; напротив того, в конце 20-х годов ее отличала как раз заметная распространенность генетики в этой стране[5]. В конце 20-х годов Советская Россия была центром проведения выдающихся исследований по генетике, которые не просто шли в ногу с исследованиями во всем мире, но в некоторых аспектах и опережали их.
Наибольший интерес с точки зрения последующих событий представляет фигура И.В. Мичурина (1855-1935) — садовода, чье имя стало названием особого типа биологии, который выдвинул Лысенко[6]. Мичурина часто называли русским Лютером Бербанком (L. Burbank), и, несмотря на то что сам Мичурин критиковал Бербанка, можно было бы многое сказать по поводу этого сравнения[7]. Подобно Бербанку Мичурин был практиком-садоводом и талантливым селекционером, выведшим множество гибридов растений. И также подобно Бербанку и большинству селекционеров, работавших в период до появления и распространения современных концепций генетики, Мичурин был убежден в том, что окружающая среда оказывает важное влияние на наследственность организма. Он думал, что это влияние было особенно сильным в определенные моменты жизни растения, а также для определенных типов организмов, подобных, например, гибридам. Более того, по крайней мере в один из периодов своей жизни и деятельности Мичурин оспаривал существование законов Менделя, которые, по его мнению, могли действовать только при определенных условиях и состоянии окружающей среды. Мичурин верил также в возможности гибридизации путем привития растений; согласно его теории «ментора», генетическое строение подвоя у привитого растения может испытывать влияние со стороны привоя. Еще одна из его теорий касалась феномена доминантности; он считал, что доминантные свойства — это такие свойства, которые дают организму преимущество в развитии в определенных условиях[8].
Упомянутые взгляды Мичурина по целому ряду важных пунктов предвосхищали взгляды Лысенко. Однако, несмотря на заметное сходство в их взглядах, Лысенко предпочитал подстраиваться под Мичурина, а не развивать его взгляды. Определение степени совпадения их взглядов было затруднено тем обстоятельством, что на протяжении 30 лет большинство книг и статей, публиковавшихся в Советском Союзе, представляли позиции этих двух людей как абсолютно совпадающие, идентичные. И только после 1965 г. (в основном в самом конце 60-х и начале 70-х годов) в Советском Союзе стали появляться работы, в которых проводилось различие между взглядами Лысенко и Мичурина[9].
Мичурин никогда не претендовал на создание обобщающей системы биологии, как это делал от его имени Лысенко. Он также не абсолютизировал влияние окружающей среды на наследственность, говоря об этом влиянии лишь относительно внутреннего строения организма. В конце жизни Мичурин пришел к пониманию значения менделизма и говорил о том, что некоторые его эксперименты, направленные на опровержение законов Менделя, на самом деле подтвердили их существование[10].
Для понимания причин, приведших к восхождению Лысенко, следует обращаться не к состоянию идеологии в дореволюционной России или работам русских селекционеров, а рассмотреть деятельность Лысенко (на ее ранних этапах) на фоне экономических и политических событий, происходивших в Советском Союзе в конце 20 — начале 30-х годов.
Трофим Денисович Лысенко родился в 1898 г. на Украине под Полтавой в крестьянской семье. Он закончил Полтавский институт садоводства и получил диплом агронома, затем он продолжил свое обучение и исследования в различных учебных заведениях на Украине, а после 1925 г. занялся исследованиями вегетации сельскохозяйственных растений, работая на растениеводческой станции в Азербайджане[11].
В период с 1923 по 1951 г. Лысенко было опубликовано приблизительно 350 работ, многие из которых представляли собой повторные публикации[12]. Первая его публикация в 1923 г. была посвящена прививкам сахарной свеклы, в этом же году им была опубликована работа по разведению томатов. В последующие пять лет он не опубликовал ни одной работы. Как раз в это время он начинает работать над исследованием вопросов влияния температуры на жизнь растений в разные периоды их жизненного цикла; эти исследования и послужили источником для его известной концепции яровизации и фазового развития растений.
Во время своей работы в Азербайджане Лысенко столкнулся с практической проблемой: бобовые растения, используемые в качестве грубых кормов и в качестве зеленого удобрения, нуждались в поливе для своего роста. В Азербайджане выпадает незначительное количество осадков, необходимое для получения урожая различных культур, а потому здесь используют ирригацию. Однако вся вода, особенно летом, используется для выращивания основной культуры этого района — хлопка. Поэтому проблема выращивания бобовых в этом районе не могла быть решена до тех пор, пока не удастся найти путь их выращивания в тот период времени — с глубокой осени до начала весны, — когда для этого есть достаточное количество воды. Возможность выращивания бобовых в условиях мягкой зимы, характерной для Азербайджана, расположенного на юге Кавказа, заслуживала внимания. Вместе с тем и во время такой относительно мягкой зимы приходилось сталкиваться с морозами, которые, как правило, устанавливались лишь на несколько дней.
Лысенко решил выращивать устойчивые к зимним условиям сорта бобовых. Выбирая раннесозревающие сорта и засевая их глубокой осенью, он надеялся, что растения достигнут зрелости до наступления холодов. Хотя эта цель была достигнута и ее результаты, по словам Лысенко, были «неплохими», все же ее решение можно рассматривать как своеобразный побочный эффект тех исследований, которые Лысенко вел у себя на родине, на Украине[13]. Лысенко утверждал, что те семена, которые в условиях Украины были раннесозревающими, в условиях Азербайджана стали позднесозревающими. Он решил, что причиной этого изменения стали «неподходящие условия среды», которые влияли на развитие семян в вегетационный период. Процесс роста семян в непривычных условиях стал «замедленным», а потому растения либо вообще не достигали степени зрелости, либо достигали ее очень поздно. Та же самая концепция «замедления» представлялась Лысенко хорошим объяснением различия в урожаях озимых и яровых злаков, таких, как пшеница. Озимые сорта пшеницы, которые, в отличие от нормальной практики, засевались весной, оказывались в «незнакомых условиях», их рост замедлялся, и они не достигали степени созревания.
На основе подобного рода анализа Лысенко пришел к выводу о том, что наиболее важным фактором, определяющим продолжительность времени с момента прорастания семян до достижения растением степени зрелости, является не генетическая структура растения, а условия среды, в которых оно культивируется. За всеми этими рассуждениями стоит, разумеется, вопрос о пластичности жизненного цикла растений, хотя он и ограничивается рамками вопроса о продолжительности вегетативного периода жизни растения[14].
Тогда Лысенко и его сотрудники по Кировабадской станции попытались определить причины, вызывающие изменения в продолжительности вегетативного периода у растений. Они решили, что таким критическим фактором были температурные условия среды в момент, следующий сразу же за посевом семян. По их мнению, причина, по которой озимая пшеница не созревала, будучи посеяна весной, заключалась в том, что во время, следующее за посевом, температура была слишком высока. Это чрезмерное тепло, говорил Лысенко, не давало растению возможности пройти через первую стадию своего развития.
Можно ли было что-нибудь сделать с этим? Перспектива сокращения периода созревания хлебных злаков была весьма привлекательной, особенно для тех частей России, где зима была настолько суровой, что пшеница зачастую здесь гибла. Однако в практическом плане вряд ли можно было надеяться на то, что можно будет контролировать температуру воздуха над всходами. К счастью, было установлено, что с точки зрения управления периодом роста «растения могут проходить эту фазу своего развития в стадии семени, то есть тогда, когда зародыш еще только начинает расти и не пробился еще через оболочку семени»[15].
Лысенко думал поэтому, что возможно влиять на продолжительность вегетативного периода у растений путем осуществления контроля за температурой семян перед их посевом. Лысенко попытался вывести алгебраический закон, выражающий это отношение. В статье, опубликованной в 1928 г. и называвшейся «Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений»[16], Лысенко представил формулу, по которой можно было определить количество дней, необходимых для предварительной обработки семян: N=A1/B1-to, где N — количество дней; В1 — максимальная температура, которая может существовать «без предварительной обработки»; А1 — количество дней, необходимых для завершения фазы развития растения; to — средняя дневная температура.
Эта статья, опубликованная, как уже говорилось, в 1928 г., является единственной из известных мне, в которой бы Лысенко пытался использовать пусть простейшие, но все же математические методы в своем исследовании. И это рискованное начинание было вскоре подвергнуто суровой критике. В своей статье «К вопросу о сумме температур как сельскохозяйственно-климатическом индексе» А.Л. Шатский подверг Лысенко критике за «огромную ошибку», выразившуюся в попытке последнего свести всю сложность отношений между растением и средой к «физической истине», которая в лучшем случае может быть описана только статистически[17]. Шатский критиковал Лысенко также и за то, что тот был уверен в возможности изолированного рассмотрения влияния только термального фактора, в то время как существовал целый ряд других, также имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, таких, как освещенность, влажность воздуха и почвы и т. д.
В последующие годы Лысенко с крайней антипатией относился к любым попыткам использовать математический аппарат для описания биологических законов. Весьма вероятно, что хотя бы отчасти неприязнь Лысенко к математике объяснялась как раз тем, что он подвергся критике за высказывания в этой области, которая представлялась ему, тогда еще совсем молодому человеку, чувствующему себя в ней по крайней мере неуверенно, достаточно унизительной. Чувство неполноценности, испытываемое Лысенко перед лицом математики, отмечалось в последующее время многими авторами[18]. Статья 1928 г. представляет собой попытку Лысенко занять свое место в академической биологии; эта попытка встретила резкий отпор.
Однако Лысенко продолжал растолковывать свои взгляды по вопросу о важном значении температуры в процессе развития растений. В январе 1929 г. он доложил о результатах своих азербайджанских исследований на состоявшемся в Ленинграде Всесоюзном совещании генетиков. Его сообщение было всего лишь одним из более чем трехсот, представленных на этом совещании, и не привлекло к себе особого внимания. В то время в СССР наиболее впечатляющие достижения в области биологии и генетики были связаны с именем таких ученых, как Ю.А. Филипченко, бывшего тогда директором Бюро АН СССР по евгенике, и Николай Вавилов, который в 1929 г. стал президентом вновь созданной Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Филипченко и Вавилов принадлежали к совершенно иному, нежели Лысенко, кругу — оба они были представителями академической науки, специалистами в области неоменделевской генетики — области исследований, появившейся в первые десятилетия XX в. К рассказу о Вавилове, который сначала поддержал работу Лысенко, а позднее стал одним из самых талантливых его оппонентов, боровшимся против попыток Лысенко целиком отбросить генетику как науку, мы еще вернемся.
После совещания в Ленинграде Лысенко решает заняться применением своей теории о влиянии температуры на процесс роста растений к решению практических проблем сельского хозяйства. Сам термин «яровизация» был использован в 1929 г. в связи с теми экспериментами, которые были осуществлены на Украине, в хозяйстве отца Лысенко — Д.Н. Лысенко. С целью успешного сева озимой пшеницы весной крестьяне закапывали мешки с проросшим зерном в сугробы на несколько дней перед их севом. Именно эта процедура помещения зерна перед севом во влажную и холодную среду и получила название яровизации. В последующие годы механизм этой процедуры изменился, однако сам ее принцип остался тем же самым. После этого зерно было посеяно, и в 1929 г. в прессе появилось заявление о том, что вся озимая пшеница, засеянная весной в условиях обычного хозяйства на Украине, взошла и заколосилась[19]. Это было лишь первое из тех публичных заявлений, к оценке которых я обращусь в дальнейшем в этой книге.
Буквально в течение нескольких последовавших за этим лет по причинам, о которых речь пойдет несколько ниже, термин «яровизация» стал одним из наиболее известных в России. Лысенко становится героем социалистического сельского хозяйства и могущественным представителем агрономической науки. Его переводят на работу в Одессу в Украинский институт селекции и генетики, где решением правительства создается специальная лаборатория по изучению яровизации. В период между 1930 и 1936 г. Лысенко публикует множество статей и брошюр, уточняющих методы яровизации, которая стала теперь применяться и к семенам хлопка, ржи, проса, сахарной свеклы, сои, картофеля, вики и различных других зерновых, клубневых и фруктовых растений. 9 июля 1931 г. Комиссариат по сельскому хозяйству принимает решение об издании нового журнала — «Бюллетень яровизации», призванного популяризировать работы Лысенко и его одесской лаборатории по вопросам яровизации. Теперь у 34-летнего Лысенко был свой журнал; этот журнал станет одним из основных источников силы Лысенко в последующие 35 лет. В 1935 г., после небольшого перерыва, он был возрожден под названием «Яровизация», а в 1946 г. получил новое название — «Агробиология»[20], отражающее уровень амбиций Лысенко по созданию обобщающих биологических концепций. В первом выпуске журнала содержались простые до трогательности указания крестьянам относительно способов осуществления яровизации — указания, в которых перечислялся весь необходимый для этого инвентарь, включая ведра, лопаты, бочки, линейки и термометры[21]. Здесь излагался новый метод ведения сельского хозяйства, который можно было применять с использованием только простейших орудий, но который тем не менее представлялся вполне подходящим для применения и в больших хозяйствах. Главное, что требовалось для его применения, — это труд. А труд являлся как раз таким товаром, которого было в избытке в Советском Союзе, бывшем преимущественно сельской страной. В 1935 г. Лысенко объявил, что яровизацией только хлебных злаков в Советском Союзе было охвачено 40 тыc. колхозов и совхозов, чьи земли располагались на площади 2 млн. 100 лыс. гектаров.
У человека, занимающегося историей советской биологии, сразу возникают два основных вопроса: 1) насколько полезной была яровизация? 2) если эта польза, как будет показано ниже, была незначительной, то почему же тогда партия и правительство поддержали ее?
Определенный ответ на первый из этих вопросов, возможно, никогда нельзя будет дать, и это объясняется тем, что отчеты о проведении испытаний на яровизацию содержат множество ошибок как методологического, так и чисто технического характера. Самой распространенной методологической ошибкой при проведении этих испытаний было отсутствие контрольных групп. Однако попытки каким-то образом оценить полезность проведения яровизации, основанные как на советских, так и на несоветских источниках, могут быть осуществлены.
В этом случае, во-первых, должно быть гарантированно установлено, что обработка семян (до или после их прорастания) позволяет при определенных условиях сократить вегетационный период и получить урожай зимних сортов зерновых летом. Сама по себе эта технология была известна в США еще в 1854 г., а также являлась предметом исследований немецкого ученого Г. Гасснера, проводившихся незадолго до конца первой мировой войны. (Лысенко знал об исследованиях Гасснера и писал об этом в своих работах.) Положение о том, что семена различных видов растений нуждаются в предпосевной обработке, решающими факторами которой являются температура и влажность, на протяжении десятков лет было общим местом в растениеводстве; процессы, происходящие в семени до момента его прорастания, являются исключительно сложными и до сих пор (не говоря уже о 20-х годах) еще не поняты до конца. Эти процессы включают в себя сложные биохимические и физические изменения, происходящие с участием естественных ингибиторов и гормонов. Для того чтобы иметь возможность как-то управлять этими процессами, исследователю необходимо не только контролировать температуру и влажность семян, но также осуществлять эти манипуляции по весьма сложной схеме, зачищая зерна наждачной бумагой и обрабатывая их растворами кислот, с тем чтобы сделать оболочку семян более проницаемой. Техника охлаждения и увлажнения семян перед посевом широко известна как «стратификация холодом» (cold stratification); для описания сложных процессов, происходящих обычно в оболочке семени или его эндосперме перед посевом, используется термин «дозревание» (afterripening)[22].
Однако не всякая потенциально полезная техника обработки, зарекомендовавшая себя в лабораторных условиях, может быть использована в экономике страны; по общему мнению исследователей, работающих за пределами Советского Союза, технология яровизации приносила больше потерь, чем обретений. Существовало множество причин, по которым следовало скептически относиться к массовому использованию предпосевной обработки семян, особенно в отсталых районах. Прежде всего в условиях отсутствия механизации в советском сельском хозяйстве в начале 30-х годов эта технология представляла собой крайне трудоемкую операцию. Более того, процесс яровизации представлял собой идеальный случай для распространения различного рода грибковых и других болезней растений. Потери, являющиеся следствием этих заболеваний, должны рассматриваться как значительные. И, наконец, в условиях советских хозяйств, в которых зачастую отсутствовало электричество и холодильное оборудование, возможность содержания семян в одинаковых условиях на протяжении длительного времени представлялась маловероятной. Иногда эти семена оказывались либо переувлажненными, либо пересушенными, либо перегретыми, либо переохлажденными; некоторые из них прорастали быстро, некоторые — медленно, а некоторые — совсем не прорастали. Вместе с тем именно эти неизбежные потери и являлись, возможно, оправданием для Лысенко и его помощников: если в каком-то из хозяйств яровизация и не давала желаемых результатов, то это всегда можно было объяснить местными условиями, а не недостатками яровизации как таковой.
Следующим обстоятельством, которое необходимо иметь в виду, оценивая программу яровизации, было то, что сам термин «яровизация» имел у Лысенко крайне неопределенный смысл: под ним понималось практически все, что делалось с семенами или клубнями растений перед их севом. Зарубежные исследователи работ Лысенко по яровизации обычно концентрировали свое внимание на наиболее эффектных ее моментах, таких, как «превращение» (conversion) озимой пшеницы в яровую. Так называемая яровизация картофеля, предлагаемая Лысенко, включала в себя проращивание клубней перед посадкой — практику, которая известна каждому садоводу, выращивающему картофель. Эрик Эшби отмечал, что некоторые из методов, используемых под рубрикой яровизации, представляли собой не более чем обычные испытания на всхожесть (вместе с тем на этих испытаниях могли настаивать и в тех случаях, когда более радикальные меры яровизации не давали результата; другими словами, их проводили ради «спасения лица»)[23]. Кроме того, многие урожаи, выращенные с применением техники яровизации, могли вполне вырасти и без ее использования. При отсутствии контрольных делянок становилось абсолютно невозможным установить степень вклада, вносимого яровизацией в получение урожая. На последнем обстоятельстве необходимо остановиться подробнее. Многие эксперименты с яровизацией могли интерпретироваться двояким образом. В качестве свидетельства в пользу своих взглядов Лысенко часто использовал примеры, сравнивающие урожай одной и той же культуры, чьи семена перед посевом в одном случае были яровизированы, а в другом — не подвергались яровизации. Хотя подобного рода сравнения, строго говоря, не являлись сравнением контрольных образцов, они все же указывали на одно весьма важное обстоятельство: только в очень редких случаях яровизация использовалась для того, чтобы попытаться сделать возможным ранее невозможное — вырастить в каком-то районе урожай культуры, которая не росла здесь ранее из-за климатических условий. Яровизация обычно была направлена на ускорение созревания для данной местности традиционных культур или на то, чтобы вырастить урожай зерновых, которые не созревали до морозов, будучи возделываемы традиционными методами. Эти эксперименты относились к разряду тех, с результатами которых можно было легко манипулировать, поскольку неряшливость в записях, ведущихся по этим экспериментам, сама по себе была способна скрыть истинные его результаты даже от честного исследователя. Когда речь идет о дате созревания зерна, то разница в два-три дня, с одной стороны, является незначительной, а с другой — может интерпретироваться самым различным образом. А потому слабый энтузиазм, проявляемый к провозглашению побед яровизации, значительно возрастал в тех условиях, когда неаккуратно велись записи по эксперименту, отсутствовал четкий контроль за его проведением, а кроме того, для его проведения использовались несортовые семена.
Наиболее эффектные из заявлений Лысенко, касающихся возможностей и результатов яровизации, могут быть, вероятно, отнесены на счет того, что в России зачастую использовались для посадок несортовые семена, а также того, что количество экспериментов, проведенных Лысенко, было крайне мало. Наиболее известным примером превращения озимой пшеницы в яровую является случай с озимой пшеницей сорта «кооператорка»[24]. Сам Лысенко в 1937 г. называл этот пример «наиболее длительным из проведенных нами на сегодняшний день экспериментов». (Это было как раз в то время, когда яровизация стала предметом широкой кампании в советской печати.) 3 марта Лысенко высеял этот сорт озимой пшеницы в теплице, где до конца апреля поддерживалась довольно низкая температура — 10-15 градусов мороза, После яровизации температура в теплице была повышена. На самом деле существовали две (!) плантации «кооператорки», на одной из которых посевы погибли, как говорил Лысенко, в результате заболевания. На оставшейся плантации пшеница созрела 9 сентября, что рассматривалось Лысенко как успех яровизации, поскольку в нормальных условиях «кооператорка» созревала весной. Зерно полученного урожая было сразу же вновь посеяно в теплице, где посевы второго поколения заколосились к концу января. Затем 28 марта 1936 г. были засеяны семена уже третьего поколения, которые дали урожай в августе 1936 г. С этого времени зерно стало вести себя как яровое, что позволило Лысенко заявить об изменении его свойств.
Из этого и подобных ему экспериментов Лысенко можно сделать только один вывод, а именно об отсутствии строгости и точности в его методах. В связи с этим, думается, не следует особенно акцентировать внимание на нелепости построения научных выводов на основе рассмотрения всего лишь двух примеров. Вполне вероятно, что «кооператорка» являлась гетерозиготным сортом, а тот из двух ее посевов, который выжил, вполне мог оказаться аберрантной формой. Следует отметить также, что вслед за экспериментами Лысенко за пределами Советского Союза были предприняты попытки повторить их, но они не увенчались успехом[25].
Несмотря на то обстоятельство, что, как видно из вышеизложенного, Лысенко пользовался в своих работах весьма сомнительными методами, он все же не стал еще тогда своеобразным диктатором в биологии, которым предстал позднее. Более того, несмотря на всю неточность этих методов, следует отдать Лысенко должное за тот действительный вклад в такую область агрономии, каковой является яровизация. Возможно, он не являлся первооткрывателем в этой области, однако он сумел привлечь к ней большое внимание и организовать осуществление яровизации в огромных масштабах, чего не удалось сделать ни одному из его предшественников. Многие фермеры и селекционеры во всем мире проводили эксперименты без должного контроля, которые никто не мог затем повторить, с тем чтобы проверить их результаты. Почему же в таком случае Лысенко не остался своего рода эксцентричным агрономом или селекционером, лихорадочно работающим в узких рамках своих ненаучных методов и тщетно надеющимся на признание своих работ со стороны академической науки? Каким образом его деятельность стала связываться с диалектическим материализмом? В своих ранних публикациях Лысенко не делал попыток ввести диалектический материализм в свои теоретические построения. И наконец, почему (если значение яровизации было в лучшем случае сомнительным) правительство поддержало его?
Для того чтобы сделать попытку ответить на эти вопросы, необходимо от проблем агрономии перейти к политике. Ключи к «делу Лысенко» лежат не в сфере теоретической биологии или марксистской философии и даже не в области практической агрономии — их следует искать в том состоянии политики, экономики и культуры, которое существовало в Советском Союзе в период с конца 20-х и до начала 30-х годов.
На протяжении большей части 20-х годов политический и экономический контроль над жизнью общества со стороны партии и правительства был довольно слабым, по крайней мере по сравнению с тем, что произошло позднее. Правда, уже и в то время Коммунистическая партия нетерпимо относилась к существованию каких-либо других политически организованных групп; уже тогда Советский Союз представлял собой авторитарное государство, в котором у органов его безопасности был короткий разговор с теми, кого подозревали в активной политической оппозиции Советской власти. Однако для среднего советского гражданина, принимающего или просто подчиняющегося власти большевиков, государство не представляло собой угрозы. Рабочие утратили возможность осуществлять контроль за работой предприятий, на что выражались надежды в начале 20-х годов, однако существующий режим выражал их классовые интересы, а программа индустриализации еще не осуществлялась теми темпами, как это случилось в ходе последующих пятилеток. Крестьяне в целом жили более зажиточно, нежели это было до революции 1917 года или после начала осуществления коллективизации. Они располагали большей частью пахотных земель, принадлежавших до революции церкви, дворянству или царствующей фамилии, а отсутствие строгого регулирования в сфере торговли позволяло им получать прибыль от продажи произведенной продукции. Положение научной интеллигенции, чьи взгляды сформировались в основном до революции, было более сложным, чем у пролетариата и крестьянства, однако она по-прежнему пыталась сохранить хоть что-то из дореволюционного образа своей жизни.
Все это изменилось с наступлением в 1929 г. того, что Сталин назвал «великим переломом»[26]. Первый пятилетний план развития страны, осуществление которого началось в 1928 г., был отмечен практически полной национализацией промышленности, положившей начало безумным темпам индустриализации. Вывихи, связанные с быстрыми темпами индустриализации, ощущались буквально каждым советским гражданином. В конце 1928 г. крестьянство было ввергнуто в программу коллективизации, реализация которой в течение нескольких месяцев привела к реорганизации деревни, ставшей отныне массивом совхозов или колхозов. Многие крестьяне ожесточенно сопротивлялись реализации этой программы, уничтожая собранный ими урожай и домашних животных. Рассказывают, что во время встречи в Ялте Сталин говорил Уинстону Черчиллю о том, что реализация программы коллективизации потребовала больших усилий, нежели Сталинградская битва. Научная среда также испытала на себе травму тех лет; перевыборы преподавателей университетских кафедр привели к насильному водворению профессоров-коммунистов. Интеллигенцию призывали работать во имя успешного претворения в жизнь планов индустриализации и коллективизации.
Такова вкратце была политическая и экономическая ситуация в стране в 30-е годы, оказавшая влияние на развитие интеллектуальной жизни. «Вторая революция», происходившая в эти годы, была направлена на построение социализма. Предполагалось, что в ее ходе будут созданы новые формы организации промышленности и сельского хозяйства, которые рассматривались как имеющие преимущество перед всеми предыдущими моделями экономической деятельности. Новые формы организации промышленности строились на основе государственной собственности и контроля над средствами производства — принципе, от проведения в жизнь которого в первую очередь страдали бывшие собственники или промышленные менеджеры, а не рабочие. В то же время новые формы в организации сельского хозяйства имели противоположный эффект. За исключением беднейших слоев, крестьяне лишались собственности и права осуществления контроля над землей, которой, как считалось, они владели. Результатом этого явилась оппозиция правительству со стороны крестьянства, приведшая к кризису в сельском хозяйстве. Многие крестьяне умышленно скрывали или просто уничтожали продукты своего производства. Сам факт выживания советского режима в начале 30-х годов был непосредственно связан с успешным решением вопроса о кризисе сельского хозяйства.
Советское правительство испытывало в то время отчаянную нужду в политически преданных специалистах в области сельского хозяйства. Профессиональные биологи с университетских кафедр или из исследовательских институтов не подходили для этой роли, как по соображениям их политических взглядов, так и по их профессиональным интересам. Самые талантливые из них занимались теоретическими исследованиями, которые могли дать экономический эффект лишь значительно позже[27]; 20-е годы можно в этом смысле назвать «годами дрозофилы», а не «годами гибридной пшеницы» в области генетики, хотя позднее прямая связь между этими направлениями обнаружилась со всей драматичностью. «Дни гибридной пшеницы» наступили в 40-х годах, и они принесли единственный практический результат генетических исследований[28]. Однако в начале 30-х годов в России эти достижения не наблюдались. Более того, профессиональные биологи, как и большинство ведущих советских ученых того времени, были зачастую выходцами из буржуазных семей. Будучи в курсе зарубежных исследований (по крайней мере, в своей области), эти ученые сами во многих случаях получили образование за границей, но все они в то же время были представителями класса, попавшего под подозрение в начале 30-х годов. Очевидно поэтому, что в то время, для того чтобы представить отсутствие у них интереса к практическим проблемам сельского хозяйства в качестве сознательного акта, направленного на «подрыв» социалистической экономики, не нужно было прикладывать слишком больших усилий; то же самое можно было бы сказать и об их интересе к проблемам евгеники, который представлялся как выражение симпатий к фашистским и расистским теориям, и об их взглядах по поводу относительно устойчивой природы гена, которые трактовались как возрождение церковных представлений о неизменной биологической природе.
В противоположность этим ученым Лысенко рассматривался советскими бюрократами как драгоценная находка[29]. Выходец из крестьянской семьи, он был предан советскому строю и, вместо того чтобы уклоняться от решения практических сельскохозяйственных задач, поставил ему на службу все свои весьма ограниченные способности. Чего бы ни требовала партия и правительство в деле осуществления сельскохозяйственных программ, Лысенко поддерживал все эти требования. В последующие годы подобное маневрирование стало для Лысенко осознанной практикой. После второй мировой войны Сталин заявил о своих намерениях «переделать природу» путем посадок лесозащитных полос — и Лысенко тут же выступил с планом такого рода посадок; после смерти Сталина его преемник — Маленков призвал к увеличению урожаев в нечерноземных областях страны — и Лысенко предложил метод удобрения этих земель; затем Хрущев, после своего визита в США, заинтересовался выращиванием кукурузы — и Лысенко, умерив свою гордыню по отношению к этому продукту, явившемуся плодом исследований современной генетики, предлагает квадратно-гнездовой метод посадки кукурузы; позднее Хрущев выдвигает лозунг, призывающий перегнать США по производству молока и масла, — и Лысенко переключает внимание на разведение коров, дающих молоко высокой жирности.
В начале и середине 30-х годов Лысенко приобрел силу, настаивая на проведении яровизации в колхозах. Отвлекаясь от вопроса о сомнительной практической ценности яровизации, можно сказать, что ее осуществление имело значительный психологический эффект. Основная проблема в то время заключалась не столько в том, будет ли «работать» яровизация, сколько в том, будут ли работать крестьяне. Программа коллективизации по-прежнему была чужда крестьянам, которые на первых порах не видели в «новом социалистическом сельском хозяйстве» ничего «нового», за исключением фактов выселения и лишения крестьян права на собственность. Лысенко же и его последователи внесли много нового в жизнь крестьян. Они заняли крестьян подготовкой семян к севу, организовав эту деятельность в тот период, который исторически сложился как «период безделья» в деревне. Лысенко и его помощники следили не только за тем, чтобы семена были подготовлены к севу, но также и за тем, чтобы эти семена были действительно посеяны. Вскоре ими были разработаны и другие планы и проекты, в осуществление которых вовлекались крестьяне, ранее никогда не сталкивавшиеся ни с чем подобным; если они не были заняты вымачиванием семян в холодной воде, то сажали картошку в середине лета, или срывали листья с хлопчатника, или удаляли пыльцу с колосьев пшеницы, или занимались искусственным опылением кукурузы[30]. Все перечисленное — лишь небольшая часть из выдвигавшихся Лысенко проектов. Внутренняя ценность этих начинаний и проектов весьма проблематична — сегодня Советское правительство не осуществляет ни один из них, по крайней мере в той форме, в которой предлагал Лысенко[31]. И все же в свое время они представляли истинную ценность для советского строя, и ценность эта объяснялась причинами, имеющими лишь весьма отдаленное отношение к принципам агрономии. Каждый крестьянин, участвовавший в осуществлении этих проектов, участвовал тем самым в важном советском эксперименте; крестьянин, занимавшийся яровизацией пшеницы, тем самым уже миновал этап, на котором он уничтожал собственный урожай пшеницы, с тем чтобы Советское правительство не смогло получить его[32]. Осуществление каждого из проектов Лысенко сопровождалось риторикой в адрес социалистического сельского хозяйства, и те, кому эти проекты нравились, связывали себя с делом их осуществления. Как раз именно такое бескорыстное служение делу и представляется важным психологическим моментом. Более того, появляется искушение сказать о том, что предложения Лысенко принесли больше пользы, чем вреда[33]. Некоторые из последующих его предложений имели разрушительные последствия, но так было только после того, как Лысенко обрел большую силу.
После переезда из Азербайджана в Одессу в 1930 г. Лысенко знакомится с И.И. Презентом, который, в отличие от него самого, был членом Коммунистической партии и выпускником Ленинградского университета. Одно время Презент думал, что менделевская генетика являлась подтверждением теории диалектического материализма, но позднее он писал, что «разошелся с формальной генетикой во взглядах на самые кардинальные вопросы»[34]. К сожалению, слишком мало известно о причинах подобного изменения во взглядах Презента, имевшего роковые последствия для советской генетики. Тут сыграли, очевидно, свою роль и те социально-экономические обстоятельства, о которых речь шла выше. Исследования, предпринятые. Д. Вайнером в 80-х годах[35], показывают, что причиной изменений во взглядах Презента явилось осознание последним противоречий между теорией менделевской генетики и желанием лидеров советского строя акклиматизировать в России экзотические растения и животных в интересах повышения продуктивности сельского хозяйства. Сочетание подобного рода осознания с амбициями Презента, стремившегося к политическому влиянию в советской биологии, и явилось, по-видимому, причиной его критического отношения к классической генетике[36]. В литературе, выходящей как в Советском Союзе, так и за рубежом, Презента часто описывают как некоего идеолога, который в первую очередь отвечает за систематическое изложение взглядов Лысенко и попытку связать их с теорией диалектического материализма[37]. Определение степени участия Лысенко и Презента в разработке системы «мичуринской биологии» представляет собой невыполнимую задачу, поскольку в этом направлении они работали вместе и оба являются соавторами нескольких важных работ. Вполне возможно, что, будучи однажды проинформирован Презентом о тех идеологических возможностях, которые содержатся в его взглядах, Лысенко затем сам был столь же активен в разработке этой системы, как и Презент. Как бы то ни было, факт остается фактом, что до того времени, как началось их сотрудничество с Презентом, Лысенко не пытался связывать свои биологические взгляды с марксизмом, а также не выступал против классической генетики.
В 1935 г. Лысенко и Презент публикуют совместную работу «Селекция и теория стадийного развития растений», ставшую этапной для карьеры Лысенко. В этой работе он впервые переходит от чисто агрономических рассуждений к проблемам создания теории растениеводства как самостоятельной науки и здесь же впервые выступает с критикой классической генетики. К более подробному анализу теоретических построений, содержащихся в этой публикации, мы еще обратимся в параграфе, посвященном анализу системы биологии, выдвинутой Лысенко. Пока же обратим внимание лишь на некоторые изменения в его взглядах. Лысенко начинает мыслить в понятиях противоположности, существующей между «социалистической» и «буржуазной» наукой. «Партия и правительство, — пишет он, — дали задание нашей селекционной науке создать в кратчайший срок новые сорта растений... Однако селекционная наука продолжает отставать, и нет гарантии, что социалистический заказ будет выполнен в поставленные сроки. По нашему глубокому убеждению, корни зла кроются в кризисном состоянии биологической науки о растении, унаследованной нами от методологически бессильной буржуазной науки»[38].
Сам тон этой публикации очень сильно отличается от скучного тона ранних работ Лысенко, посвященных яровизации. Теперь его амбиции чрезвычайно возросли:
«Мы должны, продолжает он, — непримиримо бороться за перестройку генетико-селекционной теории, за построение нашей генетико-селекционной теории на основе материалистических принципов развития, действительно отражающих... диалектику наследования»[39].
Здесь мы видим, что Лысенко начинает пользоваться новым словарем, основанным на понятиях «материализм» и «диалектика». В дальнейшем мы еще увидим всё значение этого события.
В 1935 г. критика академической биологии не была совершенно новым явлением для Советского Союза. На самом деле она началась еще в конце 20-х годов, однако критику того периода следует скорее рассматривать как часть кампании подозрений по отношению к буржуазным специалистам вообще, вне зависимости от их конкретной специальности, нежели как попытку заменить классическую генетику конкурирующей теорией. Незадолго до 1935 г. различные тенденции этой критики начинают объединяться. Этот процесс можно сравнить с впадением мелких критических «ручейков» в общий «поток» осуждения классической генетики, что, естественно, делало этот поток все более «полноводным». Истоки этого негативного отношения к теории классической генетики были различными. Относительно малообразованные селекционеры и некоторые из числа биологов старшего поколения выступали против современных генетических теорий по одним причинам, и причины эти наблюдались не только в СССР, но также и в других странах, включая США. Приход фашизма к власти в Германии, приветствовавшийся некоторыми выдающимися немецкими генетиками (и, разумеется, вызвавший протест у других), также подлил масла в огонь разворачивающихся споров вокруг генетики[40].
Многие выдающиеся генетики видели в ней ключ к осуществлению радикальных социальных реформ, рассматривая ее как естественного союзника, а не противника советского социализма. К числу таких выдающихся генетиков принадлежал в 20-е годы Ю.А. Филипченко — директор Бюро по евгенике Академии наук СССР. Он был озабочен судьбой элиты русской интеллигенции, которая, по его мнению, не воспроизводила сама себя; в качестве одной из обязанностей деятельности своего бюро Филипченко рассматривал выработку советов относительно заключения брачных союзов, надеясь тем самым усилить генетические позиции русских ученых[41].
Возможность того, чтобы Советское государство финансировало исследования по евгенике, направленные на культивирование таланта, могла показаться делом отдаленного будущего, особенно если иметь в виду возникшее позднее гонение на генетику, однако 20-е годы были периодом времени, когда многое казалось возможным. И хотя сам Филипченко не поддерживал радикальных евгенических планов, многие авторы в тот период писали о том, что разочарование в буржуазных семейных отношениях приведет супружеские пары к обращению к сперме доноров, обладающих высокими умственными способностями, и эти доноры смогут обеспечить рождение «тысяч или даже десятков тысяч детей»[42].
Самого выдающегося из советских генетиков — Николая Вавилова также привлекала возможность союза между Советским государством и генетикой, хотя основы такого союза он видел иначе, чем Филипченко. Весьма часто зарубежные авторы забывают о приверженности Вавилова идее альянса социализма и науки, помня лишь о постигших его впоследствии мучениях. Родившись в 1887 г. в семье богатого купца, Вавилов получил образование в Англии, где учился у Уильяма Бейтсона — одного из лидеров неоменделизма; Вавилов возвращается в Россию в начале первой мировой войны. После революции он становится ведущим организатором советской науки[43]. Самая важная из его работ — «Центры происхождения культурных растений», опубликованная в 1926 г., была посвящена разработке теории, согласно которой наибольшее генетическое разнообразие культурных растений можно было обнаружить в местах происхождения этих видов. Это заключение привело к тому, что в течение своей жизни Вавилов совершил множество экспедиций в самые отдаленные места земли. Другая его важная теоретическая работа — «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», впервые опубликованная в 1920 г., обосновывала утверждение о том, что родственные виды имеют одинаковую тенденцию к генетической изменчивости. Позднее Вавилов сам критиковал эту свою работу за то, что в ней он рассматривал ген как слишком стабильное образование[44].
Однако подлинное значение деятельности Вавилова заключается не в его теоретических разработках, а в той коллекции семян и образцов растений, которую он собрал и в которой были представлены растения всего мира, а также в организации и управлении деятельностью исследовательских институтов, занимавшихся изучением как проблем теоретической генетики, так и практических вопросов совершенствования сельского хозяйства. Он был убежден в том, что Россия с ее социалистическим правительством является лучшим местом для достижения обеих этих целей. Приверженность Вавилова социализму и то уважение, с которым он относился к практическим способностям Лысенко, как крестьянина, возможно, и явились причинами того, что Вавилов поддержал Лысенко на ранних этапах его деятельности, на что обращает внимание Марк Поповский[45]. После того, однако, как Вавилов увидел намерение Лысенко уничтожить теоретическую генетику, он становится решительным противником агронома-крестьянина.
Среди зарубежных генетиков, которых привлекала в Москву перспектива осуществления союза идей социализма и генетики, был и американский генетик, будущий лауреат Нобелевской премии Г. Дж. Меллер, вынужденный в 1933 г. искать такое место для работы, где бы его не преследовали за симпатии к коммунизму. Первый его визит в СССР имел большое значение для развития советской генетики[46] и произвел большое впечатление на самого Меллера. Еще в молодости Меллер стал приверженцем социализма и идеи возможности для человека управлять собственным генетическим будущим. В своих автобиографических заметках, написанных около 1936 г. и никогда не публиковавшихся, он отмечает, что с тех пор, как, будучи восьмилетним мальчиком, он увидел ископаемые останки лошади, у него «не выходила из головы идея о том, что со временем человек должен научиться управлять процессами, идущими в живой природе и даже в нем самом, с тем чтобы по возможности усовершенствовать свою собственную природу. В 1906 г. началась наша дружба с Эдгаром Альтенбургом, бывшим тогда моим одноклассником... Мы постоянно и очень горячо спорили с ним по тем вопросам, где наши мнения не совпадали, и в результате этих споров ему удалось сделать меня сторонником атеизма... и приверженцем дела социальной революции»[47].
В 1935 г. Меллер опубликовал книгу[48], в которой утверждал, что осуществление евгенических исследований должным образом возможно только в таком обществе, где отсутствуют классовые различия. Он пытался пропагандировать эту книгу в Советском Союзе, но получил решительный отпор[49]. Когда в России утвердился лысенкоизм, Меллер стал твердым антисталинистом; борьбу против лысенкоизма он делает одной из двух основных задач или целей, которые он ставил перед собой в жизни, другой являлась борьба против радиационной опасности. Однако нет никаких доказательств того, что Меллер изменил своей приверженности социализму в результате оппозиции сталинизму. Его коллега по университету штата Индиана Т.М. Соннеборн так пишет об этом в своей книге:
«Его разочарование в сталинизме совершенно не изменило его убеждения в том, что социалистическая экономика была необходима, поскольку только она позволяла осуществлять эффективный и мудрый контроль за процессом эволюции человека»[50].
Первой из известных нам атак на Вавилова и возглавляемый им Всесоюзный институт растениеводства ВАСХНИЛ была публикация в 1931 г. статьи А. Коля «Прикладная ботаника или ленинское обновление земли»[51], в которой деятельность института характеризовалась как «чуждая» и «враждебная»; автор статьи критиковал институт за увлечение исследованиями в области морфологии и классификации растений в ущерб исследованиям их экономического значения. Эта критика носила достаточно серьезный характер (как это ни странно звучит), и ее уровень был типичным в то время для критики деятельности исследовательских институтов вообще, а не только тех, которые занимались теоретическими исследованиями в области биологии. Пытаясь ответить на выдвигаемые обвинения, Вавилов указывал на многие сорта растений (картофеля, ржи и пшеницы), открытые сотрудниками института во всем мире и способные со временем внести вклад в развитие советской экономики[52]. Он подчеркивал чувство глубокой ответственности сотрудников института за дело построения социализма в стране. Однако невыгодность положения теоретика, пытающегося защитить свою науку, в котором оказался Вавилов, ясно раскрывается в комментарии редакции по поводу состоявшегося обмена мнениями между Вавиловым и Колем, где отмечается, что Коль был прав, указывая на многие недостатки, присущие деятельности института, возглавляемого Вавиловым. Причиной этих недостатков, отмечалось в этом комментарии, явилось то, что «ориентация на «нужды завтрашнего дня», о которой пишет академик Вавилов, явилась для многих сторонников «чистой науки» удобным предлогом для игнорирования потребностей сегодняшнего дня, связанных с социалистическим преобразованием сельского хозяйства»[53].
Не будем описывать подробно всю печальную историю кампании гонений на Вавилова и классическую генетику, развернувшуюся в 30-х годах, — кампании, к которой в 1935 г. присоединился и Лысенко. Эта история очень хорошо и подробно описана в работах Дэвида Жоравского. Здесь важно отметить тот факт, что, хотя Лысенко и можно рассматривать в качестве своеобразного архитектора всего того, что было сделано его именем, все же ни один из тех, кто когда-либо стремился к утверждению какой-то определенной научной системы, не оказывался в ситуации, в которой оказался Лысенко, — ситуации, которая была бы более счастливой в личном плане и одновременно более трагичной в плане историческом. Отношения между Лысенко и его окружением были отношениями взаимного разложения. Как пишет Дарлингтон, «его скромные предложения воспринимались с таким доверием, что он оказывался на самом гребне волны дисциплинированного энтузиазма, волны таких размеров, которые могут быть обеспечены только механизмом тоталитарного государства. Весь мир был поражен его успехами. Думаю, что и сам Лысенко должен был испытывать чувство удивления от того резонанса, который имели его достижения и который мог быть сравним только с тем резонансом, который имело строительство Днепрогэса...»[54].
Сейчас трудно указать на тех представителей официальной бюрократии, кто были первыми покровителями Лысенко. Сам Лысенко с большим уважением отзывался о Я.А. Яковлеве, который в декабре 1929 г. стал народным комиссаром сельского хозяйства СССР. Профессор Жоравский называет также П.П. Постышева, М.А. Чернова и К.Я. Баумана, считая их одними из первых, кто поддержал Лысенко. Однако поскольку все трое, как отмечает Жоравский, исчезли в ходе чисток, происходивших в конце 30-х годов, то совершенно ясно, что наш агроном мог обойтись и без их поддержки[55]. Самой важной была, разумеется, поддержка, которую периодически, начиная с 1935 г., оказывал Лысенко Сталин. В феврале 1935 г. Лысенко выступил на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников с речью, в которой призвал к мобилизации крестьянских масс в кампанию по проведению яровизации. Во время этой речи Лысенко извинился за отсутствие ораторских способностей, сказав о том, что он не оратор или писатель, а «яровизатор». В этом месте Сталин прокричал: «Браво, товарищ Лысенко, браво!»[56].
Трудно обнаружить причины, вызвавшие эту симпатию, в теоретических работах Сталина. Некоторые авторы утверждают, что еще с ранней молодости Сталин был приверженцем идей неоламаркизма, и в доказательство этого ссылаются на его работу «Анархизм или социализм?», опубликованную в 1906 г. При тщательном анализе убедительность такого рода ссылок несколько теряется, поскольку в этой работе только одна фраза имеет отношение к биологии[57]. Похвалы, которые время от времени Сталин высказывал в адрес Лысенко, не являлись гарантией его постоянного расположения; очень часто Сталин хвалил других выдающихся советских граждан, которые затем оказывались среди заключенных советских тюрем. Однако, вместо того чтобы наслаждаться достигнутым положением, Лысенко, как показывает дальнейшее развитие событий, постоянно борется за место поближе к Сталину; и в этой борьбе он был не одинок.
В 1935 г. устойчивый поток пролысенковской пропаганды буквально захлестывает встречи работников сельского хозяйства, газеты и журналы. К этому времени Лысенко уже располагает значительной поддержкой со стороны официальной бюрократии. А.И. Муралов сменяет Вавилова на посту президента ВАСХНИЛ, он пытается найти компромисс между классической генетикой и лысенкоизмом. В 1936 г. было устроено «социалистическое соревнование» между институтом, который возглавил Вавилов, и институтом Лысенко в Одессе. И хотя результаты этого соревнования неизвестны, о них нетрудно догадаться, особенно если вспомнить о том значении, которое в то время придавалось быстроте достижения результатов и заявлениям о выполнении и перевыполнении планов[58].
В декабре 1936 г. состоялось представительное совещание, в центре которого находился вопрос о том, что Лысенко называл «двумя направлениями в генетике». Это совещание было созвано вместо 7-го Международного конгресса по генетике, который должен был состояться в Москве в это время, но его проведение было отменено советскими властями. Отредактированная стенограмма этого совещания, впоследствии изъятая по решению Советского правительства из обращения, является одним из самых интересных исторических источников для изучения «дела Лысенко». Этот документ, имеющий вполне подходящее название — «Спорные вопросы генетики и селекции...», представляет собой (несмотря на то обстоятельство, что он был отредактирован) образец пролысенковской пропаганды[59]. Взгляды, представленные в докладах и выступлениях на этой конференции, носили настолько разнообразный характер, что с трудом поддаются точной классификации. Я, однако, возьму на себя смелость предложить следующую классификацию, имея в виду только высказанные на ней мнения: из 46 выступлений, сделанных в ходе совещания, 17 носили антилысенковский характер, 19 — пролысенковский и 10 выступлений носили неопределенный в этом отношении характер (что, разумеется, могло и не отражать собственного мнения выступавших); подобная классификация (при всей ее условности) позволяет, думается, составить представление о расстановке сил между сторонниками и противниками Лысенко на этом совещании. Список выступавших на ней включает в себя многих людей, участвовавших в длительной борьбе, развернувшейся в связи с деятельностью Лысенко, — Вавилова, Лысенко, Дубинина, Ольшанского и Презента. Многие из высказанных мнений носили очень острый характер. К теоретическим аспектам состоявшейся дискуссии мы еще вернемся в следующем параграфе этой главы, а пока ограничимся лишь несколькими замечаниями по ее поводу.
Одним из самых откровенных и прямых было выступление А.С. Серебровского, сказавшего о том, что, хотя он и согласен с необходимостью развивать научные исследования на новой, социалистической основе, все же он испытывает чувство ужаса при мысли о том, какие уродливые формы принимает подчас кампания за осуществление этой идеи. Под лозунгами «За подлинную советскую генетику», «Против буржуазной генетики», «Против искажений Дарвина» и т.п., которые преподносятся как революционные, говорил Серебровский, ведется неистовая борьба против одного из величайших достижений XX в., мы сталкиваемся, по существу, с попытками отбросить нашу науку назад на полстолетия[60].
Сходное описание возможной беды содержалось и в выступлении Н.П. Дубинина, ставшего спустя 30 лет одним из лидеров возрождения советской генетики.
«Нет необходимости играть тут в прятки, — сказал он, — важно прямо и откровенно сказать сегодня, что если в теоретической генетике возьмут верх взгляды, которые, как говорит академик Т.Д. Лысенко, наилучшим образом представлены И.И. Презентом, то это будет означать, что современная генетика будет полностью уничтожена. (Голос из зала: Это — пессимизм!) Нет, это не пессимизм. Я хотел заострить этот вопрос только потому, что наша сегодняшняя дискуссия касается самых кардинальных проблем развития нашей науки»[61].
Один из наиболее острых моментов дискуссии на совещании наступил тогда, когда с обвинениями в адрес последователей Лысенко выступил американец Г. Дж. Меллер, процитировавший письмо, полученное им только что от своего английского коллеги — Дж. Холдейна. Последний писал о том, что бросил работу в своей лаборатории и поехал в Испанию, чтобы участвовать в защите Мадрида от франкистов. Меллер сказал, что, оказывая поддержку лысенкоизму, Советский Союз, который ранее всегда являлся для него олицетворением прогресса, поворачивается спиной к собственным идеалам. По словам Меллера, лысенкоизм — это не марксизм, а его противоположность. И далее он продолжил критику сторонников лысенкоизма с позиций марксизма[62]. Он говорил о том, что именно лысенкоисты, а не генетики повинны в «идеализме» и «махизме».
«В настоящее время, — говорил он, — только три типа людей говорят о гене как о чем-то нереальном, существующем только как какое-то «понятие». К ним относятся, во-первых, убежденные идеалисты; во-вторых, — «махиствующие» биологи, для которых реально существующими являются только наши ощущения об организме (например, его внешний вид или фенотип), некоторые из них в настоящее время пытаются прикрыться ошибочно понятой теорией диалектического материализма. И наконец, к третьей категории относятся те глупцы, которые не понимают самого предмета дискуссии. Ген — это понятие того же типа, что и человек, земля, камень, молекула или атом»[63].
В то же время Меллер был подвергнут критике в ходе этой конференции за те высказывания, в которых он рассматривал ген настолько стабильным, что, по его словам, «период времени между двумя последовательными мутациями может составлять несколько сотен или даже тысяч лет». Проблема мутабильности гена была одной из трех основных проблем, вокруг которых велись споры на этой сессии; к двум другим относились проблема механизмов изменений наследственности (влияние среды, роль случайности) и проблема практической полезности двух основных направлений в советской биологии.
Другое большое совещание, посвященное проблемам советской биологии, состоялось 7-14 октября 1939 г. Существенным его отличием от всех предыдущих было то, что оно было организовано и проводилось философами — членами редколлегии теоретического журнала «Под знаменем марксизма»[64]. К тому времени многие философы начали соглашаться с заявлениями Лысенко по поводу того, что его позиция представляет собой верный в идеологическом отношении подход к генетике, хотя ранее философы и не соглашались с подобными его заявлениями. Неполная стенограмма этого совещания, опубликованная в журнале «Под знаменем марксизма», содержит выступления 53 его участников, некоторые из которых участвовали и в работе совещания 1936 г. Как и в первом случае, основываясь только на текстах выступлений, я осмелюсь выделить 29 выступлений «в пользу» Лысенко и 23 — «против» него. Таким образом, хотя, как и в первом случае, цифры указывают на незначительный перевес в пользу Лысенко, число его противников все еще велико. В ходе этой встречи можно было наблюдать достижение своего рода грубого компромисса, оставляющего за представителями классической генетики право на выражение собственного мнения. Вавилов указал на растущее использование в США гибридов кукурузы как на непосредственный результат генетических исследований[65].
К этому времени тон высказываний лысенкоистов становится откровенно агрессивным[66]; они требуют изменения школьного расписания и программ научных исследований. Как отмечает В.К. Милованов, до сегодняшнего дня продолжают существовать «кафедры генетики», между тем их необходимо было уже «давно ликвидировать»[67]. Еще раньше Лысенко говорил о том, что необходимо исключить менделизм из университетских курсов[68]. В то время Презент вместе с представителями Наркомата образования работали над пересмотром курса биологии в начальных школах, в результате чего учителя и ученики оказались «дезориентированы в вопросах биологии»[69]. Уже по тому, как Лысенко описывал свою деятельность и деятельность своих оппонентов, можно было судить о состоянии войны между ними. Себя и своих сторонников и последователей он называл «генетиками», а своих оппонентов — «менделистами». При этом считалось, что только «менделисты» представляют собой «научную группировку», что же касалось до него самого, то Лысенко отказывался признавать даже наличие у него «школы». Напротив, он выступал от имени всей биологической науки, указывая на свою лояльность по отношению к Дарвину и Марксу, в то время как его оппоненты «стали жертвами» ненаучных и церковных воззрений. Автор обзора о работе совещания В. Колбановский, которого вряд ли можно считать нейтральным в этом споре, называет теории Лысенко «прогрессивными» и «новаторскими». Закрывая совещание, философ П.Ф. Юдин призвал представителей академической генетики отказаться «от хлама и шлака, которые накопились в вашей науке»[70].
В 1940 г. Николай Вавилов был арестован и впоследствии умер в тюрьме[71]. Исчезновение лидера академических генетиков — человека, чьи способности и талант признавались даже его противниками и оппонентами, — означало, что ни один ученый не мог рассчитывать на иммунитет. С исчезновением Вавилова многие генетики замолчали. Одни из них стали работать в других, не вызывающих таких споров областях. Другие продолжали вести исследования в области генетики, но уже не в таких масштабах, как раньше.
Кульминацией событий вокруг генетики в Советском Союзе стала сессия ВАСХНИЛ 1948 г., где генетика в том виде, в каком она была известна во всем мире, была запрещена. Истоки этого решения все еще остаются не вполне ясными; думается, что ему предшествовала не все возрастающая поддержка Лысенко, как это может показаться, а, наоборот, все возрастающая критика его деятельности. Советский биолог, написавший историю «дела Лысенко», отмечает, что к концу 1947 г. политические позиции Лысенко были слабее, нежели до войны[72]. Среди самых влиятельных критиков Лысенко были Андрей Жданов (один из ближайших помощников Сталина) и его сын Юрий[73].
Печальная история, связанная с судьбой советской генетики в 1948 г., многократно описана на Западе; в отличие от материалов предыдущих совещаний материалы сессии ВАСХНИЛ 1948 г. опубликованы по-английски[74]. Из 56 выступивших на этой сессии только шестеро или семеро защищали генетику в том ее понимании, как она известна во всем мире, но и их позднее заставили отказаться от своих убеждений. В своем заключительном слове Лысенко обнародовал тот факт, что его выступление было в предварительном порядке рассмотрено и одобрено ЦК партии. Из этого вытекает, что он знал об одобрении ЦК его позиции на протяжении всей работы сессии, в то время как его оппоненты, которым это было неизвестно, оказались вовлеченными в сопротивление этому решению. В момент, когда это решение было оглашено Лысенко, все присутствовавшие встали и встретили его аплодисментами в честь Сталина. Участники сессии послали советскому лидеру письмо, в котором выражалась благодарность за поддержку «прогрессивной мичуринской биологической науки», которая характеризовалась как «самая передовая сельскохозяйственная наука во всем мире».
Вскоре вслед за этой сессией всякие исследования в области обычной генетики, а также ее преподавание в Советском Союзе было запрещено. Этот запрет действовал до смерти Сталина в 1953 г. Возобновление этих исследований, происходившее в годы после смерти Сталина, было весьма болезненным и прерывистым процессом, который так и не обрел полного расцвета до момента падения власти Лысенко в 1965 г.
Т.Д. Лысенко со своими ближайшими сотрудниками в Одессе в 1938 г.
В первом ряду слева направо: И.И. Презент, Т.Д. Лысенко, жена Д.А. Долгушина, Д.А. Долгушин, селекционер пшеницы. Во втором ряду — Б.А. Глущенко (жена И.Е. Глущенко), И.Е. Глущенко, А.Д. Родионов, тогда директор ВСГИ, жена Т.Д. Лысенко.
1. Как профессиональным биологам, так и профессиональным философам предписывалось следовать концепции лысенкоизма. В 20-х годах среди советских марксистских биологов существовала даже «школа морганистов» (об этом см.: Joravsry D. Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932. N. Y., 1961. P. 300). Давление, которое официальные власти оказывали на Академию наук, можно заметить еще в 1938 г. В мае этого года Совет Народных Комиссаров (возглавляемый помощником Сталина — В.М. Молотовым) отказался утвердить план работы, представленный Академией. Лысенко поддержал Молотова, выступавшего с критикой Академии (см.: В Академии наук СССР // Вестник АН СССР. 1938. № 5. С. 72-73). Вскоре после этого президиум Академии выступил с критикой в адрес Института генетики, отказавшегося признать работы Лысенко (см.: Хроника // Вестник АН СССР. 1938. № 6. С. 65). Можно было ожидать, что философы, будучи идеологами, поддержат Лысенко, однако и их пришлось заставлять поддерживать его линию. В 1948 г., после победы Лысенко на сессии ВАСХНИЛ, Президиум АН СССР критиковал Институт философии АН СССР за то, что им не была оказана «необходимая поддержка мичуринскому, материалистическому направлению в биологии» (см.: Правда. 1948. 27 августа).
2. Конвей Зиркл утверждает, что со времен Маркса и Энгельса существовала особая марксистская форма биологии. С приходом марксизма в Россию эта форма, полагает он, приобрела силу и здесь (Zirkle C. Evolution, Marxian Biology, and the Sicial Science. Philadelphia, 1959). Как я уже вкратце говорил выше, я не могу согласиться с тезисом Зиркла о существовании некой особой «марксистской биологии».
3. Дарвинизм привлекал к себе внимание многих народников; сначала он был встречен ими с распростертыми объятиями как символ материализма и научного рационализма. Типичной в этом смысле была реакция Д.И. Писарева. Позднее, однако, усилиями В.А. Зайцева (русского прудониста) дарвинизм приобрел расистскую интерпретацию, которая настораживала радикально настроенных товарищей Зайцева. Близкий друг Зайцева — Н.Д. Ножин пытался интерпретировать дарвинизм в духе прудонистского идеала о «mutualite» (взаимопомощь). Известный народник Н.Г. Чернышевский враждебно относился к дарвинизму в целом и остро критиковал дарвиновское сравнение естественного отбора среди домашних животных с отбором в дикой природе. Эта блестящая критика Чернышевского целиком основывалась на концепции наследования приобретенных признаков. Другим представителем русских радикалов, критиковавших Дарвина, был князь Петр Кропоткин, чьи представления о сотрудничестве и соревновании в органической природе имели известное научное значение и, в противоположность некоторым мнениям, могли быть включены в концепцию дарвинизма. См.: Писарев Д.И. Избранные философские и социально-политические работы. М., 1958. С. 303-309, 344-452; Зайцев В.А. Избр. соч. М., 1934. Т. 1. С. 26, 228-237, 429-437; Ножин Н.Д. Наша наука и ученые // Книжный вестник. 1866. 15 апреля и «По поводу статей «Русского слова» о невольничестве» // Искра. 1865. № 8; Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 10. С. 737-772 и особенно с. 758-759; Kropotkin P.A. Mutual Aid, a Factor of Evolution. London, 1902; Rodgers J.A. Darwinism, Scientism and Nihilism // Russian Review, 1960, № 19. Р. 371-383.
4. Здесь вполне уместно привести высказывание Л.К. Данна, который писал, что убеждение в том, что наследуются приобретенные признаки, являлось «утешением для большинства биологов XIX столетия» (Dunn L.C. A Short History of Genetics. N. Y., 1965. Р. X).
5. Adams Mark B. The Founding of Population Genetics: Contributions of the Chetverikov School, 1924-1934 // Journal of the History of Biology (Spring 1968). P. 23-29.
6. О Мичурине см.: Joravsky D. The First Stage of Michurinism // Curtis J. S., ed., Essays in Russian and Soviet History. N. Y., 1963. P. 120-122.
7. Хадсон и Риченс пишут: «В своей твердой уверенности в значении окружающей среды для формирования генетического строения Бербанк предвосхитил появившиеся позднее теоретические воззрения Лысенко. Некоторые его высказывания по этой проблеме предвосхищали теорию Лысенко о «расшатывании» (shattering), а вывод Бербанка, что «наследование — это не что иное, как накопление воздействий окружающей среды», предшествовал заключению Лысенко о том, что «наследственная организация всегда была и остается концентрацией воздействий на организм растения со стороны окружающей среды». Экспериментальная гипотеза Бербанка о возможности гибридизации сапом (sap hybridization) может рассматриваться как предшественница теории Лысенко о вегетативной гибридизации (graft hybridization)...» (Hubson P. S., Richens R.H. The New Genetics in the Soviet Union. Cambridge, 1946. P. 13.).
8. Эта точка зрения поддерживалаеь и в классической генетике, где она формулировалась в виде убеждения в рецессивном характере некультивированных аллелей.
9. В качестве примера можно привести статью Н.П. Дубинина «И.В. Мичурин и современная генетика», опубликованную в «Вопросах философии» (№ 6, 1966 г.). Взгляды Мичурина на биологию полностью сформировались в период до революции; небольшие изменения, происшедшие в них после 1917 г., характеризовались движением скорее к признанию менделизма, нежели отходом от него (см. статью Дубинина, с. 104 и упомянутую работу Хадсона и Риченса, с. 12).
10. См. упомянутую ранее статью Н.П. Дубинина (Вопросы философии. 1979. № 11. С. 64).
11. См. краткую биографию Лысенко, изданную на английском языке — Mikulak Maxim W. Trofim Denisovich Lysenko // Simmonds G.W., ed. // Soviet leaders. N.Y., 1967. Р. 248-259. Из советских источников можно назвать: Воинов М.С. Академик Т.Д. Лысенко. М., 1953.
12. Библиография работ Лысенко (1923-1951 гг.) содержится в: Лысенко Т.Д. Агробиология. М., 1954.
13. См.: Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 17.
14. См. там же. С. 18.
15. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 21.
16. См.: Труды Азербайджанской центральной станции. 1928. № 3. С. 1-169.
17. См.: Труды по сельскохозяйственной метеорологии. 1930. 21 (6). С. 261-263. Впервые обсуждая приведенную выше формулу, выдающийся специалист в области физиологии растений Н.А. Максимов отмечал, что она представляет «большой интерес», но основана на «слишком малом количестве экспериментов и нуждается в дальнейшей проверке». В последующие годы Максимов критиковал Лысенко, но, подобно многим другим, был вынужден признать его работы (см.: Максимов Н.А. Физиологические факторы, определяющие длину вегетационного периода // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1929. Т. 20. С. 169-212; Максимов Н.А., Кроткина М.А. Исследования над последствием пониженной температуры на длину вегетационного периода // Там же. 1929-1930. № 2, 23. С. 427-473). В последней работе содержится критика неопределенности терминов, используемых Лысенко.
18. Хадсон и Риченс описывают в своей уже упоминавшейся книге (С. 28) дискуссию о математике, имевшую место между Лысенко и выдающимся математиком А.Н. Колмогоровым. К. Зиркл предполагает, что Лысенко был жертвой комплекса неполноценности: «Будучи не в состоянии справиться даже с простейшей математикой, Лысенко очень сильно обиделся на нее и осуждал поэтому всякое применение математики в биологии. Это явилось причиной того, что менделизм оказался вне пределов его понимания. Поскольку он приравнивал всю генетику к отношению 3:1, то совершенно очевидно, что он не мог понять практически ничего в современном ее развитии, и этот комплекс непонимания заставлял его обижаться на факт самого существования науки, которая явилась причиной такого положения» (Zirkle C., ed., Death of a Science in Russia. Philadelphia, 1949. Р. 96).
19. См.: Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 16.
20. Журнал «Агробиология» перестал существовать в 1966 г.
21. См.: Бюллетень яровизации. 1932. № 1. С. 63.
22. С наиболее интересным и полным обсуждением проблем яровизации я столкнулся в статье О.Н. Пурвуса «Физиологический анализ яровизации» (Purvus O.N. The Physiological Analysis of Vernalization // Puhland W.H., ed., Encyclopedia of Plant Physiology. Berlin, 1961. P. 16; 76-77). Интересно, что у яровизации была обнаружена генетическая основа; этот факт, без сомнения, вызвал бы у Лысенко только отрицательные чувства, если бы стал известен ему (Vernalization // McGrow Hill Encyclopedia of Science and Technology. N. Y., 1966. Vol. 14. P. 305).
23. Цит. по: Huxley J. Heredity East and West: Lusenko and World Science. London, 1949. Р. 17.
24. См. описание этого примера в упомянутой книге Хадсона и Риченса на с. 39.
25. См., напр., с. 32-51 упомянутой работы Хадсона и Риченса.
26. Joravsry D. Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932. N. Y., 1961. P. 233-271.
27. Даже в тех случаях, когда советское сельское хозяйство могло использовать последние достижения мировой агрономической науки, крайняя его отсталость весьма затрудняла подобного рода использование мирового опыта. Следует отметить, что степень развития советского сельского хозяйства в период, предшествовавший коллективизации, была предметом большой дискуссии в Советском Союзе после смерти Сталина. До 1956 г. среди советских историков была распространена точка зрения, согласно которой развитие материально-технической базы советского сельского хозяйства в 1929 г. привело к «противоречию» между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями, что, в свою очередь, и привело к необходимости коллективизации как формы разрешения этого противоречия. В послесталинский период этот взгляд всерьез ставился под сомнение; автор одного из первых серьезных исследований этой проблемы, вышедшего после 1956 г., пришел к выводу о том, что к началу 30-х годов новая материально-техническая база еще не была создана. Из подобного взгляда, разумеется, вытекал вывод об отсутствии теоретического обоснования высоких темпов коллективизации. См. об этом: Данилов В.П. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР. М., 1957; Богденко М.Л., Зеленин И.Е. Основные проблемы истории коллективизации сельского хозяйства в современной советской исторической литературе // История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР М., 1963. С. 192-222, особенно с. 194-195.
28. Эксперименты с дрозофилой (Drosophila meelanogsster) проводились с 1910 по 1928 г. в Колумбийском университете; первые плодовые мушки были привезены в Россию в 1922 г. Г. Дж. Меллером (H.J. Muller), учеником Т.X. Моргана. Первые коммерческие сорта гибридной пшеницы появились в США после 1933 г., а в 40-х годах эти сорта получили распространение; к 1949 г. 77,6% всех посевных площадей в США было засеяно этими сортами (Dunn L.C. A. Short History of Genetics. N. Y., 1965. P. 140; Sturtevant A.H. A. History of Genetics. N. Y., 1965. P. 45-57; Mangelsdorj P.C. Hybrid Corn // Genetics in the 20th Century. N. Y., 1951. P. 551-571; О влиянии визита Меллера в Россию в 1922 г. см.: Adams M.B. The Founding of Population Genetics... // Journal of History of Biology (Spring 1968). P. 23-29.
29. В диссертации А.С. Куроедова «Роль социалистической сельскохозяйственной практики в развитии мичуринской биологии» (МГУ. 1952. С. 99-105) анализируется большое количество проблем, стоявших в советском сельском хозяйстве после коллективизации, и помощь, оказанная в их решении последователями мичуринской биологии.
30. Я особенно признателен Дэвиду Жоравскому за то, что он помог мне понять важное значение излюбленных приемов и методов Лысенко, с помощью которых он совершил свое восхождение в 30-е годы.
31. Это заключение основано на содержании встреч и бесед, состоявшихся у меня с советскими официальными лицами в мае-июле 1970 г. в Москве и Ленинграде.
32. В одном из своих выступлений Лысенко настаивал на том, чтобы к участию в его экспериментах были привлечены «тысячи» колхозников. Представляется, что акцент здесь делается как на необходимости личного участия каждого крестьянина, так и на технических преимуществах подобного рода экспериментов. См.: Лысенко Т.Д. Обновленные семена (Беседа с академиком Т.Д. Лысенко) // Социалистическое земледелие. 1935. 16 сентября. С. 1.
33. Существуют, однако, свидетельства того, что на самом деле яровизация приводила к снижению урожаев. См., напр.: Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии академии 19-27 декабря 1936 года. Под ред. О.М. Таргульяна. М.; Л., 1937. С. 189-193, 204-205.
34. Презент писал: «Генетика породила диалектику». Позднее он писал об этом как о материале для критики того пути, по которому я шел раньше. См.: Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 112-114.
35. См.: Weiner D. Models of Nature: Conservation and Ecology in the Soviet Union, 1917-1935. Bloomington, 1987. — Прим. перев.
36. Weiner D. Op. cit.
37. На конференции в 1939 г. Дубинин говорил: «Академик Лысенко очень сильно заблуждается в вопросах менделизма. Однако я думаю, что в известной степени вина за эти заблуждения ложится, академик Лысенко, на вашего помощника — товарища Презента. (Голос с места: «Правильно!»)». См.: Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 186. В своей книге Хадсон и Риченс отмечают: «Существуют свидетельства того, что законченной разработке своей системы генетики Лысенко обязан в основном Презенту... » С. 15.
38. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 55.
39. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 58.
40. 14 июля 1933 г. в нацистской Германии был принят закон о принудительной стерилизации. В своей книге Хадсон и Риченс так комментируют это событие: «Несмотря на то что этот вопрос все еще носит спорный характер, не вызывает, сомнения, что генетические исследования продемонстрировали гетерогенность, разнородность человеческих рас, дав тем самым основания для появления на свет различного рода расистских теорий. Представляется очевидным, что Лысенко и Презент отдавали себе отчет в возможности подобного рода выводов из этих исследований и рассматривали их в качестве серьезной угрозы для теории социального равенства. Все возрастающая напряженность политических отношений между Россией и Германией в то время только усилила эти подозрения» (Hudson and Richens. Ор. cit. Р. 27). Дж. Б.С. Холдейн — коммунист, враг фашизма и выдающийся генетик — так писал по этому вопросу в 1932 г.: «Я думаю, что для СССР результаты исследований по генетике человека, демонстрирующие факт существования внутреннего неравенства людей, станут своеобразной проверкой на его приверженность науке». (Haldane J. B. S. The Inequality of Man. London 1932. P. 137).
41. Смотри многочисленные статьи Филипченко, опубликованные в период с 1922 по 1926 г. в «Известиях Бюро по евгенике» и «Известиях Бюро по генетике и евгенике». См. также его статью: Спорные вопросы евгеники // Вестник коммунистической академии, 1927. № 20. С. 212-254. Н.П. Дубинин, один из главных оппонентов Лысенко, являвшийся директором Института общей генетики АН СССР, с похвалой отзывался о работе Филипченко в 20-е и 30-е годы в своей статье «И.В. Мичурин и современная генетика», опубликованной после дискредитации Лысенко (Вопросы философии. 1966. № 6. С. 59-70).
42. Серебровский А.С. Антропогенетика // Медико-биологический журнал. 1929. № 5. С. 18.
43. Его брат Сергей со временем становится президентом Академии наук СССР (Joravsky D. The Vavilov Brothers // Slavic Review (September 1965). P. 381-394).
44. Смотри его выступление на IV сессии академии в 1936 г. (Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии академии 19-27 декабря 1936 года. М.; Л., 1937. С. 462).
45. Popovsky M. The Vavilov. Affair. Hamben, Conn., 1984; Roll-Hansen N. A New Perspective on Lysenko? // Annals of Science (1985), 42:261-78. Выдающийся генетик и также русский по происхождению — Ф. Добжанский писал в 1947 г.: «Вавилов был страстным патриотом России. Многие за пределами России считали его коммунистом, каковым он не был. Вместе с тем он всем сердцем принял революцию, поскольку верил в то, что она откроет перед страной и ее людьми более широкие возможности развития, чем это могло бы быть, если бы революции не было. Во время путешествия по Национальному парку секвой, состоявшегося в октябре 1930т., Вавилов с большим убеждением говорил автору этих строк (и больше никто не присутствовал при этой беседе) о том, что, по его мнению, возможности служить человечеству, существующие в СССР, настолько огромны и вдохновляющи, что во имя этих возможностей следует научиться не обращать внимания на жестокости существующего режима. Он утверждал также, что нигде в мире так высоко не ценится работа ученого, как в СССР» (Dobzhansky Th. N.I. Vavilov, A. Martyr of Genetics, 1887-1942 // Journal of Heredity (August 1947). 38 (8):229- 30).
46. См. сноску № 27.
47. Цит. по: Sonneborn T.M. «H.J. Muller, Crusader for Human Betterment» Science (November 15, 1968). P. 772.
48. Muller H.J. Out of the Night: A Biologist's View of the Future. N.Y., 1935
49. Huxley J. Op. cit. P. 183.
50. Sonneborn T.M. Op. cit. Р. 774.
51. См.: Экономическая жизнь. 1931. 29 января.
52. См. там же. 23 марта.
53. Там же.
54. Darlington C.D. The Retreat from Science in Soviet Russia // Zirle C., ed., Death of Science in Russia. Philadelphia, 1949. Р. 72-73.
55. Представляется полезным сравнить развращающий эффект общественной кампании, который был оказан на Лысенко и на Л. Бербанка (Howard W.L., Luther Burbank: A Victim of Hero Worship // Chronica Botanica (1945), 9 (5-6): 9-11). Разумеется, тот факт, что с Бербанком носились как со знаменитостью, приглашая его читать проповеди, печатая марки с его изображением, приурочивая весенний Праздник посадки деревьев к его дню рождения, нисколько не мешал развитию классической генетики в США. Эксплуатация его имени сомнительными фирмами и компаниями указывает лишь на тот очевидный факт, что капиталистическое общество создает свои собственные формы развращения.
56. Лысенко Т.Д. Яровизация — это миллионы пудов добавочного урожая // Известия. 1935. 15 февраля. С. 4. Как отмечает Жоравский, Сталин часто менял свое мнение по тому или иному вопросу, а потому однажды высказанная им поддержка Лысенко вряд ли может объяснить тот факт, что Лысенко доминировал в биологии довольно долго.
57. Обсуждая принцип перехода количества в качество, Сталин отмечает, что таблица Менделеева является иллюстрацией действия этого принципа и что «то же самое можно наблюдать и в биологии, где неоламаркизм вытесняет неодарвинизм» (Сталин И.В. Анархизм или социализм? М., 1950. С. 26).
58. См.: Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии академии 19-27 декабря 1936 года. М.; Л., 1937. С. 374.
59. См. там же.
60. См. там же. С. 72.
61. См.: Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии академии 19-27 декабря 1936 года. С. 336.
62. С подобного рода критикой выступал и известный советский генетик А.Р. Жебрак, уволенный из Тимирязевской академии в 1948 г. В статье, опубликованной в 1939 г. в журнале «Под знаменем марксизма» (№ 11. С. 98), он писал о том, что классическая генетика является подтверждением действия диалектических законов, особенно закона перехода количества в качество. Н.П. Дубинин также неоднократно писал о генетике на страницах марксистских философских журналов; однажды в 1936 г. он даже попытался «поменяться местами» с Презентом, обвинив его в следовании идеям Вейсмана! (см.: Спорные вопросы... С. 339).
63. Спорные вопросы... С. 114.
64. В то время членами редколлегии этого журнала были: В.В. Адоратский, М.Б. Митин, Э. Кольман, П.Ф. Юдин, А.А. Максимов, А.М. Деборин, А.К. Тимирязев и М.Н. Корнеев.
65. Многие комментаторы за предёлами СССР называли эту речь Вавилова на совещании 1939 г. «слабой» или «неэффективной», однако я нахожу, что она была достаточно откровенной и тщательно обоснованной как в теоретическом, так и в практическом плане (см.: Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 127-140).
66. Высказывания Лысенко о научном методе не нуждаются в комментарии: «...для того чтобы получить определенный результат, необходимо хотеть получить именно этот результат; если вы хотите получить определенный результат — вы его получите... Мне нужны только те люди, которые получают то, что мне нужно» (там же. С. 95).
67. Слова В.К. Милованова цитирует В. Колбановский в общем обзоре совещания (там же. С. 93).
68. См. Лысенко Т.Д. По поводу статьи академика Н.И. Вавилова // Яровизация. 1939 № 1.
69. Полянский Ю. Выступление на совещании по генетике и селекции // Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 103.
70. Там же. С. 125.
71. Более подробно об аресте, суде и дальнейшей судьбе Вавилова можно прочесть в: Medvedev. Zhores. A The Rise and Fall of T.D. Lysenko. N. Y.; L., 1969. P. 67-77; Popovsky Mark. The Vavilov Affair. Hamden, Conn., 1984.
72. Medvedev Zh. Op. cit. P. 110.
73. О роли Ждановых в этом вопросе см. Приложение 1 к первому изданию этой книги.
74. The Situation in Biological Science: Proceedings of the Lenin Academy of Agricultural Sciences of the USSR, July 31-August 7, 1948. Complete Stenographic Report. N. Y., 1949.
Биологическая система Лысенко
К 1948 г. Лысенко были разработаны все основные компоненты, составляющие его биологическую систему. Его взгляды на биологическое развитие нашли свое отражение в достаточно неопределенной по своему содержанию доктрине, получившей название «теория питательных веществ» (theory of nutrients). При этом под питательными веществами, или «пищей», как называл это Лысенко, подразумевались такие условия окружающей среды, как солнечный свет, температура и влажность воздуха, а также химические элементы, содержащиеся в почве или органических кормах, различного рода газы, присутствующие в атмосфере[1]. Другими словами, эта теория выступала как своеобразная общая теория экологии. По Лысенко, всякая попытка решения вопросов и проблем, связанных с наследственностью, должна начинаться с рассмотрения отношений между организмом и окружающей его средой, которая, по его представлениям, и определяла в конечном счете наследственность, действуя при этом опосредованно и таким образом, что в каждый данный момент времени организм обладал известной наследственной стабильностью.
Наиболее важное значение для формирования теории Лысенко имели его работы по изучению температурного эффекта на рост и развитие растений, которые проводились им в конце 20 — начале 30-х годов. Лысенко пришел к выводу о том, что экологические отношения между организмом и окружающей его средой могут быть разделены на фазы или стадии, в которых потребности организма значительно различаются. Именно поэтому его взгляды часто характеризуются как «теория фазового развития растений», хотя более подходящим названием для них является, думается, «теория питательных веществ», поскольку она описывает его взгляды как на развитие растений, так и на развитие животных, а также охватывает многообразие его взглядов по другим проблемам, связанным с биологией.
Лысенко рассматривал стадию яровизации как необходимую фазу в развитии не только зерновых культур; он думал, что все растения проходят в своем развитии через различные его фазы и для многих из них фаза яровизации является первой[2]. При этом, однако, Лысенко нигде не дает сколько-нибудь связного описания остальных стадий или фаз развития растений. Он утверждает, что для многих зерновых культур вслед за стадией яровизации, на которой важное значение имеет температура, наступает так называемая «световая стадия», на которой решающее значение приобретает фактор продолжительности светового дня. Вместе с тем, говоря об одном факторе, имеющем решающее значение для развития растения на каждой из вышеназванных стадий, Лысенко подчеркивает также, что влияние только этих факторов вовсе не гарантирует правильного развития растений. Каждую стадию следует рассматривать как комплекс действия различных факторов, необходимых для развития организма. Здесь, как и во многих других случаях, Лысенко не дает ясных критериев различия между стадиями развития растения, поскольку на каждой из выделяемых им стадий факторы температуры и света включаются в комплекс факторов, влияющих на рост растения.
Как уже отмечалось выше, сама по себе яровизация представляется тем вопросом, который заслуживает обсуждёния в связи с проблемами растениеводческой науки, и основная ошибка Лысенко заключалась не в выборе предмета исследования, а в тех методах, которыми это исследование велось, и в выводах, к которым он пришел в его результате. Внимательное знакомство с мировой научной литературой по этим вопросам показывает, что свидетельства в пользу яровизации были получены в те же самые годы, когда и Лысенко проводил свои эксперименты[3].
В опубликованной в 1935 г. совместно с Презентом работе «Селекция и теория стадийного развития растений» Лысенко начинает от простых вопросов исследования яровизации переходить к вопросам общей теории наследственности[4]. В то время главное возражение Лысенко против классической генетики заключалось, по-видимому, в том, что, по его мнению, генетика была не способна предсказать, какое из свойств растений будет доминантным при их гибридизации, а также вела экспериментальные исследования крайне медленно, в основном путем перебора многочисленных возможных комбинаций. Нетерпеливость Лысенко в этом вопросе, связанная с нетерпеливостью правительства, надеющегося на быстрое экономическое развитие страны, привела к тому, что у Лысенко появились надежды на обнаружение кратчайших путей в достижении этой цели[5]. Он был убежден в том, что доминантность того или иного признака определяется внешними условиями:
«Мы же утверждаем, что во всех случаях, когда гибридное растение в ходе развития попадает действительно в другие условия существования, это обусловливает и соответствующие сдвиги в доминировании: доминировать будет то, что имеет более благоприятные условия приспособления для своего развития»[6].
Эти взгляды получили развитие в последующие годы. В наиболее полном виде теоретические воззрения Лысенко отражены в его работе «О наследственности и ее изменчивости», впервые опубликованной в 1943 г. И именно к этой работе необходимо обратиться с тем, чтобы попытаться дать наиболее полное представление о системе Лысенко.
Лысенко отрицал различие между фенотипом и генотипом[7] даже у организмов, разделенных периодом жизни одного поколения. Он пишет: «В какой степени в новом поколении (допустим, растения) строится сызнова тело этого организма, в такой же степени, естественно, сызнова получаются и все свойства, в том числе и наследственность, то есть в такой же степени в новом поколении сызнова получается и природа организма»[8]. Стирание этого различия лежит в основе многих работ Лысенко.
Наследственность Лысенко определяет как «свойство живого тела требовать определенных условий для своей жизни, своего развития и определенно реагировать на те или иные условия»[9]. Затем Лысенко описывает наследственность с помощью отношения организма с окружающей его средой, а не в традиционном плане — как передачу свойств или признаков от предков потомкам. Однако он запутывает свое определение наследственности, добавляя, что «природа живого тела» и «наследственность живого тела» — это почти одно и то же. О том, из чего, собственно, состоит «природа живого тела», не говорится ничего, за исключением уже цитированного выше заявления относительно того, что живое тело требует «определенных условий для своей жизни».
Согласно Лысенко, наследственность живого тела строится на основе условий внешней среды, в которых существовали многие поколения того или иного организма, и всякое изменение этих условий ведет к изменению наследственности. Этот процесс он называл «ассимиляцией внешних условий». Лысенко пишет:
«Внешние условия, будучи включены, ассимилированы живым телом, становятся уже не внешними условиями, а внутренними, то есть они становятся частицами живого тела, и для своего роста и развития уже требуют той пищи, тех условий внешней среды, какими в прошлом они сами были»[10].
В последней части приведенного высказывания Лысенко фактически ссылается на ту часть своей биологической системы, которая игнорирует вопрос о пластичности организма. Механизм перехода от «внешних условий» (температура, влажность и т. д.) к «внутренним частицам» оставался, мягко говоря, не совсем ясным, однако именно таким путем Лысенко удалось достичь определения материального носителя наследственности. На первый взгляд представления о неких «внутренних частицах» кажутся совпадающими с представлениями о генах, однако, как это становится ясным из дальнейших комментариев Лысенко, это не так. По мнению Лысенко, наследственные факторы, передающиеся от предков потомству, не являются чем-то неизменным или относительно неизменным — они являются ассимилированными внешними условиями[11].
Несмотря на это различие в понимании наследственности, «частицы» Лысенко при определенных условиях выполняют функцию обеспечения стабильности наследственности. Такого рода наследственность он описывает как консервативную тенденцию, свойственную отношениям любого организма с внешней средой. Если организм существует в условиях внешней среды, похожих на условия, в которых существовали его предки, то в таком случае организм будет обнаруживать свойства или признаки, похожие на те, которыми обладали и его предки. В случае же, когда организм оказывается помещенным во внешние условия, отличные от тех, в которых существовали его предки, его развитие будет проходить отличным путем. Предполагая, что организму удастся выжить в этих условиях, Лысенко считал, что в подобном случае организм будет вынужден ассимилировать эти новые для него внешние условия. Это, в свою очередь, приведет к изменению наследственности, которое через несколько поколений может стать «фиксированным» таким же образом, каким образом была фиксирована другая наследственность в других внешних условиях. В переходный период наследственность организма оказывается «расшатанной», а потому необычайно пластичной.
Лысенко утверждал, что существуют три различных способа или пути «расшатывания» или устранения стабильности наследственности организма. Во-первых, можно поместить организм, как это было описано выше, в отличные внешние условия. Этот метод был более эффективен, как считал Лысенко, на определенной стадии (например, стадии яровизации) процесса развития, нежели другие. Кроме того, по мнению Лысенко, можно было «ликвидировать консерватизм», присущий «привою» и «подвою», путем привития растений. И наконец, в-третьих, можно было «расшатать» стабильность наследственности путем скрещивания форм, значительно отличающихся по происхождению или местам обитания. В своих экспериментах Лысенко использовал каждый из перечисленных методов.
Лысенко полагал, что организмы, находящиеся в дестабилизированном или «расшатанном» состоянии, представляют особый интерес с точки зрения возможностей воздействия на их наследственность. При этом предполагалось, что, помещая такие организмы в строго определенные (и желательные) условия внешней среды, можно было придать им новые наследственные признаки или свойства[12]. Другими словами, через несколько поколений наследственность подобных организмов стабилизировалась бы на том состоянии, когда, начиная с этого момента, организм уже «требовал» или, как минимум, «предпочитал» именно эти внешние условия.
Хотя Лысенко и ссылался на существование неких «частиц наследственности», у него были весьма смутные представления как о локализации, так и о функциях этих «частиц». Эти представления не позволяли, в частности, отделить эти «частицы» от остального организма. Характерно в этом отношении рассуждение Лысенко о том, что « любая живая частичка или даже капелька тела (если последнее жидкое) обладает свойством наследственности, то есть свойством требовать относительно определенных условий для своей жизни, роста, развития»[13]. Лысенковские «частицы» весьма напоминают по своим характеристикам дарвиновские «геммулы», которые, согласно его теории пангенезиса, выделялись каждой клеткой или частью организма. Эта теория Дарвина была отброшена с развитием современной генетики. Однако следует отметить, что в свое время дарвиновская теория объясняла явления, которые не могли быть объяснены другим путем; кроме того, Дарвин отдавал себе отчет в том, что его теория носит спекулятивный, умозрительный характер, и называл ее «условной» (provisional). С другой стороны, теория Лысенко давала неадекватное объяснение явлениям, которые более точно описывались другой существующей теорией. Таким образом, несмотря на то, что в каком-то определенном отношении теории Дарвина и Лысенко были похожи одна на другую, историк науки может легко сделать заключение о том, что усилия Дарвина носили весьма полезный и новаторский для своего времени характер, в то время как взгляды Лысенко были, по существу, реакционными, отбрасывающими развитие науки вспять[14].
Взгляд Лысенко на возможные типы наследования включал в себя и так называемую «дискретную наследственность», то есть такую, когда организм наследует отличительные отцовские и материнские признаки, но не только ее. В своей системе Лысенко многое заимствовал у Тимирязева, который в свою очередь испытывал влияние со стороны биологов более раннего поколения. Здесь, как и в предыдущем случае, необходимо отметить, что для своего времени схема Тимирязева могла рассматриваться как вполне вероятная. Однако к тому времени, когда к ней решил обратиться Лысенко, в генетике уже существовала более совершенная схема наследственности, которой Лысенко так никогда и не овладел. Представления Тимирязева и Лысенко о наследственности в виде наглядной диаграммы имеются в уже неоднократно упоминавшейся работе Хадсона и Риченса; эта же самая схема описана в работе самого Лысенко «О наследственности и ее изменчивости»[15]:
[схема отсутствует]
Простое наследование, при котором участвует лишь один из родителей, включает в себя все типы бесполого и вегетативного размножения (самоопыление у растений, например пшеницы, или размножение черенками, отводками и т. д.), а также партеногенеза.
Сложная или, как ее еще называет Лысенко, «двойственная наследственность» обусловливает «бо'льшую жизненность (в прямом смысле слова) организмов и большую их приспособленность к варьирующим условиям жизни»[16]. Исходя из этого, Лысенко полагал, что потомство от двух родителей потенциально обладает свойствами или признаками обоих родителей, а потому с неодобрением относился к инбридингу или самоопылению, которые, по его мысли, вели к сужению потенциальных свойств организма[17]. В случае «двойственной наследственности», когда родители не являются представителями родственных видов, признаки, на самом деле обнаруживаемые у потомства, будут зависеть, во-первых, от внешних условий, в которые оно помещено, а во-вторых, от тех уникальных свойств или качеств, которыми располагает данный организм. Взаимодействие условий внешней среды с этими уникальными свойствами и ведет к различным «типам» сложной наследственности: смешанной, слитной и «взаимоисключающейся».
Согласно Лысенко, смешанной наследственностью является такая, при которой в одной части организма проявляются признаки одного, а в другой — другого из родителей; в качестве примеров такой наследственности могут рассматриваться пестролистные цветы, животные, имеющие пятнистую окраску, вегетативные гибриды. В своей работе Лысенко приводит ряд примеров смешанной наследственности, наибольшей известностью из которых пользовался опыт гибридизации томатов, предпринятый Авакяном и Ястреб. Этот эксперимент был проанализирован Хадсоном и Риченсом в их книге, в результате чего они пришли к выводу о сомнительной ценности этого опыта[18]. Дело в том, что сам вопрос о возможности осуществления вегетативной гибридизации был предметом горячей дискуссии в биологии, однако неспособность Лысенко осуществлять точный контроль за проводимыми им экспериментами исключала его из числа заслуживающих доверия участников дискуссии[19].
Слитная наследственность, согласно Лысенко, являлась тем случаем, когда наследственные свойства обоих родителей сливались в потомстве, а не проявлялись в чистом виде. Известно множество примеров подобной наследственности. Очевидно, например, что (когда речь идет о людях) потомство пар, обладающих разным цветом кожи, весьма часто оказывается обладателем некоего промежуточного цвета кожи, и весь спектр этих промежуточных оттенков может проявляться без сколько-нибудь ясной связи с законами Менделя. Главное различие в подходе к подобным явлениям у Лысенко и у современной генетики заключается в том, что Лысенко говорит о простом смешивании признаков[20].
Понятие «взаимоисключающееся наследование» используется Лысенко для объяснения явлений полной доминантности. Лысенко рассматривает явление доминантности не в плане обычных представлений об аллельных парах, только одна из которых выражена в фенотипе гибрида, а в плане отношения организма с внешней средой. По его представлениям, существуют не доминантные или рецессивные гены, а некие «скрытые внутренние возможности», которые могут (или не могут) «найти условия, необходимые для их развития».
Как видно из приведенной выше схемы, Лысенко считал, что «взаимоисключающееся наследование», в свою очередь, делится на два типа, которые он обозначает как «мильярдеизм» и «менделизм» или «так называемый менделизм». «Мильярдеизм» (названный так по имени французского ботаника Мильярде) призван был описывать случаи гибридизации, когда гибридное потомство не разнообразится, не расщепляется в поколениях. Другими словами, пишет Лысенко, те признаки, которые обнаруживают себя как доминантные в первом поколении (F1) гибридов, продолжают доминировать и у последующих поколений. Лысенко утверждает, что в подобного рода наследовании нет ничего удивительного, поскольку его общая теория проявления признаков основывается на отношениях между организмом и внешними условиями его существования; исходя из этого наличие необходимых внешних условий всегда будет вызывать проявление соответствующих признаков или свойств организма. Последователи Лысенко приводили в свое время множество примеров, призванных засвидетельствовать правильность этого заключения. Классическая генетика, в свою очередь, не могла объяснить факты именно такого типа наследования, хотя нетрудно представить себе те ошибочные представления, которые могли привести к подобного рода заключению[21]. Результаты экспериментов Лысенко с наследственностью не подвергались проверке за пределами России.
«Так называемый менделизм» — последний из типов наследственности, приводимых Лысенко, — относится к описанию тех случаев, когда, начиная обычно со второго поколения (F2), у гибридов идет расщепление, разнообразие, причем одни формы имеют отцовские признаки, а другие — материнские. Лысенко вслед за Тимирязевым рассматривает эти факты как единичные, имеющие место лишь при определенных условиях, и считает, что они вовсе не были открыты Менделем. По мнению Лысенко, сами законы Менделя носили «схоластический» характер, поскольку в них не отражалось важное значение условий внешней среды и они не позволяли предсказывать появление тех или иных признаков у организмов без предварительного проведения опытов с каждым типом организмов.
До сих пор ничего не говорилось о ламаркизме и наследовании приобретенных признаков, то есть о тех вопросах, которые обычно упоминаются при обсуждении взглядов Лысенко. Теперь можно со всей определенностью сказать, что Лысенко верил в наследование организмом приобретенных признаков. Совершенно очевидно, что к подобного типа наследованию Лысенко относил процесс «ассимиляции» организмом внешних условий, который, в свою очередь, рассматривался им как способ, путем которого осуществляется наследование у всех видов организмов. Лысенко сам достаточно недвусмысленно формулирует свою позицию в этом вопросе:
«Материалистическая теория развития живой природы немыслима без признания необходимости наследственности приобретаемых организмом в определенных условиях его жизни индивидуальных отличий, немыслима без признания наследования приобретаемых свойств»[22].
Это высказывание совершенно ясно демонстрирует попытку Лысенко поставить марксистскую философию на службу его собственным устаревшим биологическим теориям. Не существует ни одного положения в системе диалектического материализма, которое бы требовало веры в наследование приобретенных организмом признаков. В качестве теории познания и взгляда на природу материализм даже близко не подходит к тому, чтобы включить этот принцип в свою систему. В то же время, однако, советский диалектический материализм эпохи Сталина соединяется с представлениями о наследовании приобретенных признаков. Поскольку все учителя Лысенко были представителями старой школы в биологии, то нет ничего удивительного в том, что и он присоединился к их устаревшим взглядам и теориям. Как отмечает один из выдающихся генетиков XX столетия Л.К. Данн, вера в наследование приобретенных признаков «являлась утешением для большинства биологов XIX в.»[23]. Таким образом, Лысенко мог ссылаться на высказывания Дарвина, Тимирязева и Мичурина для подтверждения своих взглядов[24]. Тут попутно можно отметить, что удивительным аспектом подхода Дарвина к принципу наследования приобретенных признаков является не то, что он верил в него (а он в него верил), а то, что он так мало полагался на этот принцип при создании своей великой теории. То же обстоятельство, что Маркс и Энгельс принимали теорию Дарвина, может рассматриваться лишь как свидетельство того, что они были в курсе состояния биологии того времени.
Вопрос о том, являлся ли Лысенко ламаркистом в строгом историческом смысле этого слова, представляется очень сложным и трудным для ответа. Сам термин «ламаркизм» от частого употребления настолько утратил свой первоначальный смысл, что следовало бы, наверное, совсем отказаться от него[25]. Ламарк считал, что только усилия организма, направленные на самосовершенствование, имеют эффект для наследственности, а вовсе не «внешние условия», как подчеркивал Лысенко. Последний, как представляется, никогда не рассматривал самосовершенствование организма в качестве важного момента в понимании проблемы наследственности, хотя некоторые (правда, немногие) из его последователей-энтузиастов не соглашались с ним в этом вопросе[26]. Ламарк, по утверждению Лысенко, был типичный материалистом XVIII в., неспособным мыслить «диалектически». Представляется также, что во взглядах Ламарка не было ничего, что напоминало бы теорию Лысенко о «расшатывании наследственности» или о том, что наследование — это метаболический процесс. Другими словами, различия между ламаркизмом и лысенкоизмом существуют. Тем не менее обе эти системы взглядов похожи в том, что обе они содержат в себе принцип наследования организмом приобретенных признаков или свойств. Советские генетики, которые позднее пришли на смену Лысенко, часто характеризовали его систему как «наивный ламаркизм»[27].
Существуют и другие аспекты, в которых взгляды Ламарка напоминают взгляды Лысенко, однако анализ этих сходств связан с весьма сложной проблемой интерпретации взглядов Ламарка. Историки науки спорят о том, следует ли рассматривать Ламарка в качестве одного из первых эволюционистов или, напротив, последнего представителя «романтиков» в науке. Обычно Ламарка характеризуют как весьма эксцентричного, несговорчивого, часто ошибающегося ученого, который тем не менее был одним из самых выдаюшихся предшественников Дарвина. Существуют, однако, и исключения из подобных представлений о Ламарке. Профессор Принстонского университета Чарльз Джиллиспи пишет:
«...теория эволюции, выдвинутая Ламарком, представляла собой последнюю попытку построить научную теорию на инстинктивном представлении о том, что все в мире находится в движении и что наука должна изучать не конфигурации материи, не классификацию ее форм, а проявления фундаментальной (в онтологическом смысле этого слова) деятельности, к которым не относятся движущиеся тела и виды живых существ»[28].
По мнению Джиллиспи, не случайным является то обстоятельство, что Ламарк выработал систему своих взглядов вскоре после Французской революции. Он убежден в том, что Ламарк принадлежал к тому же радикальному, демократическому и антирационалистическому течению, что и Дидро с Маратом. Эти люди, говорит Джиллиспи, восставали против холодного рационализма ньютонианской науки, пытающейся ответить на вопрос «как?» и делающей при этом акцент на холодном математическом расчете. Они были убеждены в том, продолжает Джиллиспи, что «описывать то или иное явление — это не значит давать его объяснение... Анализ и квантификация того или иного явления были связаны, в их представлении, с изменением его естественных свойств, его природы».
Не требуется обладать достаточно богатым воображением для того, чтобы отнести к числу таких же «романтиков» и Лысенко, чьи побуждения (если не идеи) совпадали с побуждениями Ламарка. Выше уже говорилось о той буквально ненависти, которую питал Лысенко к математике. Кроме того, он, в отличие от Ламарка, работал уже в послереволюционный период. В связи с этим можно привести слова Джиллиспи о том, что «Jardin des Plantes» не случайно оказался единственным процветающим научным институтом во времена радикально-демократической фазы Французской революции, которая уничтожила все остальные[29]. Кто-то может в связи с этим подчеркнуть тот факт, что и взгляды Лысенко процветали в годы после русской революции. Так же как и Ламарк, Лысенко верил в наследование организмом приобретенных признаков, а после того, как он получил «философское образование» под руководством Презента, Лысенко становится, подобно Ламарку, сторонником идеи о постоянном изменении мира. Однако как ни соблазнительно выглядит попытка установить взаимное соответствие между взглядами Ламарка и Лысенко на многие проблемы, все же следует заметить, что это соответствие или похожесть их взглядов не только многое проясняет, но и многое оставляет скрытым, непонятным для исследователя. Во-первых, взгляды самого Ламарка не получают при этой интерпретации достаточно полного объяснения. Известно, что он критически относился к различного рода эксцессам, имевшим место в ходе Французской революции[30]. Хотя некоторые его взгляды и страдали известным анахронизмом, следует подчеркнуть, что другие, особенно относящиеся к проблеме эволюции, по крайней мере частично основывались на научных данных того времени. Ламарк в этом смысле одновременно являлся и предшественником Дарвина, и одним из последних представителей ученых-романтиков; он был интеллектуалом в гораздо большей степени, нежели это можно было бы сказать о Лысенко. Представляется совершенно очевидным, что взгляды Лысенко никогда не будут рассматриваться как предшествующие взглядам какого-то другого ученого-генетика, имеющего подлинно научное значение. Познания Лысенко в области современной ему биологии носили достаточно примитивный характер, в то время как Ламарк обладал достаточно полными и глубокими знаниями того, что было известно науке того времени. Более того, если связывать имена Лысенко и Ламарка, ссылаясь на приверженность того и другого «философии потока» в ее гераклитовском смысле, то что же тогда можно сказать о Г. Дж. Меллере — представителе классической генетики, являющемся страстным оппонентом Лысенко, который был убежденным сторонником философии марксизма? И наконец, Лысенко основывал свою интерпретацию процессов, происходящих в природе, на теории дарвинизма, которую романтики конца XIX в. характеризовали как «бессердечную» и «безжалостную». В результате сказанного можно, как представляется, сделать вывод о том, что, несмотря на известную похожесть Ламарка и Лысенко (как в плане выдвинутых ими систем, так и в плане той исторической ситуации, в которой они жили и работали), между ними существуют вполне реальные различия.
До сих пор речь шла о выдвинутой Лысенко теории «питательных веществ», его концепции наследственности и его взглядах на механизм наследственности. В рамках этой системы взглядов можно найти ответы на многие из вопросов, по поводу которых Лысенко спорил с представителями классической генетики: это и вопрос о генетике скороспелости (genetics of earliness), и вопрос о самоопылении[31], и вопрос о вырождении так называемых чистых линий, об омоложении, вегетативной гибридизации и т. д. До сих пор мы не обращались к тому, что можно было бы, пожалуй, назвать философской составляющей системы Лысенко. Может возникнуть вопрос: каким образом эта система, будучи основана на взглядах людей, не получивших марксистского образования, таких, как Дарвин, Тимирязев, Мичурин и сам Лысенко, оказалась связанной с марксистской философией? Выше уже отмечалось, что дискуссии вокруг генетики представляются имеющими весьма небольшое (по сравнению с другими дискуссиями, о которых речь идет в настоящей книге) отношение к проблемам диалектического материализма. Тем не менее в результате мужественной борьбы и поддержки со стороны небольшого числа особенно ретивых идеологов Лысенко удалось перенести некоторые проблемы генетики в область философии. К числу наиболее важных из этих вопросов относятся: 1) вопрос о подверженности гена мутациям, 2) вопрос о выделении или изоляции генотипа, 3) вопрос о единстве теории и практики в генетике и 4) вопрос о вероятности и причинности в генетике.
Вопрос о подверженности гена мутациям, его мутабильности относился к числу серьезных проблем, привлекавших в начале XX в. внимание многих лучших представителей биологической науки. У исследователя «дела Лысенко» может в связи с этим даже возникнуть искушение сказать о том, что именно в этом вопросе — вопросе о чистоте и целостности гена — Лысенко вплотную подошел к обсуждению подлинно научной проблемы; однако это будет только искушение, а не вынужденное признание объективных обстоятельств, поскольку вопросы, которые ставил и обсуждал Лысенко в связи с этой проблемой, получили уже исчерпывающие ответы в работах, опубликованных за 10-20 лет перед этим. Следует, однако, еще раз отметить, что в самом начале XX в. эта проблема беспокоила многих генетиков.
Вопрос о мутабильности гена имел весьма определенный философский и религиозный смысл, в чем отдавали себе отчет многие ученые того времени, включая и генетиков. Обсуждение этой проблемы велось с позиций двух противоположных (но не обязательно несовместимых) подходов: наследственного и эволюционного. Наследственность рассматривалась как некая консервативная сила, стремящаяся к сохранению общих черт. Эволюция же — как процесс, во многом определяющийся разного рода различиями. И в этом смысле можно было бы говорить о том, что если бы наследственность действовала как следует, то не было бы никакой эволюции[32]. Первых представителей генетики поражала такая характеристика гена (впервые названного в 1909 г. Йохансеном), как его стабильность на протяжении многих поколений. И именно это его свойство рассматривалось как своего рода угроза или вызов представлению здравого смысла (и диалектического материализма) о том, что все изменяется, а также как угроза самой концепции эволюции.
Те, кто интересовался «делом Лысенко», зачастую забывают одно весьма важное обстоятельство (а в Советском Союзе оно попросту игнорируется), а именно то, что некоторые из ученых, явившихся создателями генетики как науки, с большим трудом воспринимали концепцию стабильного гена. Она рассматривалась ими как своего рода реминисценция фиксированного списка видов, который поддерживала в прошлом веке церковь. Взгляды Т. Моргана носили открыто антиклерикальный характер, да и Меллер, как и большинство людей, имеющих научный склад ума (включая марксистов), разделял взгляд о неизбежности изменений[33]. Как пишет по этому поводу еще один из учеников Моргана — А.Г. Стертевант:
«Появляются ли на самом деле новые гены или же генетическое разнообразие является результатом комбинаций уже существующих генов? Этот вопрос всерьез обсуждался, хотя единственной альтернативой мутации генов представлялось создание Богом всех существующих генов»[34].
Однако скептицизм первых генетиков по отношению к концепции стабильного гена был вызван скорее соображениями возможного влияния этой концепции на теорию эволюции, нежели религиозными и философскими соображениями. Как пишет Л. Данн, «идея о том, что элементы наследственности носят стабильный характер и не подвержены флуктуациям, представлялась антипатичной многим биологам. К их числу относились У. Бейтсон, У.Е. Кастл, Т.X. Морган и другие ученые, участвовавшие в создании новой науки. Для биологии XIX в. характерно было растущее убеждение в противоположном — в том, что биологические формы и свойства являлись подверженными неизбежным изменениям. И чем в большей степени тот или иной биолог разделял идеи Дарвина об изменениях как условии эволюции, тем более твердо он отстаивал это убеждение.
Самым характерным примером в этом смысле является У.Е. Кастл, который лишь в результате напряженного пятнадцатилетнего экспериментирования избавился от убеждения в том, что ген не является стабильной структурой»[35].
Лысенко и его последователи не извлекли пользы из этих 15 лет. Не отнеслись они, к сожалению, всерьез и к публикациям классических генетиков, в которых они рассказывали о том, что заставило их изменить свои представления по вопросу о стабильности гена. Вместо этого лысенкоисты, подняв вопрос о мутабильности гена, рассматривали его как свидетельство «идеализма», присущего формальной генетике. И здесь им удалось получить поддержку со стороны теории диалектического материализма, которая, как и философия Гераклита, включала в себя принцип всеобщего изменения. На совещании 1937 г. Презент атаковал Г. Дж. Меллера за его высказывание о том, что «ген настолько стабилен, что период между двумя его последовательными мутациями равен нескольким сотням или даже тысячам лет»[36]. Однако в этом случае Презент боролся с фантомом, поскольку к тому времени природа мутаций уже была довольно хорошо изучена, был также хорошо известен кумулятивный эффект мутаций и его важное значение для эволюционных процессов. Когда речь идет об организме, содержащем тысячи генов, то даже одно изменение в каждом из этих генов, происходящее раз в столетие, может рассматриваться как вполне определенный темп изменений. Концепция биологической эволюции строится на представлении об огромных изменениях, являющихся результатом незначительных вариаций, возникающих через большие временные промежутки. Как отмечал Вавилов, выступая на том же совещании в 1937 г., «ни один из представителей современной генетики и селекционеров не верит в то, что гены не мутируют. Генетика, по существу, и имеет право на существование в качестве науки и является привлекательной для нас именно потому, что это наука об изменениях наследственной природы организмов...»[37].
Становится совершенно ясно то, что относительная стабильность гена не является сколько-нибудь серьезной помехой для диалектического материализма. Темпы изменений, происходящих в природе, могут быть весьма различными; и в этом смысле для человека, страстно желающего увидеть подобные изменения, они кажутся очень медленными, между тем, если их рассматривать в масштабе эпохи, совершенно очевидно, что эти изменения происходят довольно быстро. Как лысенкоисты, так и формальные генетики принимали эволюцию, основанную на воистину удивительных изменениях наследственности, как факт, не требующий доказательств. Модификации, происходящие во внутренней структуре многих камней, протекают гораздо медленнее, нежели биологические изменения, и, однако, никто не предлагает на этом основании рассматривать геологию как недиалектическую науку. Теория диалектического материализма настаивает на том, что все в природе изменяется, однако она не утверждает, что изменения эти должны происходить в определенном темпе.
Вопрос о выделении генотипа в известном смысле похож на вопрос о мутабильности гена. Проблема разделения генотипа и фенотипа получила преувеличенное звучание в работах Вейсмана, однако подобное преувеличение было, возможно, необходимым или, по крайней мере, понятным шагом на пути к тому, чтобы были отброшены старые представления, приписывающие свойство наследственности всем частям тела или организма, а не дискретным единицам внутри него. Огромные изменения в представлениях о наследственности явились результатом осознания биологами всего значения теории зародышевой плазмы. Если раньше носителем наследственности считалось тело или сома, то теперь тело начинает рассматриваться как некая временная оболочка, содержащая внутри себя непрерывные цепочки зародышевых клеток. В связи с этим статус сомы был радикально пересмотрен в сторону понижения.
На ранних этапах дискуссий по поводу зародышевой плазмы особый акцент делался на ее выделении из сомы (под которой понималось тело организма, за исключением зародышевых клеток). До 1927 г., когда Меллером была показана возможность вызвать мутации путем радиоактивного облучения, считалось, что гены не подвержены никаким влияниям со стороны окружающей их среды. Вопрос о проницаемости границы между геном и сомой получил идеологическую нагрузку при его обсуждении в Советском Союзе. Согласно сталинской версии диалектического материализма, в природе не существовало непроходимых барьеров; в Кратком курсе истории Коммунистической партии (опубликованном в 1938 г. и бывшем выражением официальной мысли), который был отредактирован самим Сталиным, говорилось о том, что ни одно явление в природе не может быть понято как изолированное, не имеющее связей с окружающими его другими явлениями[38].
Заявления Лысенко и его последователей по поводу того, что формальная генетика постулирует существование совершенно изолированного генотипа, являлись ошибочными, основанными на устаревших представлениях. Сам Меллер, известный среди генетиков как раз именно тем, что он опроверг наличие этой изолированности, оказался не способным обосновать свои взгляды перед идеологами, которые просто не хотели слушать его доводы. Лысенко продолжал настаивать на том, что менделизм основывается на представлениях, согласно которым «бессмертное наследственное вещество, независимое от качественных особенностей развития живого тела, управляет бренным телом, но не порождается им». Согласно Лысенко, «такова открыто идеалистическая, мистическая в своем существе концепция Вейсмана, выдвинутая им под завесой слов о «неодарвинизме» и продолжающая править современной генетикой»[39].
Хотя к 1927 г. генетики и доказали возможность влияния на ген внешними стимулами, они все же не были еще в состоянии получить путем такого воздействия желаемые изменения[40]. И именно эта невозможность осуществления контроля за вносимыми мутациями и стала одним из главных вопросов идеологической проблемы, связанной с «делом Лысенко», — проблемы единства теории и практики. Мичурин и его последователи всегда подчеркивали, что всякий, кто осуществляет эксперименты с растениями, должен быть сознательным преобразователем природы. Формальные генетики, однако, подчеркивали не только стабильность гена, но также неуправляемый характер его мутаций. Таким образом, у лысенкоистов была возможность представить формальных генетиков в качестве людей, не могущих предложить ничего, что имело бы немедленную пользу для советской экономики; в то же время сами последователи Лысенко, близкие к земле и приверженные делу социалистического сельского хозяйства, представали как люди, постоянно и неустанно работающие во имя усиления Советского государства. В результате этого Лысенко постоянно обращался к представителям теоретической биологии с вопросом: «А что сделали вы за последнее время для советского сельского хозяйства?»[41] Мичурин, Вильямс, Лысенко и их ученики и последователи были среди тех немногочисленных специалистов, которые пытались сделать что-то немедленно для советского сельского хозяйства. Говоря на понятном для крестьян языке, они сумели завоевать на свою сторону многочисленных сторонников, обеспечивавших им сильную поддержку. Справедливым будет и утверждение о том, что и Вавилов также был глубоко привержен делу совершенствования практики сельского хозяйства, однако при этом он не мог избавиться от своего буржуазного происхождения и связанных с этим неудобств и, кроме того, не мог обещать большего, чем мог сделать на самом деле. Вавилов прекрасно понимал, что перед генетиками, пытающимися найти пути к осуществлению контроля над процессами наследственности, стоит еще немало трудностей. Именно в силу этих обстоятельств он оказался вынужденным занять в этом вопросе позицию, которая выглядела менее оптимистичной по сравнению с позицией Лысенко, который буквально фонтанировал словами и не уставал приводить одно и то же высказывание Мичурина:
«С помощью вмешательства человека возможно заставить любую животную или растительную форму изменяться гораздо быстрее и в нужном для человека направлении. Это открывает перед человеком огромное поле деятельности, имеющей для него огромное значение»[42].
Последний в ряду вопросов, получивших идеологическое звучание в связи с «делом Лысенко», был вопрос о вероятности и причинности. Обсуждение этого вопроса в связи с дискуссией вокруг генетики имеет известное сходство с дискуссией по проблемам квантовой механики. Некоторые зарубежные авторы, такие, например, как Эрвин Шрёдингер, утверждали, что ненаправленный характер мутаций, индуцированных радиоактивным облучением организма, связан с принципом индетерминизма в квантовой механике[43]. Некоторые даже выдвигали теорию, согласно которой мутации в организме имеют сходство с квантовым молекулярным скачком[44]. Как отмечают эти исследователи, необходимость подхода к проблемам генетики с точки зрения вероятности объясняется, по существу, теми же самыми причинами, что и необходимость использования статистики вероятностей в квантовой механике. Таким образом, все те вопросы (включая вопрос об «отказе от причинности»), которые возникали в квантовой механике, обсуждались также и в связи с генетикой; в последнем случае к этим проблемам примешивалась еще и обида Лысенко на математику. Выступая на сессии ВАСХНИЛ в 1948 г., Лысенко говорил:
«В общем живая природа представляется морганистам хаосом случайных, разорванных явлений, вне необходимых связей и закономерностей. Кругом господствует случайность. Не будучи в состоянии вскрыть закономерности живой природы, морганисты вынуждены прибегать к теории вероятности и, не понимая конкретного содержания биологических процессов, превращают биологическую науку в голую статистику... На основе такой науки невозможна плановая работа, целеустремленная практика, невозможно научное предвидение... Нам необходимо твердо запомнить, что наука — враг случайностей»[45].
Здесь, думается, нет необходимости подробно останавливаться на анализе тех различных интерпретаций, которые получали понятия «вероятности» и «случайности» в работах советских диалектических материалистов; с основными моментами этого анализа можно будет познакомиться в главе настоящей книги, посвященной проблемам квантовой механики. Хотя проблема детерминизма в квантовой механике по-прежнему сохраняет философски противоречивый характер при ее обсуждении как в Советском Союзе, так и за его пределами, сегодня эта проблема уже не имеет того звучания в биологии, как это было до падения Лысенко[46].
В противоположность распространенным за пределами Советского Союза спекуляциям, следует подчеркнуть, что идея наследования организмом приобретенных признаков получила поддержку в СССР вовсе не из-за ее возможных приложений к человеку. Некоторые исследователи, занимающиеся изучением Советского Союза, исходили из того, что эта теория получила распространение именно в связи с тем, что имела отношение к задаче по «воспитанию нового советского человека». Если советские лидеры поверили бы в то, что приобретенные человеком в ходе его жизни характеристики могут наследоваться, рассуждают эти аналитики, то тогда они бы поверили и в то, что «уникальный советский человек» может появиться очень быстро[47]. То, что подобная интерпретация могла бы иметь важное значение в СССР, представляется вполне предсказуемым явлением, особенно если иметь в виду уверенность Лысенко в том, что одним из достижений мичуринской теории является возможность осуществлять с ее помощью контроль над процессами наследования, а также в том, что менделевский подход к генетике не давал такой возможности. Логическим развитием взглядов Лысенко по этому вопросу явилось бы использование «мичуринской евгеники» в масштабах, намного превосходящих использование формальной генетики в условиях фашистской Германии. Однако подобного не произошло в течение всей жизни Лысенко, хотя дискуссии вокруг евгеники и начали возникать в Советском Союзе в 70-х годах (смотри главы 6 и 7 настоящей книги). Подобные дискуссии в Советском Союзе были невозможны в начале 30-х годов из-за международной ситуации, сложившейся в то время, и оставались таковыми до начала 70-х годов. То обстоятельство, что евгенические взгляды и теории получили распространение в фашистской Германии, сыграло, безусловно, большую роль в дискредитации попыток, предпринимаемых в Советском Союзе, объяснить появление лучших представителей рода человеческого, основанных на биологических теориях[48].
1. Лысенко подчеркивал большое значение того, чем питается организм, особенно в определенные моменты своего роста. Как будет показано в дальнейшем изложении, это обстоятельство было особенно очевидно при проведении им экспериментов, направленных на повышение жирности молока у коров. Его теория питательных веществ была, возможно, связана с убеждением Дарвина в том, что «из всех причин, вызывающих или стимулирующих изменчивость, избыток пищи, наличие которой в природе меняется, является, возможно, самой главной причиной» (цит. по: Hudson and Richens. New Genetics… P. 7).
2. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 34.
3. Purvus O.N. The Physiological Analysis of Vernalization // Encyclopedia of Plant Physiology. 16: 76-117, Berlin, 1961.
4. Связь между яровизацией и наследственностью ясно раскрывается в следующих словах Лысенко: «и...при яровизации посевного материала или растений идет нарастание изменений. Эти изменения сохраняются в тех клетках, в которых они произошли, а также передаются всем вновь образующимся из них клеткам» (Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 42).
5. Лысенко был уверен в том, что ему удастся вывести новые сорта, обладающие заранее заданными свойствами, в течение двух-трех лет. В соответствии со своей теорией он отбрасывал сотни разновидностей даже без проведения их испытаний. Он писал: «...терять один-два года на стадийный анализ в тех случаях, когда мы без него можем уже обойтись, мы не имеем ни юридического, ни морального права» (Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 125).
6. Там же. С. 70.
7. Под «генотипом» имеется в виду совокупность генов, полученных индивидом путем наследования. «Фенотип» — это совокупность физических и поведенческих свойств, проявляемых индивидом и являющихся результатом взаимодействия между генотипом и средой.
8. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 438. Отметим также и замечание Лысенко относительно того, что «качественно измененное от условий жизни живое тело всегда имеет измененную наследственность. Но далеко не всегда качественно измененные участки тела организма могут вступать в нормальный обмен веществ с целым рядом других участков тела, и благодаря этому эти изменения не всегда могут фиксироваться в половых клетках» (там же. С. 449).
9. Там же. С. 432.
10. Там же. С. 436.
11. В работах Лысенко, посвященных гену, нет ясности. В одном месте он говорит: «…мы отрицаем то, что генетики вместе с цитологами увидят под микроскопом ген... Наследственная основа не является каким-то особым от тела, саморазмножающимся веществом, наследственной основой является клетка». В то же время Лысенко пишет: «Не прав также акад. Серебровский, утверждая, что Лысенко отрицает существование генов. Ни Лысенко, ни Презент никогда существования генов не отрицали. Мы отрицаем то понятие, которое вы вкладываете в слово «ген» (Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 193, 195). Лысенко признавал факт существования хромосом.
12. Под «желательными» условиями понимались условия тех областей страны, где Советское правительство хотело выращивать определенные виды растений. Так, скажем, условия севера России были «нежелательными» для сельского хозяйства в абсолютном смысле, однако правительство, по вполне понятным причинам, хотело, чтобы были выведены такие сорта сельскохозяйственных культур, которые можно было бы выращивать и в этих условиях.
13. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 456.
14. Эрик Норденскёльд (E. Nordenskiold) в своей старой (1935 г.), но все еще сохраняющей свое значение книге «История биологии» так пишет о дарвиновской теории пангенезиса: «Здесь, как, впрочем, и в некоторых других вопросах, Дарвин выступает в качестве натурфилософа, а не естествоиспытателя». Это высказывание, являющееся типичным образцом высказываний, сделанных в свое время сторонниками индуктивистского подхода к истории науки, представляется исключительно важным; гениальность Дарвина в большой степени заключается в его готовности не только построить такую систему, которая отчасти носила бы спекулятивный характер, но в то же время в готовности постоянно проверять эту систему на ее соответствие эмпирическим данным. Хорошо было бы, если бы и Лысенко проявлял такую же готовность к самодисциплине. Если бы это было так, то сегодня, возможно, его имя было бы известно лишь немногим специалистам в области яровизации. О проблемах индуктивистского подхода к истории науки смотри в: Agassi J. Towards an Historiography of Science // History and Theory: Studies in the Philosophy of History Series. Beiheft 2. The Hague, 1963. Р. 1-31. Замечу, однако, что в этой работе Агасси демонстрирует слишком упрощенный взгляд на марксистскую интерпретацию истории науки.
15. См.: Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 474-482.
16. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 470.
17. В подтверждение этого взгляда Лысенко ссылается на убеждение Мичурина в том, что «чем дальше отстоят между собой пары скрещиваемых растений-производителей по месту их родины и условиям их среды, тем легче приспособляются к условиям среды в новой местности гибридные сеянцы» (цит. по: Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 72). Будучи применимы к человеку, эти взгляды, разумеется, могли бы служить сильным аргументом в пользу смешения рас. Однако ни в одной из своих работ Лысенко не распространяет свои выводы на человека.
18. Hudson P.S., Richens R.N. The New Genetics... Р. 48.
19. Дарвин, подобно многим биологам и селекционерам XIX столетия, верил в возможность осуществления истинной вегетативной гибридизации. В свою очередь Л. Бербанк, который, как и Лысенко, не отличался точностью при регистрации фактов, выдвинул экспериментальную теорию «саповой гибридизации», во многом схожей с вегетативной гибридизацией. Мичуринская «теория менторов» постулировала влияние привоя на подвой.
20. Популярное изложение проблем «слитного наследования» содержится в: Sinnot E.W., Dunn L.C., Dobzhansky Th. Principles of Genetics. N.Y., 1950. Р. 97ff, 121ff.
21. Hudson P.S., Richens R.N. The New Genetics... Р. 42-43.
22. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 549.
23. Dunn L.C. A Short History of Genetics. N.Y., 1965. Р. X.
24. Поскольку Дарвин в своих работах подчеркивал большое значение как естественного отбора, так и наследования приобретенных признаков, постольку и неоменделисты, и мичуринцы могли называть себя дарвинистами.
25. Многие авторы приписывают Ламарку виталистический взгляд на природу. Между тем вопрос этот не так прост; как отмечает Ч. Джиллиспи, «выдвигаемая им дихотомия органической и неорганической природы не оставляла места для впадения в трансцендентализм, а именно последний являлся всегда своеобразной дверью, посредством которой виталисты ускользали из области науки в область тайн. В представлении Ламарка, жизнь — это чисто физическое явление, и именно благодаря тому, что наука (совершенно правильно) оставила далеко позади его понятия о физическом, взгляды Ламарка систематически представлялись в неверном свете, их пытались ассимилировать с теистской или виталистической традицией, к которой сам Ламарк в действительности относился с отвращением» (Gillispie. Ch.C. The Edge of Objectivity. Princeton. 1960. Р. 276).
26. Выступая на совещании 1948 г., В.А. Шаумян утверждал, что доение коров должно влиять на их наследственность: «Может ли этот сильный фактор действия, прикладываемого к вымени из поколения в поколение на протяжении многих лет, остаться без результата? Мы считаем, что процесс доения имеет не меньшее значение, чем процесс кормления, поскольку процесс доения является одним из важнейших методов и средств воздействия на молочную корову». Подобный взгляд представляет собой, безусловно, ламаркизм в чистом виде, поскольку основывается на представлении об эффекте использования того или иного органа и напоминает известное описание роста шеи у жирафа, которое давал в свое время Ламарк (Zirkle, ed. Death of a Science in Russia. Р. 148). С другой стороны, сам Лысенко пишет о том, что, «исходя из позиции ламаркизма, в работе не может получиться положительный результат. Если же нам путем соответствующего воспитания растений уже удается направленно переделывать их природу наследственности, то это говорит уже за то, что мы не ламаркисты и исходим не из ламаркистских позиций» (Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 182-183). Презент в свою очередь был еще более откровенен в этом вопросе. Однако в другом месте Лысенко отзывается о Ламарке с большей доброжелательностью: «К слову заметим, что морганисты зря так сильно пугают людей ламаркизмом. Ламарк был умным человеком. Но его учение, конечно, нельзя поставить по своему значению рядом с дарвинизмом. В учении Ламарка есть серьезные ошибки. Но в свое время в биологии более передового ученого, чем Ламарк, не было» (там же. С. 333).
27. См., напр.: Полянский В.И., Полянский Ю.И. Современные проблемы эволюционной теории. Л., 1967. С. 5 и далее.
28. Gillispie Ch.C. «Lamark and Darwin in the History of Science» X. Forerunnes of Darwin: 1745-1859. Baltimore. 1959. Р. 268-269.
29. Gillispie Ch.C. Op. cit. P.277.
30. Nordensiold E. The History of Biology. N.Y., 1935. P. 324.
31. Вопрос об опылении заслуживает более подробного комментария, поскольку является одним из наиболее противоречивых в работах Лысенко. Он был убежден в том, что зародышевые клетки растений сами выбирают определенные зерна пыльцы (одну из форм питательных веществ), оплодотворение которыми приведет к лучшей адаптации потомства к местным условиям. В одном месте, описывая эти процессы, Лысенко даже использует выражение «брак по любви». В уже упоминавшейся книге Хадсон и Риченс пытаются показать, что подобные взгляды вовсе не нуждаются для своего обоснования в столь грубо антропоморфном выражении (Hudson and Richens. New Genetics. Р. 38). Они пишут о том, что даже тогда, когда растение выращивается в условиях, к которым оно не было приспособлено, «вовсе не обязательно, чтобы в процессе естественного отбора его сила настолько повышалась, что любому отклонению от нормы во внешних условиях соответствовало бы изменение в выборе растением питательных средств, которые оно использует в любом периоде своего жизненного цикла». Я нахожу эту фразу весьма сомнительной и считаю, что ее можно усовершенствовать, заменив слова «любому отклонению от нормы» на «некоторым отклонениям» (тем, с которыми растению приходилось сталкиваться в прошлом и которые были преодолены), а слова «в любом периоде своего жизненного цикла» — на слова «в любом периоде жизненного цикла, предшествующем или совпадающем с периодом плодоношения». Позднее Лысенко отказался от выражения «брак по любви» и критиковал использование антропоморфных понятий в биологии. Концепция опыления, выдвинутая Лысенко, связана с идеей Дарвина о «препотенции пыльцы», то есть ее способности стойко передавать свои признаки потомству. Иллюстрацией консервативных взглядов, возникших позднее у Лысенко по этому вопросу, может служить следующая фраза из его работы «Теоретические основы направленного изменения наследственности сельскохозяйственных растений»: «целеполагание присуще сознанию и отсутствует в природе».
32. Dobzhansky Th. The Biological Basis of Human Freedom. P. 10.
33. Dunn L.C. Short History of Genetics. P. 115. О довольно рано проявившихся симпатиях Меллера к диалектическому материализму уже говорилось выше.
34. Sturtevanl. A.H. A History of Genetics. P. 67.
35. Dunn L.C. A Short History of Genetics. P. 215.
36. Спорные вопросы генетики и селекции... С. 131.
37. Там же. С. 137.
38. См.: История ВКП(б). Краткий курс. С. 101. Те же самые слова были использованы и в ходе критики тех физиков, которые подчеркивали наличие границы между явлениями микро- и макромира (см. с. 331).
39. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 550.
40. Как пишет об этом Добжанский, «мутации... являются изменениями, индуцируемыми в конечном итоге окружающей средой, однако свойства мутанта зависят от природы гена, который осуществляет изменение, а не от агента внешней среды, который действует скорее как некий пусковой механизм, дающий толчок процессу изменения» (Dobzhansky Th. The Biological Basis of Human Freedom. Р. 19).
41. Лысенко писал: «Мне кажется, что вся острота вопроса заключает он вовсе не в том, чтобы доказывать, что Лысенко прав или не прав, а в том, чтобы найти пути, указывающие нам наилучшую, наикратчайшую дорогу для достижения намеченной селекционером цели, а именно выведение лучших сортов в кратчайший срок. Всякое выдвигаемое теоретическое положение, которое будет помогать практике, будет и наиболее полезным и, конечно, наиболее верным в сравнении с другим теоретическим положением, не дающим ни в настоящее время, ни в ближайшем будущем указаний непосредственных или опосредствованных к практическому действию в нашем социалистическом сельском хозяйстве» (Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 126).
42. Цит. по: Лысенко Т.Д. Избр. соч. Т. 2. С. 6. В своей речи при открытии в 1937 г. совещания по генетике А.И. Муралов, бывший тогда президентом ВАСХНИЛ и считавшийся нейтральным, также подчеркивал необходимость связи теории и практики: «О чем необходимо помнить участникам сегодняшней дискуссии по проблемам генетики и селекции? Они должны помнить прежде всего о той помощи, которую должна оказывать наука социалистическому производству, вооружая его научной теорией» (Спорные вопросы... С. 5). Лысенко в свою очередь заставил даже своих оппонентов желать ему успеха, заявив следующее: «Мне кажется, что если выдвинутые, уточняемые и развиваемые нами положения окажутся неправильными в своей основе, то об этом должен жалеть не только я со своим коллективом, но и все те, кто возражает против этих положений; ведь этим самым мы лишились бы действенного способа выведения новых сортов» (Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 126).
43. Шрёдингер писал о том, что физики «будут склонны назвать теорию мутаций де Фриза (de Vries), фигурально выражаясь, квантовой теорией биологии. В дальнейшем мы увидим, что это нечто большее, нежели просто образное выражение. Мутации на самом деле происходят благодаря квантовому скачку, происходящему на молекулярном уровне гена. Однако квантовая теория уже существовала два года к тому времени, как в 1902 г. де Фриз впервые опубликовал свое открытие. Что же удивляться тому, что лишь следующее поколение ученых обнаружило связь между этими теориями!» (Schrodinger E. What Is Life? Other Scientific Essays. Р. 5). Эта часть книги Шрёдингера основана на материале его лекций, прочитанных в Дублинском университете в феврале 1943 г.
44. Этот же самый вопрос рассматривается в диссертации консервативного, но в то же время интеллигентного выпускника философского факультета из СССР. См.: Пинтер Ф. Актуальные вопросы взаимоотношения марксистской философии и генетики. Диссертация. МГУ, 1965.
45. Лысенко Т.Д. Агробиология. С. 579.
46. В рецензии, опубликованной в «Правде» (24 января 1965 г.), И.Л. Кнунянц, Б.М. Кедров и Л.Я. Бляхер пишут: «Хорошо известно, что в конце сороковых годов была провозглашена формула «наука — враг случайностей». Эта формула неправильна, она основана на смешении совершенно различных понятий случайности. Она, как известно, принесла немало вреда для науки и для практики, но открыто от нее ее авторы нигде не отказались, и она до сих пор фигурирует как составная часть «мичуринского учения», хотя она не имеет никакого отношения к взглядам самого Мичурина». В 1957 г. с критикой взглядов Лысенко на проблему случайности выступил А.Л. Тахтаджян. Он писал: «С точки зрения механистического материала статистические законы представляют собой лишь временное состояние нашего знания. В действительности не статистические законы являются столь же объективными законами природы, как и любой другой закон природы» (см.: Ботанический журнал. 1957. № 4. С. 596).
47. В этом случае уместно вспомнить пословицу о палке, всегда имеющей два конца. Если исходить из теории наследования приобретенных признаков, то, наверное, создание «нового человека» и может показаться возможным, но в то же время может оказаться возможной и расистская позиция или даже вера в превосходство аристократии. Как пишет Джулиан Хаксли, «к счастью для человека, приобретаемые им в течение жизни признаки не накладывают отпечаток на его наследственную конституцию. Если бы это было не так, то тогда ужасающие условия, в которых жило большинство человечества на протяжении тысячелетий, наложили бы свой гибельный отпечаток на всю человеческую расу» (Huxley J. Heredity East and West. Р. 138). Разумеется, любая серьезная дискуссия по поводу приложения к человеку гипотетической возможности наследования приобретенных признаков будет связана с обсуждением временного аспекта: вопросов о числе поколений, необходимых для наследственного закрепления новых черт, а также о числе поколений, необходимых для их стирания.
48. Анализ дискуссий по проблемам евгеники, имевших место в Советском Союзе в 20-е годы, содержится в моей книге «Between Science and Values». Р. 239-256. Еще в 1958 г., говоря о выдающемся советском генетике Н.К. Кольцове (1872-1940), чье имя связывалось в 20-е годы с евгеническими взглядами, «Правда» характеризовала его следующим образом: «оголтелый реакционер, известный своей бредовой теорией, проповедовавшей «улучшение человеческой породы» (Правда. 1958. 14 декабря). И все же именно соображения «улучшения человеческой природы» рассматривались некоторыми исследователями в качестве основной причины, приведшей к возникновению «дела Лысенко» в целом. Как отмечает Джон Лэнгдон-Дэвис, споры вокруг этого «дела» возникли из-за того, что «существовал предел, до которого планировщики из СССР могли изменять окружающую среду, с тем чтобы, как они ожидали, изменить к лучшему природу самого человека» (Langdon-Davies J. Russia Puts the Clock Back. Р. 58-59).
Лысенкоизм после 1948 г.
История лысенкоизма после знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 г. — это по преимуществу история попыток сместить Лысенко с «поста тирана», предпринимаемых биологами, и одновременно история умелого смещения акцентов, предпринимаемых самим Лысенко в его деятельности: от гнездовых посадок деревьев к использованию особых смесей в качестве удобрения, к квадратногнездовому способу посадки кукурузы, а затем к разработке методов выведения пород коров, дающих высокие надои молока повышенной жирности и т. д. В 50-х годах бывали периоды, когда критика деятельности Лысенко достигала таких масштабов, что, казалось, гибель его неизбежна, однако всякий раз от окончательного разгрома его спасали высокопоставленные покровители. Кроме того, всякий раз Лысенко приходили на помощь его способности заискивать, извлекать пользу из той или иной политической ситуации, эластичность его взглядов и убеждений. К тому времени он располагал также поддержкой со стороны многочисленных своих последователей, представляющих образовательные и сельскохозяйственные ведомства, людей, чьи карьеры и судьбы неразрывно были связаны с судьбой самого Лысенко и его школы.
После 1948 г. еще одна новая попытка Лысенко удержаться «наверху» была связана с осуществлением грандиозного плана посадок лесозащитных полос, выдвинутого Сталиным в целях борьбы с эрозией почв и суховеями в степных районах Советского Союза. Этот план, названный планом «преобразования природы», был принят в октябре 1948 г. Согласно этому плану, в 1948-1949 гг. предусматривалось посадить восемь огромных лесополос общей длиной 5 320 километров и площадью 117900 гектаров[1]. Области, в которых планировались эти лесопосадки, были исключительно засушливыми и непригодными для выращивания деревьев; по словам тогдашнего министра лесного хозяйства, история лесоводства еще не знала примеров посадки лесов в подобных условиях[2].
Лысенко предложил сажать деревья гнездовым способом, исходя из теории о том, что в органической природе соревнование существует только между различными видами, а не внутри самого вида[3]. Ранее он предлагал гнездовой способ посадки и для других растений[4]. Лысенко был убежден в том, что в природе жизнедеятельность каждого индивида того или иного вида подчинена благосостоянию вида в целом. Он утверждал также, что, хотя внутривидового соревнования не существует, в природе идет интенсивный процесс соревнования между представителями различных видов одного и того же ботанического или зоологического рода. Таким образом, считал Лысенко, численное преимущество представителей одного вида помогает им одержать победу над представителями другого вида. Эта позиция была похожа на концепцию «взаимопомощи», разделявшуюся Кропоткиным, Чернышевским и некоторыми другими мыслителями XIХ в., которые рассматривали принцип выживания наиболее приспособленных как «отвратительный» и надеялись заменить его принципом сотрудничества[5].
Как можно судить на основании всех доступных свидетельств, план посадки защитных полос провалился. Вскоре после смерти Сталина в 1953 г. обсуждение этого проекта исчезает со страниц публикаций, выходящих в СССР. Взгляд, согласно которому не существует внутривидового соревнования, представляется настолько очевидно ошибочным, что вряд ли его необходимо подробно обсуждать. Любой, кто наблюдал за процессом редения леса или других густо посаженных растений, может дать красочное и наглядное свидетельство в пользу существования внутривидового соревнования за пищу, воду и свет. В данном случае слово «соревнование» не следует понимать в антропоморфном смысле, не следует, разумеется, этого делать и тогда, когда речь идет о межвидовом соревновании. Лысенко сам признавал существование такого явления, как редение густых посадок, однако отказывался назвать это соревнованием[6]. Существование внутривидового соревнования вовсе не отрицает сотрудничества, примеры которого также могут быть обнаружены в природе.
Окончательная судьба плана лесонасаждений была прояснена в статье, которая появилась в 1955 г. в одном из советских биологических журналов: «Т.Д. Лысенко, утверждающий отсутствие в органической природе внутривидового соревнования, предложил гнездовой метод посадки деревьев. В.Я. Колданов обобщил результаты пятилетнего использования этого метода и показал, что он являлся ошибочным. Этот метод принес огромные потери государству и поставил под сомнение саму идею об использовании лесопосадок в целях борьбы с эрозией почв. В ходе Всесоюзной конференции, состоявшейся в Москве в ноябре 1954 г., метод Т.Д. Лысенко был полностью опровергнут»[7].
Хотя часто можно услышать о том, что после 1948 г. серьезная критика Лысенко стала возможной только после смерти Сталина, последовавшей 5 марта 1953 г., необходимо все же отметить, что незадолго до смерти советского лидера такая критика появилась на страницах советских изданий. Начиная с конца 1952 г. на страницах «Ботанического журнала» и «Бюллетеня московского общества испытателей природы» (оба издания выходили в то время под редакцией В.Н. Сукачева) публикуются материалы дискуссии о взглядах Лысенко, в которых можно было столкнуться как с поддержкой Лысенко, так и с его критикой[8]. В конце концов дискуссия выплеснулась на страницы других журналов и даже газет. Думается, что то обстоятельство, что оба упомянутых издания (явившихся инициаторами дискуссии и критики) представляли собой печатные органы соответствующих научных обществ, было не просто случайным совпадением, поскольку именно этим и подобным им научным обществам, формируемым из частных лиц на основе принципа добровольности, еще удавалось, в отличие от официальных советских научных организаций и учреждений, сохранять хотя бы чувство независимости[9].
В частности, «Ботаническим журналом» было организовано довольно основательное обсуждение взглядов Лысенко на проблемы видообразования и детальное изучение нескольких примеров, выдаваемых его последователями за случаи «превращения» видов. В статье А.А. Рухкьяна (Rukhkian), опубликованной в ноябрьско-декабрьском выпуске журнала за 1953 г., было показано, что случай превращения граба в лещину, о котором С.К. Карапетяном был опубликован отчет в журнале «Агробиология» (1952 г.) в издании Армянской академии наук, был просто обманом. На самом деле ветка граба, который, как сообщал Карапетян, «превратился» в лещину, была просто привита в месте разветвления того же граба; Рухкьяну удалось даже «раскопать» человека, который, по его собственному признанию, и осуществил эту прививку в 1923 г. В тексте статьи были опубликованы также и фотографии, ясно показывающие, что это действительно была прививка. В результате этой публикации у Лысенко был «отнят» один из важных примеров, на который он ссылался как на свидетельство справедливости своих взглядов, что явилось сильным ударом по позициям Лысенко. Его честность ставилась под вопрос со всей определенностью. В редакционной статье указывалось на убеждение в том, что и другие случаи «превращения» видов, на которые ссылался Лысенко и его последователи, могут быть легко объяснены на основе методов селекции, прививки растений или как результат повреждений благодаря грибковым заболеваниям (как результат тератологических изменений).
Это было только начало широкой волны критики взглядов и деятельности Лысенко. В течение следующих двух лет редакцией «Ботанического журнала» было получено более 50 рукописей, в которых анализировались различные утверждения Лысенко и которые не могли быть опубликованы просто из-за нехватки места на страницах журнала[10]. В статье В.Н. Сукачева и Н.Д. Иванова высмеивалась вера Лысенко и одного из его защитников — философа А.А. Рубашевского в то, что внутривидового соревнования не существует[11]. Специальная комиссия Латвийской академии наук, занимавшаяся изучением еще одного примера «превращения» видов — сосны с еловыми ветками, росшей недалеко от Риги, — пришла к заключению о том, что, как и в случае с грабом, речь идет о привитом растении[12]. С.С. Хохлов и В.В. Скрипчинский исследуют заявления Лысенко по поводу «превращения» яровой пшеницы в озимую и пшеницы мягких сортов — в твердую. Хохлов приходит к выводу о том, что «порождение» мягкой пшеницы из твердой было на самом деле результатом гибридизации и селекции[13]. Скрипчинский пришел к аналогичным выводам и пошел дальше, поставив под сомнение концепцию наследования приобретенных признаков[14]. И.И. Пузанов обвиняет Лысенко за то, что тот не только не способствовал развитию взглядов, распространенных в биологии в конце XIX в., но и был, по существу, сторонником «наивных трансформистских убеждений, которые были распространены в античности и средневековье и частично сохранились еще и в первой половине XIX в»[15]. С.С. Шелковников утверждал, что аргументы Лысенко, направленные против мальтузианства и внутривидового соревнования, «основывались на приравнивании законов развития в природе к законам развития общества, что давно уже было осуждено марксизмом»[16]. В отчете о пребывании советской делегации работников сельского хозяйства в США и Канаде, опубликованном в газете «Известия», один из членов делегации — Б. Соколов восторженно отзывается о гибридах кукурузы, полученных методами, которые в прошлом осуждал Лысенко[17].
Во всех этих критических выступлениях сквозила надежда и требование большей свободы в науке. Авторы статьи, опубликованной в то время в «Литературной газете», отмечают, что «ситуация, сложившаяся в таких областях науки, как генетика и агрономия, должна рассматриваться как ненормальная»[18]. Они призвали к сосуществованию в науке различных школ и направлений. Два других автора в статье, опубликованной «Журналом общей биологии», пишут: «Время подавления критики в биологии прошло...»[19] Итоги дискуссии, посвященной взглядам Лысенко на проблему видообразования, были подведены в редакционной статье «Дискуссии: расширять и углублять творческую дискуссию по проблеме вида и видообразования», опубликованной в «Ботаническом журнале»; в ней, в частности, говорилось о том, что состоявшаяся дискуссия «продемонстрировала несоответствие концепции Лысенко фактам, ее теоретическую и методологическую ошибочность, а также то, что она лишена практического значения». Более того, в статье отмечалось отсутствие «хотя бы одного строго научного аргумента, выдвинутого в ходе дискуссии в поддержку взглядов Т.Д. Лысенко...»[20]. Абсолютно безобидной заменой Лысенко на месте идола советского сельского хозяйства мог бы, наверное, стать опытный полевод Т.С. Мальцев[21].
Впоследствии советский биолог Ж. Медведев напишет о том, что в конце 1955 г. более 300 человек подписали обращение с просьбой об отставке Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ[22]. В 1956-1957 гг. поток критики в адрес Лысенко существенно возрос, и многим казалось тогда, что его уже нельзя будет приостановить и повернуть вспять. И когда в апреле 1956 г. Лысенко оставил пост президента ВАСХНИЛ, то газеты всего мира приветствовали это (хотя и запоздалое) низвержение шарлатана от биологии.
Однако, несмотря на то что это может показаться поразительным и не объяснимым, этот «Феникс» вновь возродился из пепла, с тем чтобы приносить вред советской биологии в течении еще восьми лет. Этот феномен способен вызвать даже еще большее удивление, нежели сам факт первоначального восхождения Лысенко. В 50-х годах Советский Союз уже представлял собой вполне развитое государство, располагающее учеными и специалистами в самых различных областях науки и техники; это были не 30-е годы, отмеченные борьбой за повышение производства угля, стали и зерна. Достаточно вспомнить, что в том же самом году, когда начался новый взлет Лысенко, в Советском Союзе был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
«Возрождение» Лысенко в конце 50-х годов представляется многим результатом личного расположения к нему Никиты Хрущева, которого наш агроном усиленно «обхаживал». Лысенко весьма искусно маневрировал с целью хотя бы на шаг, но опережать своих критиков. В то время как его взгляды на проблему видообразования были опровергнуты в результате дискуссии на страницах биологических журналов, он уже переключился на «проталкивание» своей идеи об использовании в качестве удобрения неких «органо-минеральных смесей»[23]. Советская промышленность не могла в силу своей недостаточной развитости обеспечить сельское хозяйство страны необходимым количеством минеральных удобрений, несмотря на предпринятые в 50-х годах усилия в этом направлении. В этот-то момент Лысенко и выдвигает свой план использования смеси из искусственных и естественных удобрений с целью увеличения продолжительности использования имеющихся запасов удобрений. Этот план, не имеющий, разумеется, никакого теоретического значения для биологии, обладал известной привлекательностью в глазах такого практического человека, каким был Хрущев. Лысенко применил этот метод в возглавляемом им хозяйстве в Горках Ленинских, расположенном недалеко от Москвы. Сегодня благодаря тщательному исследованию, предпринятому Академией наук в 1965 г., мы можем с уверенностью сказать, что в большой степени тот известный успех использования новых удобрений, который был тогда достигнут, объяснялся на самом деле не преимуществами нового вида удобрений, а тем привилегированным положением, которое хозяйство Лысенко имело по сравнению с другими подобными хозяйствами. Будучи расположено вблизи столицы, хозяйство Лысенко благодаря поддержке со стороны его последователей из числа столичных бюрократов от сельского хозяйства имело возможность получать все самое лучшее, включая технику, удобрения и другие виды снабжения. Привилегированное положение хозяйства в соединении с бесспорным талантом Лысенко как агронома-практика и привело к тому, что по продуктивности это хозяйство было в числе самых передовых в области.
В 1954 г. экспериментальное хозяйство Лысенко в Горках Ленинских посетил Хрущев; спустя некоторое время в одной из своих речей он рассказывал об этом визите в присущей ему красочной манере: «...три года назад я был в Горках Ленинских. Тов. Лысенко показывал мне поля, на которых были заложены опыты с органо-минеральными смесями. Мы много ходили по полям... Почему же некоторые ученые возражают против метода, предложенного Т.Д. Лысенко? Я не знаю, в чем дело. Я считаю, теоретические и научные споры следует решать на полях»[24].
В лице Хрущева Лысенко нашел нового покровителя и защитника, представлявшего высшее партийное и правительственное руководство, и в свою очередь выступил с поддержкой политики Хрущева в области сельского хозяйства. В мае 1957 г., когда Хрущев призвал перегнать США по производству мяса и молока на душу населения, попытки Лысенко втереться в доверие к лидеру партии получают новый импульс; в июле того же года Лысенко объявляет о грандиозном плане повышения удоев молока, разработанном в его хозяйстве в Горках Ленинских[25]. Как выяснилось в дальнейшем, этому проекту было суждено стать последней из числа многочисленных уловок Лысенко, окончившейся крахом не только для него лично, но в данном случае пагубно сказавшейся и на состоянии молочной промышленности в СССР.
В результате успешных попыток, направленных на завоевание расположения Хрущева, в конце 1958 г. Лысенко вновь обретает силу. 29 сентября 1958 г. в «Правде» публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Лысенко орденом Ленина в ознаменование его заслуг в деле развития сельскохозяйственной науки и практики, а также в связи с шестидесятилетием со дня его рождения. В материале, опубликованном «Правдой» 14 декабря, содержится панегирик Лысенко и критика «Ботанического журнала» и «Бюллетеня Московского общества испытателей природы» за публикацию статей, направленных против Лысенко. В 1961 г. Лысенко вновь становится президентом ВАСХНИЛ[26]. Вновь борьба против Лысенко оканчивается неудачей. Живучесть «лысенкоизма» представляется неправдоподобной, причем не только зарубежным наблюдателям, но и многим обескураженным этим обстоятельством советским биологам.
В 50-е и начале 60-х годов генетические исследования велись в СССР с использованием различного рода хитростей и уверток. Эти исследования, в частности, велись под «прикрытием» со стороны таких выдающихся (и в то же время имеющих влияние) физиков, как И.В. Курчатов (1903-1960), которые имели возможность помогать исследованиям по генетике. В связи с тем, что в их институтах проводились работы с использованием радиоактивных материалов, что заставляло задумываться об их влиянии на процесс возникновения мутаций в генах. Позднее значительную роль в возрождении полномасштабных исследований по генетике сыграли такие научные центры, как Институт теоретической физики и Институт биофизики.
Помимо того, что в качестве своеобразного «прикрытия» генетика использовала престиж и авторитет известных ученых, она могла пользоваться для этого и названиями новых, имеющих известную притягательность направлений в науке. Одним из наиболее удивительных в этом отношении примеров сочетания подлинной научности и искусной хитрости является (связь кибернетики и генетики, существовавшая в период с 1958 по 1965 г.[27]. В отдельной главе этой работы, посвященной кибернетике, я останавливаюсь несколько подробнее на причинах бурного развития кибернетики в СССР после 1958 г. Идея связи генетики и кибернетики претворялась в жизнь теми советскими учеными, которые страстно стремились преодолеть влияние лысенкоизма в науке. Выступая под именем кибернетики, генетика получила доступ к издательствам, проникала в институты и становилась предметом научных дискуссий.
Следует отметить, что о наличии связей между генетическим кодом и теорией информации довольно давно говорилось как в Советском Союзе, так и за его рубежом. Еще в 1944 г. в своей небольшой работе, озаглавленной «Что есть жизнь?», Эрвин Шрёдингер говорил о том, что жизнь — это борьба организма с распадом (максимальной энтропией) путем поглощения информации (негативной энтропии) из окружающей среды[28]. Гены, которые Шрёдингер называл «периодическими кристаллами») описывались им как некие центры, хранящие негативную энтропию — информацию[29]. Такое описание давало возможность анализировать проблемы генетики с точки зрения теории информации и кибернетики.
После того как в 1958 г. в Советском Союзе начался «кибернетический бум», в печати стали появляться статьи и книги по генетике, в которых использовалась кибернетическая терминология. Среди авторов этих работ были такие выдающиеся генетики, как И.И. Шмальгаузен и Н.В. Тимофеев-Рессовский, пострадавшие от «лысенкоизма», а также А.А. Ляпунов, Ж.А. Медведев и К.С. Тринчер[30]. В статье, написанной вместе с А.Г. Маленковым, Ляпунов критиковал положения «мичуринской биологии» с позиций кибернетики и определял ген в качестве «частицы и одновременно материального носителя наследственной информации»[31]. В самом первом номере теоретического журнала «Вопросы кибернетики» его первый редактор Ляпунов писал о том, что генетика представляет собой «еще один пример того, как биология сталкивается с исследованием систем управления».
В начале 60-х годов, как уже отмечалось выше, основные надежды Лысенко на сохранение господства в области сельскохозяйственной науки были связаны с выдвинутым им проектом повышения продуктивности молочного производства. Для этого Лысенко предлагал использовать метод скрещивания различных пород, для чего, в частности, чистопородных «джерсийских» быков, приобретаемых по высоким ценам в Западной Европе, скрещивали с коровами восточнофризской, холмогорской и костромской пород.
Этот метод был известен давно, но его использование было связано с известным риском. Целью такого скрещивания было, разумеется, получение потомства, обладающего лучшими свойствами пород обоих родителей. Джерсийская порода была известна высокой жирностью молока (как правило, 5-6%), что явилось результатом тщательной работы с этой породой на протяжении более чем 250 лет; вместе с тем средние надои у коров этой породы были значительно меньшими, нежели у многих других пород. Таким образом, логичным было бы скрещивание джерсийской породы с породой, отличающейся большими надоями, такой, например, как голштино-фризская. Риск, связанный с этим методом, заключался в возможной утрате контроля и вследствие этого ухудшении характеристик потомства. Другими словами, использование этого метода требовало искусства; использующий его должен быть хорошим специалистом, разбирающимся в генетике, и тогда этот метод мог принести желаемые результаты. Искусственное осеменение существенно улучшало возможности такого метода скрещивания. Ключом к успеху в этой области являлся тщательный контроль. Если происходило скрещивание представителя чистопородной линии с представителем, родословная которого была неизвестна, то их потомство могло обладать ценными индивидуальными качествами (как, например, удойность), но ценность этого потомства с точки зрения улучшения породы оказывается весьма низкой; если это потомство используется затем в целях его разведения, то это быстро снижает породистость всего стада. Более того, некоторые наиболее важные свойства молочных коров могут оказаться результатом «слитной наследственности», то есть могут быть связаны с генами обоих родителей, а потому, например, скрещивание быка породы, коровы которой дают молоко повышенной жирности, с коровой, представляющей породу с низкими показателями жирности молока, обычно приводит к тому, что их потомство дает молоко средней жирности. Последующее скрещивание такого потомства с представителями тех линий, жирность молока у которых является низкой, приводит к постепенному снижению жирности молока у представителей последующих поколений до тех пор, пока признаки одного из родителей, представлявшего породу с высокими показателями жирности молока, не исчезнут совсем. Отсутствие доминантности некоторых особенно ценных признаков существенно затрудняет работу специалистов, занимающихся разведением крупного рогатого скота.
Лысенко заявил, что он нашел метод, обеспечивающий сохранение потомством ценных свойств родителей, и что эти свойства будут сохраняться, а не ослабевать и в последующих поколениях.
Метод, использованный Лысенко, был основан на им же самим сформулированном «законе жизни биологических видов», построенном, в свою очередь, на более ранних представлениях Лысенко о «расшатанной» и «стабильной» наследственности[32]. Скрещивая чистопородных быков джерсийской породы с коровами из обычных колхозных стад, отличающимися и высокой удойностью, Лысенко знал, что первое поколение их потомства будет обладать относительно высокими достоинствами, что, в свою очередь, скажется как на количестве, так и на качестве получаемого от этого потомства молока. Однако в дальнейшем заявления Лысенко, утверждавшего о возможности «фиксации» у этого потомства ценных наследственных качеств, расходились с обычными представлениями специалистов в области разведения скота. Он, правда, говорил о том, что для этого скрещивания коровы должны быть крупных размеров и в период беременности их следует обильно кормить[33]. Если по отношению к первому поколению эти условия, особенно в части кормления, будут соблюдены, то тогда, считал Лысенко, последующие поколения уже не будут нуждаться в особых методах кормления. И бычки этой линии могут, как считал Лысенко, спокойно использоваться в качестве производителей потомства с высокими надоями и показателями жирности молока.
В связи с этим Министерством сельского хозяйства СССР были отданы распоряжения, рекомендующие колхозам и совхозам закупать быков-производителей из хозяйства Лысенко в Горках Ленинских и дающие этому хозяйству завидные финансовые преимущества при такого рода сделках[34].
Однако еще до официальной отставки Хрущева появились признаки, говорящие о том, что положение Лысенко становится безнадежным. Невозможно было остановить развитие биологической науки в других странах, а потому даже бесконечное число уловок, к которым прибегал Лысенко, не могло воспрепятствовать растущему вниманию к генетике[35]. Лысенко пытался принять вызов генетики, обратившись к проблеме разведения цыплят — области, в которой за годы, прошедшие после окончания второй мировой войны, в странах Запада был совершен революционный переворот; в его хозяйстве в Горках Ленинских были предприняты попытки существенного увеличения производства яиц, но через несколько лет от них отказались, не привлекая к этому факту внимания общественности[36]. Среди специалистов сельского хозяйства и даже в правительственных кругах начали распространяться слухи о том, что в хозяйстве Горки Ленинские не все благополучно. Тем временем биологи продолжали деятельность по подготовке возрождения своей дисциплины, ожидая окончательной дискредитации Лысенко.
Слухи о том, что хозяйство Лысенко переживает трудности, открыли дорогу для новой волны критики в его адрес. В предыдущие годы эта критика касалась в основном вопросов скудности теоретических воззрений Лысенко. Почти все его критики из числа представителей академической науки (в том числе и Вавилов) отдавали должное его таланту агронома-практика. Они надеялись на «modus vivendi», позволяющий им определять положение дел в теории и, если необходимо, сохраняющий за Лысенко право на проведение своих экспериментов, но только при условии его невмешательства в сферу теории[37]. Теперь же стала очевидной возможность разрушения самого основания власти Лысенко — его репутации человека, служащего делу практического сельского хозяйства.
В 1956 г. хозяйство Лысенко в Горках Ленинских было выведено из подчинения ВАСХНИЛ и передано в ведение Академии наук СССР, что явилось дополнительным шагом в сторону постановки деятельности Лысенко под неусыпный контроль со стороны его критиков. Еще одним шагом в этом направлении явились реформы Всесоюзной академии, осуществленные в 1961 и 1963 гг., энергичным инициатором которых являлся лауреат Нобелевской премии по химии Н.Н. Семенов, бывший противником нашего агронома[38]. Выдающийся советский физик А.Д. Сахаров, ставший впоследствии известным диссидентом, выступая на собрании по выборам новых членов академии, призвал советских ученых голосовать против «лысенкоиста» Н. Нуждина, и его кандидатура была единогласно отвергнута[39]. Однако Лысенко продолжал сопротивляться любым попыткам инспектировать его деятельность; он пытался даже «редактировать» всю информацию, исходящую из возглавляемого им хозяйства, будучи уверенным в поддержке его общей линии со стороны партийных органов. И действительно, как отмечает в своей книге Ж. Медведев, в июле 1962 г. только благодаря вмешательству политического руководства было отменено решение комиссии Академии наук о признании неудовлетворительной деятельности возглавляемого Лысенко Института генетики[40].
Отставка Никиты Хрущева, последовавшая 15 октября 1964 г., устранила последнее препятствие на пути к восстановлению нормального положения в советской биологии. Буквально в следующие недели на страницах газет появились статьи, в которых критиковались взгляды Лысенко[41].
Один из авторов обращает внимание на разрушительное влияние, которое «дело Лысенко» оказало на преподавание биологии; он отмечает, в частности, что «тщетными будут попытки найти описание законов наследственности или описание роли ядра клетки и содержащихся в нем хромосом» в обычном школьном учебнике для 9-го класса[42]. В «Литературной газете» (от 23 января 1965 г.) появляется статья, которая затем характеризуется официальными представителями Академии наук как очень важная для наиболее полного представления о взглядах и деятельности Лысенко[43]. Автор статьи с цифрами в руках высказывает сомнение по поводу заявлений руководителей хозяйства в Горках Ленинских о том, что их хозяйство производит быков, которые способны производить неограниченное число поколений коров, обладающих высокими показателями жирности молока. Через несколько дней президиум АН СССР создал комиссию (во главе с А.И. Тулупниковым) по проверке деятельности хозяйства, возглавляемого Лысенко. Комиссия, состоящая из восьми человек, в течение более пяти недель проверяла работу хозяйства. Результаты работы комиссии, оформленные в виде справки, содержащей многочисленные цифровые данные о бюджете хозяйства, количестве урожаев и поголовья скота, использовании удобрений, производстве молока и яиц и т. д., впервые в истории «дела Лысенко» давали объективный анализ деятельности хозяйства и ее соответствия публичным заявлениям Лысенко. 2 сентября 1965 г. эти результаты были оглашены на совместном заседании президиума АН СССР, коллегии Министерства сельского хозяйства и президиума ВАСХНИЛ. На важность этого заседания указывает то обстоятельство, что председательствовал на нем президент АН СССР М.В. Келдыш, а также то, что публикации его материалов был посвящен весь номер журнала «Вестник АН СССР» (1965. № 11).
Комиссия пришла к заключению, что высокие показатели, достигнутые хозяйством, объясняются его исключительно привилегированным положением по сравнению с обычными хозяйствами. Располагая всего 1260 акрами пахотной земли, хозяйство Лысенко имело, например, 10-15 тракторов, 11 автомашин, 2 бульдозера, 2 экскаватора и 2 комбайна. В пропорциональном отношении ферма Лысенко получала в несколько раз больше капитальных вложений и электрической энергии, нежели соседние с ней хозяйства. Исходя из этого, считали члены комиссии, нет ничего удивительного в том, что показатели этого хозяйства были выше, чем у соседей.
Однако в центре внимания работы комиссии и соответственно ее итогового документа находились хвастливые заявления Лысенко о его методах разведения скота. Выяснилось, что за предыдущий год средние надои молока от коров в этом хозяйстве упали с 6785 до 4453 килограммов. Не было обнаружено также и свидетельств, подтверждающих справедливость утверждений Лысенко о том, что потомство его быков обладает высокими показателями жирности молока на протяжении многих поколений. Более того, были обнаружены свидетельства как раз противоположной тенденции — к снижению жирности молока у этого потомства[44].
Кроме того, низкопородные быки, продаваемые без разбора во все хозяйства страны с фермы Лысенко, снижали породистость стад в этих хозяйствах. Как сказал один из участников заседания, для восстановления ущерба, нанесенного высокопородным стадам только в одной Молдавии, потребуются десятилетия[45]. Если бы методы разведения скота, которые предлагал Лысенко, были применены во всей стране и в полном объеме, то, как отметил один из членов комиссии, ущерб от этого можно было бы сравнить с ущербом от «стихийного бедствия». «Как много молока, мяса, кожи и домашнего скота мы бы потеряли в таком случае!» — воскликнул он[46].
Как же удавалось Лысенко сохранять относительно высокие показатели молочного производства на своей ферме, используя столь неадекватные методы? Скрытая причина его успехов в этой области заключалась (вопреки его собственным словам) в том, что в результате селекционной работы он выбраковывал коров с низкими показателями надоев. Между тем Лысенко рапортовал ЦК КПСС о том, что за десять лет экспериментов на своей ферме он не выбраковал ни одной коровы, дающей молоко низкой жирности. Как показала проверка, рапортуя об этом, Лысенко был, мягко говоря, не прав[47]. Комиссией были выявлены факты, когда в течение многих лет коровы, дающие молоко низкой жирности, либо продавались, либо отправлялись на бойню, а оставались в стаде «в первую очередь те коровы, которые давали молоко высокой жирности, а также их потомство, обладающее теми же свойствами»[48]. Таким образом, и в этом случае (как и в предыдущих экспериментах по «превращению» яровой пшеницы в озимую) причина успехов Лысенко заключалась в селекционной работе по отбору гетерозиготных популяций.
Лысенко, однако, так и не научился применению подлинно научных методов, и его знания в этой области остались на том уровне, на каком они находились в начале 30-х годов. Как пишет один из членов комиссии по проверке хозяйства Лысенко, «в нем полностью отсутствовала научная методология исследований. Не существовало никаких планов селекционной работы по разведению породного стада... не сохранились даже записи рациона животных»[49].
После того как были опубликованы результаты работы комиссии, в Советском Союзе началось возрождение генетики как науки. Исследования в этой области никогда не прекращались полностью, но, как уже отмечалось выше, велись с использованием различного рода «маскировок», что, естественно, не способствовало их прогрессу. В 1965 г. это положение начало быстро меняться. Н.П. Дубинин — один из ведущих советских генетиков, участник борьбы с лысенкоизмом, имевшей место в конце 30-х годов, — становится директором вновь созданного Института общей генетики АН СССР. В Советском Союзе начинает выходить новый теоретический журнал — «Генетика», ставший печатным органом возрожденной науки. По словам Дубинина, в первые два года, последовавшие за окончательной дискредитацией Лысенко, в Институте биологических проблем было создано десять новых лабораторий[50]. Известный генетик В.Н. Тимофеев-Рессовский становится главой отдела в Институте радиобиологии. Американские ученые, посещавшие в то время Советский Союз, возвращались убежденными в том, что «делу Лысенко» пришел конец и что теперь уже нельзя говорить о существовании особой, «советской» генетики. О самом Лысенко рассказывали как о человеке, находящемся в «полуотставке» и отказывающемся давать интервью членам иностранных делегаций и зарубежным журналистам[51].
1. Схема этих лесополос была опубликована в журнале «Огонек» (март 1949 г. 10. С. 4-5).
2. См.: Бовин А. На трассах государственных лесных полос // Правда. 1950. 8 мая.
3. См.: Лысенко Т.Д. Гнездовая культура леса // Огонек. 1949. № 10. С. 6-7, а также: Он же: Посев лесозащитных лесных полос гнездовым способом. М., 1950.
4. См.: Правда. 1943. 17 апреля.
5. Выдвигая свою концепцию «взаимопомощи», основное внимание Кропоткин уделял не растениям, а животным, включая человека. В одной из своих работ он писал: «Если, обратившись к Природе, мы зададимся вопросом: кто является наиболее приспособленным — те, кто находится в процессе постоянной войны друг с другом, или те, кто поддерживают друг друга? — то мы сразу же увидим, что те животные, которые приобрели привычку взаимопомощи, являются, без сомнения, наиболее приспособленными». Кропоткин не отрицал существование соревнования между представителями одного вида, не отрицал он также и правилыюсть самого выражения «выживание наиболее приспособленных»; он просто утверждал, что «наиболее приспособленными» являются те животные, которые сотрудничают между собой (Kropotkin P.A. Mutual Aid: A Factor of Evolution. Р. 6).
6. Лысенко пишет: «Дикой растительности, особенно лесным породам, присуще исключительно полезное в биологическом отношении свойство самоизреживания... Оно происходит потому, что по мере роста густо стоящих молодых деревцев необходимую сомкнутость крон (ветвей) может держать меньшее количество растений, нежели их имеется. Поэтому часть деревьев нормально отмирает» (Гнездовая культура леса. С. 7). Однако в другой работе Лысенко отмечает, что пример с тысячами саженцев деревьев, вытесняющих друг друга с небольшой территории, на которой они высажены, не является на самом деле примером внутривидового соревнования, поскольку требуется большое количество саженцев деревьев для того, чтобы они взяли верх над пытающейся вытеснить их травой (см.: Лысенко Т.Д. Теоретические основы направленного измерения наследственности сельскохозяйственных растений // Правда. 1963. 29 января. С. 3-4).
7. Ботанический журнал. 1955. № 2. С. 213. См. также: Колданов В.Я. Некоторые итоги и выводы по полезащитному, лесоразведению за истекшие пять лет // Лесное хозяйство. 1954. № 3. С. 10-18.
8. В статье «О внутривидовых и межвидовых взаимоотношениях среди растений» (Ботанический журнал. 1953. Т. 38. № 1. С. 57-96) Сукачев утверждал, что Дарвин (в отличие от Лысенко) был прав, когда говорил о существовании внутривидового соревнования, а также настаивал на существовании общего правила, согласно |которому, чем более замкнутой является система организмов, тем более интенсивно идет между ними соревнование. Это явление имело важное значение для объяснения процесса прогрессирующего расхождения признаков в ходе эволюции. При этом Сукачев обращал внимание на необходимость осторожного использования термина «соревнование», когда речь идет о мире растений, поскольку ему легко может быть дано антропоморфное значение; далее Сукачев отмечает, что наличие «соревнования» вовсе не исключает одновременного существования «сотрудничества» в природе. За неимением лучшего термина Сукачев высказывается в пользу термина «соревнование». Другие участники дискуссии занимали менее критическую по отношению к Лысенко позицию; в дискуссии принял участие и сам Лысенко, опубликовавший перепечатку своей статьи о «биологическом виде», предназначенной для Второго издания Большой Советской Энциклопедии (см.: Лысенко Т.Д. Новое в науке о биологическом виде, а также ч. 11 из его работы «филогенез покрытосеменных с позиции мичуринской биологии»).
9. См.: Swanson J.M. The Bolshevizstion of Scientific Societies in the Soviet Union // An Historical Analysis of the Character, Function and Legal Position of Scientific and Scientific-Technical Societies in the USSR 1929-1936. Dissertstion, Indisns Univ., 1967.
10. Библиография этих материалов опубликована в: Ботанический журнал. 1954. № 2. С. 221-223 и 1955. № 2. С. 213-214.
11. Рубашевский являлся автором книги «Философское значение теоретического наследства И.В. Мичурина» (М., 1949). См. предыдущую сноску, а также: Сукачев В.Н., Иванов Н.Д. К вопросам взаимоотношений организмов и теории естественного отбора // Журнал общей биологии (июль-август 1954 г.). 15(4). С. 303-319.
12. См.: Ботанический журнал. 1955. Т. 40. № 2. С. 206.
13. См. там же. С. 207.
14. См. там же.
15. Там же. С. 208.
16. Там же.
17. См.: Соколов Б. Об организации производства гибридных семян кукурузы // Известия. 1966, 2 февраля.
18. Кнунянц И., Зубков Л. Школы в науке // Литературная газета. 1955. 11 января. С. 1.
19. Сукачев В.Н., Иванов Н.Д. К вопросам взаимоотношений...
20. Ботанический журнал. 1955. № 2. С. 206-213.
21. Лысенко и Мальцев были знакомы на протяжении более 20 лет и хорошо отзывались друг о друге. Оба они были делегатами Второго Всесоюзного съезда колхозников в 1935 г. На XX съезде КПСС в 1956 г. Мальцев выступил с речью, которая привлекла известное внимание.
22. Medvedev Zh. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. Р. 137.
23. См., напр., его статью в «Известиях» (1957. 27 апреля) «Шире применять в нечерноземной полосе органо-минеральные смеси». При этом Лысенко не оставлял без внимания и критику в свой адрес в статье «Теоретические успехи агрономической биологии», опубликованной 8 декабря 1957 г. в «Известиях», Лысенко обвиняет Сукачева «в прямом отрицании всей концепции материалистической биологии» и предпринятой возглавляемыми Сукачевым изданиями ненаучной «критике моих работ».
24. Речь тов. Н.С. Хрущева на совещании работников сельского хозяйства Горьковской, Арзамасской, Кировской областей, Марийской, Мордовской и Чувашской АССР 8 апреля 1957 года в городе Горьком // Правда. 1957. 10 апреля.
25. См.: Лысенко Т.Д. Интенсивные работы по животноводству в Горках Ленинских // Агробиология. 1957. № 4. С. 123-127.
26. 10 апреля 1956 г. в «Правде» и «Известиях» было опубликовано сообщение о том, что Совет Министров СССР решил «удовлетворить просьбу» Лысенко об освобождении с поста президента ВАСХНИЛ. В июне того же года, однако, он избирается членом президиума академии. В августе 1961 г. он вновь избирается ее президентом, а в апреле 1962 г. вновь уходит с этого поста «по состоянию здоровья». Ольшанский, сменивший его на посту президента, являлся одним из его сторонников. См., напр., его статью «Против фальсификаций в биологической науке», опубликованную 18 августа 1963 г. в газете «Сельская жизнь».
27. Я выражаю признательность С. Маккласки (Колумбийский университет) и Марку Адамсу, сообщившим мне интересную информацию о связи между кибернетикой и генетикой, существовавшей в то время в Советском Союзе.
28. Schrodinger E. What Is Life. Р. 71. Джеймс Уотсон подчеркивал значение этой небольшой работы Шрёдингера, благодаря которой Фрэнсис Крик решил оставить физику и обратиться к проблемам биологии (см.: Watson J.D. The Double Helix. N.Y., 1968. Р. 13).
29. В своем выступлении на сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. Лысенко осудил эту работу Шрёдингера.
30. Многие из этих статей переведены на английский язык. Смотри статьи этих авторов, опубликованные в журнале «Вопросы кибернетики».
31. Ляпунов А.А., Маленков А.Г. Логический анализ наследственной информации // Вопросы кибернетики. 1962. № 8. С. 293-308.
32. В работе «Теоретические основы направленного изучения наследственности сельскохозяйственных растений» Лысенко пишет, что действие этого закона заключается в том, что «вся жизнедеятельность каждого биологического вида, а следовательно, и каждого живого тела направлена... на сохранение и увеличение численности данного вида...».
33. См.: Лысенко Т.Д. Интенсивные работы по животноводству в Горках Ленинских.
34. См.: Приказы по Министерству сельского хозяйства СССР от 5 января 1961 г., № 3 («Об опыте работы экспериментального хозяйства Горки Ленинские по повышению жирномолочности коров») и от 26 июня 1963 г,, № 131 («Об улучшении работы по созданию жирномолочного стада крупного рогатого скота в колхозах и совхозах путем использования племенных животных, происходящих с фермы Горки Ленинские, и их потомков»).
35. С уничтожающей критикой взглядов Лысенко выступали в своей статье Ж. Медведев и В. Кирпичников (Перспективы советской генетики // Нева. 1963. № 3. С. 165-175). Она побудила сторонника Лысенко М.А. Ольшанского написать ответную статью «Против фальсификаций в биологической науке» (Сельская жизнь. 1963. 18 августа. С. 2-3).
36. См.: О результатах проверки деятельности базы Горки Ленинские // Вестник АН СССР. 1965. № 11. С. 124.
37. Сам Лысенко, разумеется, никогда не соглашался с идеей сосуществования различных подходов в биологии. В качестве примера его претензий на исключительность и требований отказаться от «неверных» теорий в биологии см.: Агробиология. С. 135.
38. Б.Е. Быховский, бывший академик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР, писал: «Практически с момента создания нашего отделения мы получали сигналы о том, что не все было в порядке у администрации хозяйства в Горках Ленинских (Вестник АН СССР. 1965. № 11. С. 107). См. также комментарии Лысенко на статью Семенова (там же. С. 61); статью Семенова «Наука не терпит субъективизма» (Наука и жизнь. 1965. № 4. С. 38-43), а также мою главу о планах Семенова по реформе академии в: Juviler and Morton, eds., Soviet Policy-Making. Корреспондент газеты «The New York Times» Уолтер Салливан в частной беседе со мной в 1967 г. рассказывал о том, что летом того же года он разговаривал с Семеновым, который, в частности, говорил: «С 1950 г. моей целью было соединение биологии с химией. Сначала этого нельзя было сделать из-за проблемы Лысенко. Однако пять лет назад мне удалось организовать в академии Отделение биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений... Сначала это было чисто механическое соединение различных дисциплин, но теперь это почти химическое соединение».
39. См.: Medvedev Zh. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. Р. 215-217.
40. Medvedev Zh. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. Р. 198-199.
41. См., напр.: Дудинцев В. Нет, истина неприкосновенна! // Комсомольская правда. 1964. 23 октября; Бианки В., Степанов В. Кто написал опровержение? // Комсомольская правда. 1965. 16 марта.
42. См.: Воронцов Н. Жизнь торопит: нужны современные пособия по биологии // Комсомольская правда. 1964. 11 ноября.
43. Аграновский А. Наука на веру не принимает. Основные положения этой статьи были подтверждены затем комиссией АН СССР по проверке деятельности хозяйства в Горках Ленинских (см.: Вестник АН СССР. 1965. № 11. С. 1-128).
44. См.: Вестник АН СССР. 1965. № 11. С. 93.
45. См. там же. С. 108.
46. На самом деле, одна из эксцентричных выходок Лысенко помогла несколько ограничить масштабы принесенного им ущерба. Он с неодобрением относился к методу искусственного осеменения. В его хозяйстве он не применялся. Таким образом, его быки могли покрыть в год 40-45 коров. Между тем если бы Лысенко применял метод искусственного осеменения, то семя его быков могло быть использовано для оплодотворения до 2 тыс. коров в год, то есть масштабы ущерба были бы существенно большими. Однако нет сомнения в том, что в других хозяйствах метод искусственного осеменения применялся, в том числе и к быкам, купленным в хозяйстве Лысенко. В то же время Лысенко высказывался в пользу метода искусственного осеменения (но не на своей ферме). См.: Вестник АН СССР (с. 15), где говорится о том, что Лысенко не позволял использовать этот метод у себя на ферме, и его статью «Важные резервы колхозов и совхозов» (Правда. 1959. 14 марта), где он рекомендует использование этого метода.
47. Работа комиссия вскрыла факты сокрытия Лысенко или его помощниками причин выбраковки скота (см.: Вестник АН СССР. 1965. № 11. С. 17, 18).
48. Разъяснения комиссии в связи с замечаниями академика Т.Д. Лысенко (там же. С. 73).
49. Вестник АН СССР. 1965. № 11. С. 91-92.
50. Sullival Walter. The Death and Rebirth of a Science. Р. 287.
51. Из частной беседы автора с У. Салливаном, состоявшейся 14 июля 1967 г.
Биология и диалектический материализм после Лысенко
Что касается области теоретической биологии, то для нее падение в 1965 г. Лысенко было окончательным и бесповоротным. Его отречение от власти не сопровождалось, однако, прекращением публикации в Советском Союзе статей, в которых анализировались бы отношения генетики и диалектического материализма. В самом деле, некоторые из тех ученых, которые боролись против Лысенко, сами начали интерпретировать молекулярную биологию с точки зрения диалектического материализма. Так, например, академик Дубинин — один из ведущих советских генетиков, который во времена лысенкоизма был уволен с работы, чьи статьи не печатались, а лучшие друзья оказались в тюрьме, — в 1969 г. публикует статью под названием «Современная генетика в свете марксистско-ленинской философии»[1]. В этой работе, а также во многих других, последовавших за ней, Дубинин защищает марксизм и описывает процессы мутации генов в терминах диалектики.
Люди с хорошей памятью сразу же вспомнят о том, что некоторые западноевропейские, русские и американские генетики в 20-х и 30-х годах рассматривали свою науку в качестве прекрасного подтверждения принципов диалектического материализма. В высказываниях таких людей, как Холдейн, Меллер, Жебрак, Агол, Серебровский и Дубинин, выражаются их глубокие симпатии (по крайней мере, в известном отношении) к этим принципам. В самом деле, если задуматься о целях и методах исследований по современной генетике, то сразу же возникнет ощущение того, что только по иронии судьбы такая фундаментально-материалистическая теория могла быть отвергнута от имени материализма. Поиски материального носителя наследственности (в качестве которого сначала рассматривался ген, а теперь — ДНК) во многих отношениях являются подтверждением важности именно материалистической точки зрения. Отказ же от поисков механизма наследственности во многом сродни религиозному мистицизму или романтическому органицизму, а не материализму[2].
Советские философы и биологи, которые и после отставки Лысенко продолжали рассматривать биологию в свете теории диалектического материализма, разделились на две группы — «консерваторов» и «либералов». Представители обеих групп были настроены критически по отношению к Лысенко, однако «консерваторы» при этом испытывали ностальгию по тем временам, когда существовала «мичуринская генетика». В результате некоторые представители этой группы призывали к возвращению к «мичуринскому учению, но без лысенковщины». В качестве примера здесь можно сослаться на статью Г.В. Платонова «Догмы старые и догмы новые», опубликованную в 1965 г. в консервативном журнале «Октябрь»[3]. В этой статье, в частности, Платонов выражал сожаление по поводу, как ему представлялось, происходящего в Советском Союзе «полного» отказа от учения Мичурина и «полного» принятия концепции формальной генетики. Сходные взгляды нашли отражение и в кандидатской диссертации, защищенной в 1965 г. Ф. Пинтером в МГУ им. М.В. Ломоносова[4]. В ней сделана попытка спасти «мичуринскую биологию» от наивных представлений Лысенко, которые рассматриваются автором на фоне периода «культа личности». По словам Пинтера, трагедия советской генетики заключалась в том, что после 1948 г. в СССР не было других представителей «мичуринской биологии», кроме Лысенко.
Взгляды, высказываемые такими людьми, как Платонов и Пинтер, таили в себе опасность того, что и впредь наука будет связана с именем одного человека — если не Лысенко, то Мичурина[5]. В своих работах Дубинин пытался принять этот вызов, показывая, что Мичурин никогда не пытался представить себя основателем школы в теоретической биологии, а также говоря о том, что, как ни значительны были достижения Мичурина в практической области, все же современная генетика превзошла их[6]. Более того, отмечал Дубинин, в последние годы жизни взгляды Мичурина развивались в сторону менделизма.
Представители «либерального» направления, к которым сначала принадлежал и Дубинин (как мы увидим в дальнейшем, позднее он будет занимать вполне консервативную позицию), отказывались от самого понятия «мичуринская генетика». В их представлениях существовала только одна генетика — это наука, известная во всем мире. Вместе с тем они продолжали защищать взгляд на диалектический материализм как на философию науки, будучи убежденными в том, что он может быть полезен для интерпретации различного рода биологических проблем. Исходя из этого, они вслед за Лениным предлагали различать «науку» и «интерпретации науки».
В числе наиболее значительных работ того времени, посвященных философскому исследованию проблем соотношения диалектического материализма и биологии, следует прежде всего назвать книгу И.Т. Фролова «Генетика и диалектика»[7]. В этой работе Фролов критикует концепцию «партийности науки», твердо отстаивая позицию, согласно которой политика имеет отношение только к философской интерпретации науки, а не к оценке науки как таковой (с. 13). Он критикует тех консерваторов, которые, подобно Платонову, не видели этого различия (с. 16 и др.) Во-вторых, в этой книге Фролов пытается положить начало реконструкции марксистской философии биологии из руин, оставленных «лысенкоизмом». Он формулирует философские проблемы, возникающие в связи с интерпретацией генетики, которые, как он считает, вполне заслуживают внимания и изучения: проблему редукционизма, детерминизма и природы наследственности. Говоря о работах Э.С. Бауэра и Л. Берталанфи, он называет их примерами интерпретаций биологии, имеющими сходство с интерпретацией диалектического материализма, а потому заслуживающими дальнейшего изучения. В-третьих, в том же году, когда была опубликована эта книга, Фролов становится главным редактором советского журнала «Вопросы философии». В качестве редактора одного из наиболее влиятельных советских философских журналов Фролову удается оказывать влияние на развитие философии науки.
По мнению Фролова, проблема редукционизма или отношения части и целого является одной из самых важных философских проблем в биологии. Согласно точке зрения строгого редукционизма, свойства организма могут быть целиком объяснены, исходя из свойств составляющих его частей. Так, процессы жизни редукционист будет объяснять в понятиях физико-химических реакций. В конце 60-х и 70-х годах советские дискуссии по проблемам диалектического материализма и биологии вращались вокруг этого вопроса.
По мнению Фролова, преимущество диалектического материализма в подходе к этому вопросу заключается в том, что он позволяет изучать как часть, так и целое, что он рассматривает биологию как на физико-химическом, так и на более общем, «системном» уровне. Фролов пишет, что диалектика «определяет двуединую задачу: с одной стороны, открыть полный простор для интенсивного использования методов химии и физики в исследовании живых систем, а с другой — найти методологические принципы, указывающие формы их эффективного функционирования в познании сущности наследственности и изменчивости как явления биологического, ограничивающие, следовательно, эти методы рамками их действительной применимости в генетике» (с. 253). Диалектика качественно-количественных отношений традиционно рассматривалась советскими марксистами как своеобразное предупреждение против редукционизма, и в своей книге Фролов продолжает эту традицию.
В 70-е годы в Советском Союзе полным ходом шел процесс возрождения генетики как науки, но процесс этот шел не без трудностей. В тех ее областях, где достижение результатов определялось коллективными усилиями ученых, работающих в больших исследовательских институтах, работы советских биологов вновь получали международное признание. Вместе с тем вопросы, связанные с «делом Лысенко», не исчезли совсем, и в особенности это было заметно в публикациях по философским и политическим вопросам. В самом деле, в 70-х годах по сравнению с концом 60-х наблюдалось снижение степени свободы науки от политических и философских оков. Дубинин, забыв о своих злоключениях во времена Лысенко, сам начал выступать с авторитарных по отношению к своим коллегам-генетикам позиций. Это привело к тому, что некоторые из его коллег стали за глаза называть его «Трофим Денисович Дубинин». Даже его смещение с поста директора Института общей генетики в 1981 г. не смогло нормализовать положение в советской генетике. Более детально все эти события описываются в шестой и седьмой главах настоящей книги.
Если говорить о представителях философии науки, то из них антилысенковских взглядов придерживались эпистемологисты, считающие, что марксизм может давать оценки не той или иной науке, как таковой, но только методологии познания. Как уже говорилось во второй главе этой книги, в конце 70-х годов представители этого направления начинают утрачивать свои позиции в университетах и других учебных заведениях, где наблюдается рост влияния «онтологистов». Таким образом, хотя надежды «неолысенкоистов» на осуществление контроля над наукой можно охарактеризовать как весьма призрачные, все же они продолжали надеяться на завоевание видного места на страницах философских и общественно-политических журналов.
В 1978 г. вышла в свет книга Г.В. Платонова «Жизнь, наследственность, изменчивость»[8], публикация которой может быть охарактеризована как самое удивительное событие в современной истории советской генетики. То обстоятельство, что книга эта была опубликована издательством Московского университета, а не академическим издательством «Наука», может, как представляется, служить еще одним свидетельством в пользу утверждения о том, что в стенах университетов работало большее, нежели в системе Академии наук, количество «онтологистов». Книга Платонова представляла собой абсолютно лысенковское по своему духу исследование, и это спустя 13 лет с того времени, как все на Западе были уверены в том, что с «лысенкоизмом» покончено. Правда, сам Платонов в своей работе не упоминает ни термин «лысенкоизм», не восхваляет имя Лысенко. Вместо этого, излагая, по существу, лысенковские взгляды, он пользуется понятием «мичуринское учение». Платонов вновь возрождает призраки «идей» Лысенко, включая утверждение о том, что последователям Лысенко удалось «превратить» яровую пшеницу в озимую[9]. В качестве документального свидетельства подобных «превращений» Платонов ссылается на известную статью Авакяна «Наследование организмом приобретенных признаков», опубликованную в журнале Лысенко «Агробиология» в 1948 г. — году политического триумфа Лысенко в генетике. Содержание этой статьи давно было отвергнуто мировой наукой. В своей книге Платонов превозносит доктрину о наследовании организмом приобретенных признаков, подражает известному лозунгу Лысенко о том, что «наука — враг случайности», перефразируя его в лозунг о том, что «отрицание причинности ведет к обезоруживанию науки», призывает современную генетику к отказу от основных ее принципов. И все это делается с использованием фразеологии диалектического материализма и марксизма[10].
Платонов также обрушивается с критикой на В.П. Эфроимсона, И.Т. Фролова и Б.Л. Астаурова (после смерти последнего) за то, что они «стирали качественные различия между социальными и биотическими формами жизни». В противоположность им он превозносит А.И. Опарина, Н.П. Дубинина и Л.Ш. Давиташвили, твердо отстаивавших взгляды, направленные против «культа редукционизма» и против «монополизма» и «абсолютизма» проблематики ДНК. (Все эти авторы, за исключением Давиташвили, так или иначе упоминаются в этой книге.) По мнению Платонова, факторы внешней среды могут становиться наследственными факторами, и он называет даже механизмы, посредством которых осуществляется такая наследственность; особый акцент делается при этом на факторах «пищи» и «температуры», то есть любимых факторах Лысенко[11].
Представители академических кругов советской генетики предпочли проигнорировать публикацию книги Платонова, надеясь на то, что она сама «тихо скончается», что и случилось. Единственная рецензия на эту книгу появилась в 1980 г. в партийном журнале «Коммунист Украины»[12]; удивительным в этой рецензии было то, что ее авторы упрекали Платонова за снисхождение к Г. Менделю и Т.X. Моргану — двум гигантам современной генетики. Данная рецензия, не обладающая интеллектуальными достоинствами, все же указывала на то обстоятельство, что в некоторых партийных кругах еще не забыли термин «менделизм-морганизм», использованный в свое время для оскорбления генетики. Это указывало на то, что время кошмаров для советской генетики не кончилось даже в 1980 г.
Думается, что само существование пережитков «лысенкоизма» в то время может отчасти служить объяснением той фразеологии, которую использовали некоторые защитники генетики. Если критики генетики, подобные Платонову, осуществляли ее от имени марксизма, то перед ее защитниками вставала задача продемонстрировать, что их взгляды еще более аутентичны марксизму в идеологическом отношении. Так, С.А. Пастушный в своей книге «Генетика как объект философского анализа»[13] предпринимает попытку переписать историю генетики, с тем чтобы представить Менделя и Моргана невольными сторонниками диалектического материализма; более того, в его руках современная генетика, основанная на представлениях молекулярной биологии, становится иллюстрацией истинности диалектического материализма. Согласно Пастушному, Мендель стал монахом не потому, что был верующим человеком, а потому, что был беден[14]. Далее Пастушный утверждает, что на самом деле Мендель поддерживал Дарвина, но не мог признаться в этом из-за давления, оказываемого на него клерикальными кругами. Затем Пастушный продолжает реконструировать историю генетики в соответствии с концепцией диалектического материализма, показывая, кто был «прав», а кто — «не прав» в смысле идеологии. Он даже утверждает, что если бы первые генетики, подобные Йохансену и Моргану, сознательно стояли на позициях диалектического материализма, то это позволило бы им преодолеть известную ограниченность их взглядов и «диалектически соединить» генетику и теорию эволюции Дарвина[15]. В результате долгого анализа истории генетики Пастушный приписывает все социально-политические причины, вызвавшие интеллектуальные затруднения в связи с развитием современной генетики, только западному обществу, забывая о социально-политических корнях величайшего бедствия для генетики XX в., связанного с «делом Лысенко». И все же в конечном итоге Пастушный выступает как оппонент Лысенко и развивает аргументацию против его сторонников.
Участники развернувшейся дискуссии — как представители современной генетики, так и «неолысенкоисты» — вновь поднимали роковой вопрос о том, может ли марксизм давать оценку истинности того или иного научного положения или науки в целом. Как уже говорилось выше, в конце 60-х годов Фролов попытался ответить на этот вопрос раз и навсегда, говоря о том, что только философские интерпретации науки имеют отношение к политике и идеологии, а не наука сама по себе[16]. Фролов упрекал тогда Платонова за то, что он не понимал этого различия, пытаясь выдавать «мичуринскую биологию» за марксистскую биологию[17]. Однако теперь, в конце 70 - начале 80-х годов, даже Фролов несколько отступает с первоначальных позиций в этом вопросе, присоединяясь к позиции ученых, подобных Пастушному, которые представляли современную генетику (то есть антилысенковскую биологию) как марксистскую биологию[18], Фролов и Пастушный занимали верные позиции в развернувшейся дискуссии, но делали это, исходя из неверных представлений. (При этом нельзя удержаться от вопроса о том, что бы могло случиться, если бы принципы современной генетики оказались отброшенными развитием самой науки?) Представляется, что политические условия советского общества не позволяли оценивать биологию как науку без привлечения марксистской философии. Такое положение следует назвать позорным, поскольку в биологии существует множество вопросов и проблем, заслуживающих философского их обсуждения, без предварительной философской оценки этой науки. Философская интерпретация науки и оценка ее истинности — это разные вещи, но часто советские авторы смешивают их.
1. См.: Ленин и современное естествознание (под ред. М. Омельяновского). М., 1969. С. 287-311. О злоключениях Дубинина в период власти Лысенко в биологии см.: Medvedev Zh. The Rise and Fall of T.D. Lysenko.
2. Как пишет С. Райт: «Я уверен в том, что большинство генетиков будут склонны рассматривать точку зрения, согласно которой наследственность — это нечто, на что можно воздействовать рентгеновскими лучами, как менее идеалистическую, чем распространенные представления о наследовании приобретенных признаков или схожие с ними представления о наследовании материнских признаков» (Wright Sewall. Dogma or Opportunism? // Bulletin of the Atomic Scientists. Мау 1949. Р. 141-142).
3. Эта статья, в которой ее автор предпринимал своеобразную попытку «синтеза» теории классической генетики и мичуринского учения, подверглась резкой критике в письме Эфроимсона, опубликованном в журнале «Вопросы философии» (1966. № 8. С. 175-181).
4. «Актуальные вопросы взаимоотношения марксистской философии и генетики». Пинтер пишет о том, что открытие ДНК является своеобразным доказательством того, что в определенных аспектах «мичуринцы» были правы, критикуя «менделистов». При этом автор игнорирует тот факт, что сами «мичуринцы» не сделали буквально ничего для появления этого открытия и что оно является результатом традиции неоменделизма.
5. Очевидно при этом, что Лысенко извратил взгляды Мичурина; на это неоднократно указывалось и в ходе совещания по генетике в 1936 г. (см., напр.: Спорные вопросы... С. 399-400).
6. См.: Дубинин Н.П. И.В. Мичурин и современная генетика // Вопросы философии. 1966. № 6. С. 59-70.
7. См.: Фролов И.Т. Генетика и диалектика. М., 1968. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в тексте.
8. Платонов Г.В. Жизнь, наследственность, изменчивость (методологические аспекты). М., 1978.
9. Платонов Г.В. Жизнь, наследственность, изменчивость (методологические аспекты). С. 158-159.
10. Там же. С. 26-27, 48, 52, 92, 133-134, 152, 177, 181-189, 204.
11. Там же. С. 10-48, 124 и далее, 181-189. Еще одной лысенковской по духу книгой, вышедшей в период после падения Лысенко, является книга Давиташвили «Изменчивость организмов в геологическом прошлом» (Тбилиси, 1970, С. 45).
12. См.: Острянин Д.Ф., Мартыненко Т.К. Методологические вопросы современной биологии // Коммунист Украины. 1980. № 3. С. 90-93.
13. Пастушный С.А. Генетика как объект философского анализа. М., 1981.
14. Пастушный С.А. Генетика как объект философского анализа. С. 144.
15. См. там же. С. 55, 98, 108-109, 144, 240.
16. См.: Фролов И.Т. Генетика и диалектика. С. 13
17. См. там же. С. 16. (Курсив мой. — Л.Г.)
18. См.: Фролов И.Т., Пастушный С.А. Менделизм и философские проблемы современной генетики.
Глава V. Физиология и психология
В советской психологии и физиологии, как ни в одной из наук, которые обсуждаются в данной книге, существует особая, русская традиция интерпретации исследований. Еще задолго до Октябрьской революции в русской физиологии и психологии существовала материалистическая традиция. В дореволюционной России существовала, без сомнения, и идеалистическая традиция в психологии, однако здесь необычно рано получила сильную поддержку материалистическая тенденция в психологии. В 1863 г. Иван Сеченов (1829-1905) публикует свою книгу «Рефлексы головного мозга» — книгу, истинное предназначение которой раскрывалось в ее первоначальном названии, отвергнутом царской цензурой, — «Попытка установить физиологические основы психологических процессов»[1]. В этой работе Сеченов писал о том, что «вся сознательная или бессознательная деятельность является рефлекторной».
По поводу взглядов Сеченова возникли споры среди образованной санкт-петербургской публики. На ходе дискуссии сказывалась та политическая и идеологическая атмосфера, которая сложилась в России конца XIX столетия; представители радикально настроенной интеллигенции, как правило (но отнюдь не всегда), приветствовали взгляды Сеченова, в то время как официальная бюрократия того времени отрицательно относилась к этим взглядам. В 1866 г. санкт-петербургская цензура запретила продавать книгу Сеченова, а ему самому грозили судом по обвинению в подрыве основ общественной морали. Сеченову удалось избежать суда, однако в результате этого существовавшая связь между материализмом в науке и радикальными тенденциями в политике только усилилась и стала более очевидной.
Несмотря на то, что в дореволюционной России материализм имел прочные позиции в психологии, он ни в коем случае не располагал монополией в этой области. Самого Сеченова считали прежде всего физиологом, а не психологом. Против его взглядов и взглядов некоторых из его учеников выступали не только цензоры и представители церкви, но также и профессора университетских кафедр философии и психологии, поскольку установки Сеченова противоречили основному направлению в академической психологии России того времени. Тем не менее вопросы, поднимаемые Сеченовым в связи с обсуждением проблемы природы психического и его отношения с физиологическим, стали предметом горячих дискуссий, развернувшихся среди русских психологов, физиологов, философов и представителей политических кругов в конце XIX столетия[2]. История этих дискуссий еще недостаточно исследована, однако даже поверхностный взгляд позволяет отметить то обстоятельство, что отдельные черты этих дискуссий напоминают те споры по упомянутым вопросам, которые были продолжены и в советский период[3].
Самое важное влияние на развитие русской физиологии и психологии оказали работы Ивана Павлова (1849-1936), являющегося одной из выдающихся фигур в мировой науке. И хотя в данной работе невозможно и неуместно пытаться обобщить взгляды Павлова, все же представляется целесообразным хотя бы коротко остановиться на некоторых из аспектов этих взглядов, особенно на тех, которые позднее стали предметом философских и методологических споров в Советском Союзе. С точки зрения истории и философии науки величайшее значение работ Павлова заключается в том, что ему удалось представить психическую деятельность как явление, которое может успешно исследоваться объективными методами естественных наук. В противоположность «интроспективным» методам изучения умственной деятельности, распространенным в то время, метод Павлова основывался на предположении о том, что психические явления могут быть поняты и объяснены на основании внешних по отношению к предмету исследования свидетельств. Разумеется, в этом он не был абсолютно оригинален, однако, будучи великолепным экспериментатором, Павлов смог осуществить подлинное единство методологии и практики экспериментирования с животными. На основе своих экспериментов он выдвинул теорию высшей нервной деятельности, объясняющую психическую деятельность человека с помощью ее физиологических основ.
Наибольшую известность Павлову принесла его теория условных и безусловных рефлексов. Он говорил о том, что безусловные рефлексы являются врожденными формами нервной деятельности, передаваемыми по наследству. Условные же рефлексы являются такими формами этой деятельности, которые основываются на специфических безусловных рефлексах и приобретаются организмом в ходе его жизнедеятельности; как правило, считал Павлов, условные рефлексы не наследуются, хотя в отдельных случаях возможно и такое.
В классическом примере с собакой и звонком безусловным рефлексом у собаки являлось слюноотделение в ответ на пищевой раздражитель. Условный рефлекс — слюноотделение в ответ на звонок — вырабатывался у собаки в результате многократного предварительного совмещения звонка с пищей. Далее Павлов показывал возможность формирования у собаки «условного рефлекса второго порядка», то есть формирования условного рефлекса на включенную лампочку на основе уже выработанного условного рефлекса на звонок. Следует подчеркнуть, что в этом случае действие основного раздражителя — пищи — уже не совмещалось с включением лампочки. Таким образом, Павлову удалось продемонстрировать, что рефлексы могут формироваться и косвенным путем. Павлов считал, что и психическая деятельность человека может быть объяснена таким же образом или, по крайней мере, на основе подобных представлений. Свою теорию Павлов назвал «теорией высшей нервной деятельности», и это название вошло в терминологию советской физиологической и психологической науки.
Внутренняя структура действия рефлекса описывалась Павловым с помощью термина «рефлекторная дуга», к которому мы еще обратимся в дальнейшем изложении. По Павлову, рефлекторная дуга связывала между собой афферентные и эфферентные нейроны и нервные центры.
Павлов считал, что у человека нервные центры располагаются в коре полушарий головного мозга. И в тех случаях, когда речь идет об образовании условных рефлексов у человека, «временные связи» устанавливаются в результате «иррадиации» стимулов, достигающих коры полушарий. Как говорит об этом сам Павлов, «основной механизм образования условного рефлекса есть встреча, совпадение во времени раздражения определенного пункта коры полушарий с более сильным раздражением другого пункта, вероятно, коры же, в силу чего между этими пунктами более или менее скоро протаривается более легкий путь, образуется соединение»[4].
Павловым было продемонстрировано также и существование процесса, противоположного процессу «иррадиации», — процесса подавления или торможения сигнала. Павлову удалось научить собаку отличать не только различные сигналы (такие, как звуковые или световые), но также различать различные звуковые сигналы, отличающиеся частотой колебаний. В результате этих экспериментов Павлов пришел к выводу о том, что «участок коры головного мозга, реагирующий на внешний раздражитель, оказывается суженным».
Одним из наиболее гибких понятий, выдвинутых Павловым и до сих пор еще недостаточно разработанным, является понятие о «второй сигнальной системе» как свойстве, присущем только психике человека. Большую часть своих исследований и экспериментов Павлов провел на собаках, однако в последние годы он также работал с обезьянами и гориллами; его интересы во все большей степени начинали связываться с тем, что он считал конечной целью исследований в области нейрофизиологии, — с изучением психики человека. В отличие от животных, инстинкты свойственны человеку в меньшей степени, а потому, считал Павлов, человеческое поведение в большей, нежели это свойственно животным, степени определяется теми или иными условными рефлексами. Поведение животных и человека формируется сходными путями, однако человек располагает «дополнительным инструментом», обладающим практически бесконечными возможностями для формирования психики и поведения, и таким инструментом является язык. В то время как животное реагирует только на простые («первичные») сигналы или символы (даже в том случае, когда собака подчиняется устной команде человека, ее реакция по сути своей ничем не отличается от той, какую она демонстрирует в случаях, когда она рёагирует на звонок или свет лампочки), человек способен реагировать на смысл произносимых или написанных слов («вторичные сигналы»). Речевое или письменное послание (даже минимальной сложности), воспринимаемое любым человеком, будет наполнено смыслом и различного рода ассоциациями, свойственными только этому человеку. И именно эту «вторую сигнальную систему» Павлов рассматривал как бесконечно более сложную, нежели «первую сигнальную систему» животных, считая, что их невозможно сравнивать как в количественном, так и в качественном отношении. Таким образом, Павлова нельзя считать человеком, убежденным в том, что описание поведения человека может быть сведено к простой схеме «стимул — реакция», как это можно сделать в случаях известных экспериментов с собаками. Он полностью отдавал себе отчет в качественном отличии человека от других видов животных. Тем не менее он был убежден также в возможности изучать человеческое поведение на основе данных физиологии нервной системы человека.
Отношение Павлова к психологии неоднократно становилось предметом всевозможных спекуляций, многие из которых подразумевали его негативное отношение к самому факту существования психологии как науки. На самом деле Павлов возражал против использования понятия «психология» применительно к животным, поскольку считал внутренний мир животного принципиально недоступным для понимания человеком. Далее, он глубоко критически относился к тому, что считал метафизическими представлениями, и что содержалось подчас в терминологии психологии. В свои молодые годы он с сомнением относился к научной ценности большинства исследований, которые велись в то время в области психологии. С годами, а также по мере того, как экспериментальная психология продолжала неуклонно развиваться в качестве самостоятельной дисциплины, его отношение к ней постепенно менялось. В 1909 г. Павлов говорил:
«...я хотел бы предупредить недоразумение в отношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека. Тем менее я склонен отрицать что-нибудь из глубочайших влечений человеческого духа. Здесь и сейчас я только отстаиваю и утверждаю абсолютные, непререкаемые права естественнонаучной мысли всюду и до тех пор, где и покуда она может проявлять свою мощь. А кто знает, где кончается эта возможность!»[5].
Однако даже в тех высказываниях, в которых подтверждалось право психологии на существование в качестве самостоятельной научной дисциплины, можно было обнаружить в целом скептическое отношение Павлова к психологии. Так, последнее предложение из приведенной только что цитаты имплицитно содержит в себе различие между психологией и «естественнонаучной мыслью» — различие, против которого выступят большинство психологов. И когда Павлов говорил о возможности слияния в будущем физиологии и психологии, многие психологи были уверены в том, что при этом он имеет в виду поглощение психологии физиологией. Следует признать, что Павлов относился к психологии как науке с известной долей сомнения, хотя и не был настроен по отношению к ней столь враждебно, как это пытаются представить некоторые исследователи его творчества. Несмотря на весьма часто произносимые им предостережения против редукционистского подхода, его призывы к изучению «организма в целом» и его убеждение в том, что человек обладает «качественной и количественной уникальностью», все же взглядам Павлова была присуща тенденция рассматривать психические явления (и в особенности рефлекторную дугу) с помощью упрощенных, механистических представлений и понятий. В то время когда психология на самом деле испытывала сильнейшее влияние со стороны идеалистических концепций и взглядов, подобная тенденция была, возможно, неизбежной, поскольку являлась в известном смысле результатом борьбы, которую вел Павлов за утверждение своего учения об условных рефлексах, учения, которое сегодня рассматривается как величайшее достижение физиологии и психологии.
Павлов не был марксистом и никогда не использовал теорию диалектического материализма для оправдания и защиты собственной теоретической системы. На протяжении многих лет после Октябрьской революции он выступал против марксистского влияния в сфере науки и образования и даже выступал с критикой марксистской философии[6]. В последние годы жизни, однако, его взгляды в этом отношении претерпели изменения — он приветствовал советское правительство за ту поддержку, которую оно оказывало развитию науки, а также говорил о том большом впечатлении, которое производила на него интеллигентность отдельных большевистских лидеров, подобных, например, Николаю Бухарину. Один из его учеников — П.К. Анохин, чьи взгляды будут рассмотрены в отдельном разделе этой главы, утверждал, что в одной из бесед с Павловым он попытался показать глубоко диалектичный характер его учения об условных рефлексах, раскрывающего существо принципа единства и борьбы противоположностей. В ответ на это Павлов, по словам Анохина, воскликнул:
«Вот и оказывается, что я диалектик!»[7].
Учение Павлова содержит в себе множество аспектов, привлекающих внимание сторонников диалектического материализма. Во-первых, одна из главных целей, к которой стремился Павлов, — объяснение психических явлений на базе физиологии, безусловно, находила поддержку со стороны материалистов. Кроме того, то обстоятельство, что Павлов постоянно подчеркивал необходимость изучения организма в его целостности, «во всем богатстве его связей», всячески приветствовалось советскими авторами, поскольку согласовывалось с диалектическим принципом взаимосвязанности материального мира. Подчеркивание Павловым уникальности человека, обладающего второй сигнальной системой, рассматривалось как понимание качественных различий, существующих между организмами, принадлежащими к различным уровням организации материи, — различий, основанных на принципе перехода количественных изменений в качественные. Описание человеческого тела как системы, отличающейся «уникальностью по степени саморегуляции», которое давал в своих работах Павлов, рассматривалось, с одной стороны, как предвосхищение кибернетических концепций, а с другой — как понимание Павловым диалектического характера процесса развития материи.
Исследователи в Советском Союзе и за его рубежами зачастую по-разному смотрят на то, что собой представляет учение Павлова, по-разному оценивают его значение. Ученые, живущие за пределами Советского Союза, часто склонны рассматривать это учение как ограниченное рамками экспериментальных исследований и гипотез, имеющих отношение к условным и безусловным рефлексам. Для некоторых из них имя Павлова ассоциируется прежде всего с картиной, происходящей в мозгу собаки в процессе слюноотделения. С другой стороны, советские исследователи рассматривают теорию Павлова не только как собрание подобных фактов и заключений, но также и как некий общий подход к изучению природы вообще и биологии в частности. Павлов сам дал основания для подобной трактовки, когда в беседе с американским психологом К.С. Лэшли в ответ на просьбу последнего дать определение понятия «рефлекс» сказал:
«Теория рефлекторной деятельности опирается на три основных принципа точного научного исследования: во-первых, принцип детерминизма, то есть толчка, повода, причины для всякого данного действия, эффекта; во-вторых, принцип анализа и синтеза, то есть первичного разложения целого на части, единицы и затем снова постепенного сложения целого из единиц, элементов, и, наконец, в-третьих, принцип структурности, то есть расположения действий силы в пространстве, приурочение динамики к структуре»[8].
В ответ на это заявление Павлова Лэшли в свою очередь заметил, что данное определение является настолько широким, что его можно рассматривать в качестве общего принципа для всей науки. Однако Павлов твердо настаивал именно на этой формулировке, которую впоследствии часто приводили в ходе дискуссии о значении теории рефлекса в советской литературе[9].
Некоторые советские авторы предлагали различать собственно физиологический и философский смысл понятия «рефлекс», открывая тем самым возможность для разговора об известной ограниченности учения Павлова, не касающейся, однако, его методологического значения. Подобное различие предлагал делать Ф.В. Бассин — известный советский ученый, занимавшийся проблемами бессознательного и отмечавший значение работ Фрейда в то время, когда это было весьма редким явлением для советской науки, выступая на Всесоюзном совещании по философским вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии; по его мнению, самое большое значение работ Павлова заключалось в том, что в их основе лежала идея о влиянии внешних условий на формирование и развитие биологических факторов. Он говорил:
«Тот, кто отказывается от рефлекторной теории в ее философском понимании, отказывается больше чем от павловского учения: он отказывается от диалектико-материалистического истолкования биологических процессов вообще. Это, безусловно, так, ибо приверженность рефлекторному принципу в его философском понимании (то есть идея принципиальной зависимости биологических процессов от факторов среды) — это то основное, то самое глубокое, что отличает нас от сторонников идеалистической биологии с ее подчеркиванием имманентности, спонтанности и, следовательно, принципиальной арефлекторности жизненных процессов... Я напоминаю об этом, ибо нужно ясно видеть разницу между рефлекторным принципом в его общем, философском понимании и конкретным представлением о физиологической структуре...»[10]
История развития советской психологии богата событиями и довольно противоречива. Поскольку в настоящей работе основное внимание мы сосредоточиваем на послевоенных годах, то подробное описание раннего периода развития советской психологии было бы просто невозможно. Этот период, правда, затрагивается в связи с обсуждением некоторых работ Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.Н. Леонтьева, деятельность которых будет анализироваться в соответствующих разделах данной главы. Более детальное описание этого периода истории советской психологии можно найти в книге А.В. Петровского «История советской психологии» (М., 1967) или в книге Раймонда Бауэра «Новый человек в советской психологии»[11].
Сразу же после революции в России можно было обнаружить представителей нескольких школ в психологии. К числу тех, кто разделял идеалистические взгляды на психологию, принадлежали Н. Лосский и С. Франк, отстраненные от занимаемых постов вскоре после революции. Другую группу составляли представители экспериментальной психологии, чьи взгляды находились под сильным влиянием «субъективной психологии»; после революции они предпочли занять нейтральные позиции «эмпирической психологии», надеясь таким образом избежать возможных осложнений. К их числу принадлежали Г.И. Челпанов и А.П. Нечаев. Третья группа состояла в основном из физиологов, в числе которых прежде всего следует назвать В. М. Бехтерева; с сомнением относясь к самому термину «психология», представители этой группы стремились к ее реконструкции на подлинно научной, объективной основе.
Первым советским психологом, который призвал к применению марксизма в психологии, был К.Н. Корнилов — человек, чьи взгляды имели интересную историю в 20-30-х годах. Выступая на съездах психоневрологов в 1923 и 1924 гг., Корнилов пытался продемонстрировать действие законов материалистической диалектики в проводимых им психологических исследованиях. Он утверждал, что диалектический принцип всеобщих изменений распространяется и на сферу психологии, «в которой нет объектов, а существуют только процессы, в которой все находится в движении и не существует ничего статичного»[12]. Диалектический принцип взаимосвязанности материи, продолжает он, обнаруживает себя в тенденции «крайнего детерминизма», присущей психологическим исследованиям, включая и школу Фрейда. Этот принцип находится в полном соответствии и с принципами гештальтпсихологии, а также взглядами, подчеркивающими важность изучения всех форм поведения, а не отдельных частей поведенческого опыта. По его мнению, в психологических следованиях можно обнаружить множество примеров, иллюстрирующих действие закона перехода количества в качество путем скачков: это и способность различать цвета (когда количественное различие в частоте различных световых волн приводит к качественному различию между воспринимаемыми цветами), это и концепция «порогов в восприятии», и закон Вебера — Фехнера, согласно которому человек различает предметы различного веса, и т. д.
Подобно Энгельсу в моменты его наибольшего подъема, Корнилов готов видеть действие принципов диалектики буквально везде. Неудивительно поэтому, что вскоре Корнилов был подвергнут критике за то, что применял диалектику «чисто формально», используя ее как средство оправдания уже ведущихся исследований, а не как методологию, руководящую направлением исследований. Особенную критику вызвало его утверждение о том, что «реактология» (термин, используемый Корниловым для обозначения собственного подхода к психологии) представляет собой диалектический синтез субъективной и объективной тенденций в советской психологии — синтез, позволяющий сохранить понятия «сознание», «психика» при одновременном использовании результатов исследований в области физиологии рефлексов[13].
Несмотря на все попытки Корнилова установить связь между собственными исследованиями и диалектикой, нельзя утверждать, что марксизм оказывал главное влияние на его работу. Его усилия, направленные на соединение элементов субъективной психологии с новыми данными в области физиологии рефлексов, проистекали из его убеждения в том, что оба этих направления обладают известными преимуществами. Он думал, что физиологи и бихевиористы, сконцентрировав свое внимание исключительно на вопросах мускульных реакций, не посягали тем самым на сферу ответственности психологов. С другой стороны, представители традиционной психологии слепо игнорировали работы таких ученых, как Павлов, Бехтерев и их последователи. После 1923 г. Корнилов возглавил Московский институт физиологии, где работали такие ученые, как Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия, чьи работы впоследствии приобрели широкую известность. Они также тесно сотрудничали с группами исследователей, возглавляемыми П.П. Блонским и М.А. Рейснером. Все эти люди в то время пытались экспериментировать с различными направлениями в психологии, что стало невозможным позднее в связи с наступившим идеологическим давлением на науку со стороны партии и государства.
Среди основных направлений или школ, существовавших в то время в советской психологии и физиологии, помимо «реактологии» следует назвать «рефлексологию» М. Бехтерева (1858-1927). От «реактологии» она резко отличалась тем, что отказывалась от использования таких традиционных понятий, как «психика», «внимание» и «память». Взгляды этого направления или школы основывались на двух различных источниках: материалистической традиции в русской физиологии (идущей от Сеченова и Павлова к трудам самого Бехтерева) и американском бихевиоризме. Еще задолго до революции Бехтерев утверждал, что всякий мыслительный процесс (будь то осознанный или бессознательный) рано или поздно проявит себя в поведении, которое можно будет наблюдать объективно. И именно на основе этих наблюдений Бехтерев и его последователи и ученики надеялись построить науку о поведении. В 20-е годы этот подход обрел такую популярность, что само существование психологии как отдельной научной дисциплины оказалось под угрозой. Так, в названии курсов, читаемых в высших учебных заведениях Украины в 1927 г., термин «психология» был заменен на «рефлексология».
В 20-е годы среди советских исследователей существовал неподдельный интерес к психологии 3. Фрейда, а также споры по поводу того, насколько его учение соответствует марксистской интерпретации психологии. Однако уже в то время было совершенно ясно, что со временем сам термин «фрейдизм» приобретет для советских марксистов уничижительный смысл. Отчасти интерес к учению Фрейда объяснялся простым любопытством; многие статьи, выходящие в то время в советских политических и литературных журналах, содержали элементарное изложение или описание работ Фрейда. В то время Фрейдом еще не были опубликованы его последние работы, содержащие критику коммунизма[14]. Для некоторых советских исследователей учение Фрейда выступало как торжество идей детерминизма, означающее конец представлений о свободе воли. В одной из статей, опубликованных в 1923 г. в главном марксистском теоретическом журнале, Б. Быховский отмечает, что «психоанализ в основе своей есть учение, проникнутое монизмом, материализмом... и диалектикой, то есть методологическими принципами диалектического материализма» [15]. Подобные же замечания делались в то время такими интеллектуальными и политическими лидерами, как М.А. Рейснер, А.П. Пинкевич и Л. Троцкий[16]. Однако к концу 20-х годов обсуждение работ Фрейда в советской литературе сменилось открытой критикой в адрес его учения.
К концу 20-х годов в развитии советской психологии появляется новая тенденция[17], связанная с пониманием достаточно широким кругом исследователей того, что теперь, после поражения сторонников «субъективизма» и «интроспекции», наибольшая опасность советской психологии грозит «слева» — со стороны тех воинствующих материалистов, которые надеялись, что чисто физиологический подход к пониманию мыслительной деятельности сможет поглотить психологию. Защитники психологии сплотили свои ряды в «великой борьбе за сознание». Эта борьба, которая закончилась победой сторонников психологии и сознания, носила на себе отпечаток того времени. В связи с этим хотелось бы предостеречь историков науки от ошибок в оценках, связанных с тенденцией смотреть на события, происходящие в Советском Союзе, как на нечто, не имеющее значения для Истории развития мысли в целом. В те годы специалисты во многих страдах обсуждали проблему значимости понятия «сознание». Как пишет Эдвин Г. Боринг в статье «История психологии», опубликованной в «Британской энциклопедии», «к концу 20-х годов гештальтпсихология и бихевиоризм завоевали господство в борьбе с устаревшим интроспекционизмом. Однако в 30-х годах обе эти школы приходят в упадок или, по крайней мере, утрачивают свою агрессивность. На смену бихевиоризму приходит операционализм, как более утонченное направление психологических исследований, и одним из центральных вопросов для психологии начала 40-х годов становится вопрос о том, сумеет ли гештальтпсихология сохранить понятие «сознание» или же операционализму удастся редуцировать это понятие к терминам, определяющим способ его изучения»[18].
Отголоски этих процессов, происходящих в развитии мировой психологической науки, наблюдались и в процессах, происходящих в советской психологии. В Советском Союзе, так же как и в других странах, критика концепции интроспекционизма увенчалась успехом, можно даже сказать, что в Советском Союзе этот «успех» носил избыточный характер, поскольку был достигнут с помощью специфического политического инструментария, находящегося в распоряжении Коммунистической партии, — все возрастающего контроля над деятельностью ученых, а также редколлегий различных журналов. Так же как и в других странах, в Советском Союзе на смену грубому механицизму раннего бихевиоризма пришел более утонченный подход, что тем не менее не умаляло достижений бихевиоризма.
Вместе с тем история развития психологии в Советском Союзе обладает и уникальными, специфическими для этой страны чертами. Язык дискуссий здесь все больше становится языком теоретического марксизма. Более того, различного рода политические решения, принимаемые Коммунистической партией, с течением времени стали оказывать все возрастающее непосредственное влияние на сам ход этих дискуссий. Так, скажем, решение об ускорении темпов индустриализации потребовало от части советских граждан огромного напряжения не только физических сил, но и огромной силы воли. В этих условиях могли приветствоваться (и на самом деле приветствовались) такие психологические теории, в которых подчеркивалось бы значение собственных усилий личности, направленных на самореализацию. Многие авторы, занимавшиеся изучением истории развития советской психологии, обращали внимание именно на это смещение в ее акцентах. Одна из глав уже упоминавшейся книги Р. Бауэра, посвященная этому вопросу, носит весьма характерное в этом отношении название — «Сознание приходит к человеку»[19]. Марксистская теория объясняет эти процессы на основе так называемой «ленинской теории отражения», согласно которой разум или сознание играет активную роль в процессе познания.
В начале 30-х годов, по мере того как «рефлексология» Бехтерева постепенно утрачивала свою популярность, советская психология завоевывает все более прочные позиции. Как мы увидим в разделах этой главы, посвященных взглядам Выготского, Лурия, Леонтьева и Рубинштейна, марксизм все более утонченным образом включается в психологическую теорию. Все более возрастающая утонченность психологической теории сопровождалась (как ни удивительным это может показаться) ростом интереса к таким областям практической деятельности, как промышленность и образование. В это время возникают и бурно развиваются такие направления, как инженерная психология, психотехника, исследования по научной организации труда (НОТ). Важную роль в начале 30-х годов играют и исследования в области педагогической психологии.
Проблемы, вызвавшие появление 4 июля 1936 г. постановления ЦК ВКП(б) об извращениях в системе народного образования, на самом деле были социальными проблемами. Это постановление обвиняло педологов в попытках «объяснять недостатки в поведении учеников наследственными и социальными факторами»[20]. Другими словами, речь шла о «вечном» вопросе о соотношении наследственных факторов и факторов среды, а также о том, как с помощью системы образования преодолеть вредные влияния обоих этих факторов. В 30-е годы в Советском Союзе предпринимались огромные усилия, направленные на ликвидацию безграмотности достаточно большой части населения. С точки зрения выполнения этой монументальной задачи необходимы были конкретные предложения в области элементарной педагогики, а не теоретические споры по поводу того, какие факторы имеют определяющее значение для развития интеллекта. В связи с этим совершенно прав был, как представляется, американский исследователь Бауэр, когда писал, что критика в адрес тех психологов, которые занимались образовательными проблемами, была вызвана тем, что «в своих профессиональных изысканиях они были ориентированы скорее на поиски оправданий, нежели средств, помогающих избежать недостатков»[21]. Следует отметить, что с точки зрения социальной реформы, осуществляемой в советском обществе, этот вопрос — вопрос о необходимости связи между теоретическими исследованиями и их практическим применением — имел важное значение не только в Советском Союзе; со сходными проблемами и дискуссиями по поводу их разрешения можно столкнуться и в других странах. Академическая наука, в том числе и социальная, зачастую оказывается как бы в стороне от тех практических проблем, которые стоят перед обществом; иногда эта «отстраненность» носит буквально безнравственный характер. Что касается разрешения этой проблемы в условиях, существовавших в Советском Союзе в 1936 г., то она была решена не столько в результате ее обсуждения «снизу», сколько путем политических указаний, последовавших «сверху».
В конце 30-х годов политическая атмосфера в Советском Союзе носила весьма мрачный и зловещий характер, и в последующие годы (особенно сразу же по окончании второй мировой войны) ситуация не только не улучшилась, а ухудшилась. Именно в эти годы устанавливается сталинская система политического контроля. Жертвами кампании «чисток» в партии стали многие из тех, кто ранее выступал за обновление психологии. Позднее советские историки признавали, что в те годы политический контроль нанес серьезный ущерб многим областям советской науки, включая и психологию. Как писал об этом в 1966 г. известный советский историк психологии М.Г. Ярошевский, «критика педологии проходила в сложной обстановке второй половины 30-х годов и нередко сопровождалась отрицанием всего положительного, что было сделано советскими учеными, так или иначе связанными с педологией, но вместе с тем творчески развивавшими педагогику и психологию»[22].
К счастью, многое из того, что имело важное значение для развития советской психологии, было сделано еще до установления этого жесткого политического контроля. К числу этих достижений относятся работы Л.С. Выготского, который проводил свои исследования в конце 20 — начале 30-х годов.
1. Под этим названием рукопись была передана Сеченовым для публикации в литературный и социально-политический журнал «Современник», где ее публикация была запрещена цензурой. Уже сам факт того, что подобный журнал собирался опубликовать работу по физиологии, указывает на то философское и политическое звучание, которое имела эта работа. Позднее она все-таки была опубликована, но уже в специальном журнале — «Медицинском вестнике».
2. В своей книге «Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке: вторая половина XIX — начало XX в.» (М., 1960. С. 108) Е.А. Будилова называет печатный орган Московского общества психологов, начавший выходить с 1890 г., «органом реакции в науке», «трибуной воинствующего идеализма», что было характерно для него на протяжении «всех 28 лет его существования».
3. В настоящее время над этим вопросом работает Дэвид Жоравски.
4. Цит. по: Асратян Э.А. И.П. Павлов. Жизнь, творчество, современное состояние учения. М., 1981. С. 181.
5. Цит. по Babkin B.P. Pavlow: A Biography. Chicago: Univ of Chicago Press, 1949. Р. 276-277.
6. См. об этом в моей книге The Soviet Academy Of Sceinces and the Communist Party, 1927-1932. Princeton, 1967. Р. 108, 109, 113, 116-118.
7. Анохин П.К. Иван Петрович Павлов: жизнь, деятельность и научная школа. М.; Л., 1949. С. 352.
8. См.: Академик И.П. Павлов. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности. М., 1950. С. 167.
9. См., напр.: Купалов П.С. Учение о рефлексе и рефлекторной деятельности и перспективы его развития//Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии. М., 1963. С. 151.
10. Там же. С. 720.
11. Bawer R.A. The New Man in Soviet Psychology, Mass., 1952. Книга Петровского, опубликованная в тот период советской истории, в который политическое давление со стороны государства было относительно ослаблено, содержит интересный материал о творчестве таких людей, как П.П. Блонский, К.Н. Корнилов и Б.М. Бехтерев. Позднее взгляды этих людей подвергались критике со стороны Коммунистической партии, однако в книге Петровского их попытки реконструировать дореволюционную психологию освещаются с известной симпатией. Что касается книги Бауэра, то в ней, как это ни удивительно, не содержится анализа попыток отдельных советских ученых связать свои взгляды с марксизмом. При этом предполагается, что эти попытки носили чисто конъюнктурный, лицемерный характер. Подход Бауэра к этому вопросу, как представляется, затрудняет понимание того обстоятельства, что некоторые советские психологи, особенно в последние годы, вполне серьезно относятся к марксизму.
12. Корнилов К. Диалектический метод в психологии//Под знаменем марксизма. 1924. Январь. С. 108.
13. См.: Струминский В. Марксизм в современной психологии//Под знаменем марксизма. 1926. Март. С. 213. Сам Струминский относился к тем воинствующим материалистам, чьи научные познания носили весьма поверхностный характер. Критику его взглядов и его ответы на нее см.: Под знаменем марксизма, 1923. Ноябрь-декабрь. С. 299-304, и там же. 1924. Март. С. 250-254, 255-259.
14. Freud S. Civilization and Its Discontents. N. Y., 1961. Р. 59-61.
15. Быховский Б. О методологических основаниях психоаналитического учения Фрейда//Под знаменем марксизма. 1923. Ноябрь-декабрь. С. 169, 176-177.
16. Об интересе Троцкого к Фрейду в 20-х и 30-х годах пишет в своей книге «Записные книжки Троцкого. 1933-1935 гг.» Ф. Помпер (Pomper Ph. Trotsky's Notebooks, 1933-35; Writings on Lenin, Dialectics and Evalutionism. N. Y., 1986).
17. К сожалению, мы не располагаем здесь местом, чтобы обсудить достижения в такой важной области советской психологии того времени, какой являлась «психотехника». Эти достижения сыграли важную роль в истории развития советской психологии в целом.
18. Boring E.G. Psychology, History of //. Encyclopedia Britannica. Chicago, 1959. V. 18. Р. 713.
19. Bauer R. Consciousness Comes to Man//Bauer R. The New Man in Soviet Psychology. P. 93-102.
20. Bauer R. The New Man in Soviet Psychology. P. 124.
21. Там же.
22. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1966. С. 542.
Л.С. Выготский
Одно из наиболее важных влияний на развитие советской психологии оказали работы Льва Семеновича Выготского (1896-1934); его идеи (особенно после публикации в 1962 г. английского перевода его работы «Мышление и речь»[1]) получили широкое распространение и за пределами Советского Союза. Значение его работ еще более возрастает, если вспомнить о том, что он скончался в возрасте 38 лет и последние, самые важные свои работы написал, будучи уже тяжело болен туберкулезом. Как говорил спустя много лет один из наиболее известных его учеников — А.Р. Лурия, «всему хорошему в развитии русской психологии мы обязаны Выготскому»[2]. Посвящая одну из важнейших своих книг — «Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга» его памяти, Лурия отмечал, что во многих отношениях она может «рассматриваться как развитие идей Выготского»[3].
Однако Выготский не всегда пользовался уважением и признанием со стороны официальных кругов в Советском Союзе. В период с 1936 по 1956 г. его работы находились в опале и практически не публиковались. Ниже мы еще обратимся к тому, что в 1950 г. сам Сталин выступил фактически против взглядов Выготского на проблему соотношения мышления и языка. Даже в 60-е годы и позднее, когда взгляды Выготского вновь обрели былую популярность в Советском Союзе, его теоретические представления получали не только положительные, но и отрицательные оценки со стороны советских историков психологии. Так, в одной из работ, опубликованных в 1966 г., А.В. Брушлинский писал о том, что, по его мнению, Выготский недооценивал эпистемологический аспект умственной деятельности человека; тем не менее, продолжал он, советская психология многим обязана Выготскому, поскольку он был первым, кто детально анализировал влияние социально-исторических факторов на становление и развитие человеческой психики[4]. Сегодня эта заслуга Выготского получает высокую оценку в Советском Союзе и описывается как важнейшее введение в марксистскую психологию. Его работы широко публикуются.
Представляется, что не может быть сомнений в том, что взгляды Выготского испытали на себе влияние со стороны марксистской философии (в том виде, разумеется, как он сам интерпретировал ее). Однако те из читателей его работ, которые знакомились с ними по их английскому переводу, могут и не согласиться с подобным утверждением и сделают это по вполне понятным причинам. Дело в том, что при подготовке этого перевода большинство ссылок на работы классиков марксизма-ленинизма было опущено, а что касается ссылок на Ленина, то они исчезли полностью. При этом, очевидно, переводники были убеждены в том, что ссылки на работы классиков марксизма носят конъюнктурный характер, а потому могут быть опущены без ущерба для собственно научного содержания работ Выготского[5]. В результате этой операции для историка психологии, не владеющего русским языком, становится практически невозможно понять исходные посылки подхода Выготского к рассматриваемым проблемам. Между тем знакомство с русским оригиналом дает ясное представление о том, что в этой работе Выготский пытался продемонстрировать связь, существующую между ленинской эпистемологией и его собственными взглядами на развитие мышления у детей. Он говорит о «единстве противоположностей», которыми являются «воображение и мышление в развитии своем... и их раздвоении» в процессе познания (с. 92, 101). Как мы увидим в дальнейшем, Выготский весьма критически относился к эпистемологическому дуализму, свойственному теории языка, выдвинутой Жаном Пиаже, и в особенности к тому, что Пиаже называл «аутистическим» использованием языка детьми. Выготский подчеркивал, что марксистский подход к изучению проблем языка позволяет вскрыть «социальный характер» его появления.
Одной из основных проблем, над разрешением которой работал Выготский, была проблема взаимоотношения мышления и речи. Его работы по этому вопросу часто сравнивают с работами Пиаже. Сам Выготский с похвалой отзывался о работах Пиаже в этой области, называя их «революционными», однако он отмечал также, что он «наложил печать двойственности на эти исследования, как и на все выдающиеся и действительно прокладывающие новые пути психологические произведения эпохи кризиса».
Его работы — «детище кризиса, охватившего самые основы нашей науки, знаменующего превращение психологии в науку в точном и истинном значении этого слова и проистекающего из того, что фактический материал науки и ее методологические основания находятся в резком противоречии... Сущность его заключается в борьбе материалистических и идеалистических тенденций...» (с. 57).
В одной из своих ранних работ Пиаже постулировал три стадии в развитии форм мышления у ребенка: 1) аутизм, 2) эгоцентризм, 3) социализация. На первой из этих стадий мышление ребенка носит подсознательный характер и направлено на достижение самоудовлетворения. На этой стадии ребенок еще не пользуется языком и не приспосабливается к существованию других людей, обладающих собственными нуждами и желаниями. Он еще не воспринимает такие понятия, как «истина» и «ошибка». На последней из этих стадий ребенок уже оказывается адаптированным к окружающей его действительности, пытается влиять на нее, с ним можно разговаривать. Он уже понимает законы логики. На промежуточной стадии — стадии эгоцентризма — мысль ребенка, по мнению Пиаже, «представляет собой средину между аутизмом в строгом смысле слова и социализированной мыслью»[6]. На этой стадии ребенок использует язык, но только для себя; он размышляет вслух. Таким образом, названные три стадии представляют собой схему развития мышления ребенка, основанную на представлении о том, что «первичной, обусловленной самой психологической природой ребенка формой мышления является аутистическая форма; реалистическое же мышление является поздним продуктом, как бы навязываемым ребенку извне с помощью длительного и систематического принуждения, которое оказывает на него окружающая его социальная среда» (с. 64).
Принимая в целом то описание, которое дает этим стадиям Пиаже, Выготский отрицает их последовательность. Он так пишет об этом:
«История детской мысли для Пиаже — это история постепенной социализации глубоко интимных, внутренних, личных, аутистических моментов, определяющих детскую психику. Социальное лежит в конце развития, даже социальная речь не предшествует эгоцентрической, но следует за ней в истории развития.
...Схематически рассуждая, можно сказать, что наша гипотеза обязывает нас представить весь ход развития в следующем виде. Первоначальной функцией речи является функция сообщения, социальной связи... Таким образом, первоначальная речь ребенка — чисто социальная...
Лишь далее, в процессе роста, социальная речь ребенка, которая является многофункциональной, развивается по принципу дифференциации отдельных функций и в известном возрасте довольно резко дифференцируется на эгоцентрическую и коммуникативную речь. Мы предпочитаем так назвать ту форму речи, которую Пиаже называет социализированной, как по тем соображениям, которые нами уже высказаны выше, так и потому, что, как увидим ниже, обе эти формы речи являются с точки зрения нашей гипотезы одинаково социальными, но разно направленными функциями речи. Таким образом, эгоцентрическая речь, согласно этой гипотезе, возникает на основе социальной путем перенесения ребенком социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных психологических функций.
...Действительное движение процесса развития детского мышления совершается не от индивидуального к социализированному, а от социального к индивидуальному — таков основной итог как теоретического, так и экспериментального исследования интересующей нас проблемы» (с. 86-88).
В результате Выготский приходит к тому, что, собственно, и принесло ему известность, — к концепции, «интернализации речи»:
«Согласно мнению Пиаже, эгоцентрическая речь возникает из недостаточной социализации изначально индивидуальной речи. Согласно нашему мнению, она возникает из недостаточной индивидуализации изначально социальной речи, из ее недостаточного обособления и дифференциации, из ее невыделенности. В первом случае эгоцентрическая речь - пункт на падающей кривой, кульминация которой лежит позади. Эгоцентрическая речь отмирает. В этом и состоит ее развитие. У нее есть только прошлое. Во втором случае эгоцентрическая речь — пункт на восходящей кривой, кульминационная точка которой лежит впереди. Она развивается во внутреннюю речь» (с. 348-349).
Таким образом, перед Выготским встала задача объяснить, а что же, собственно, происходит на самом раннем этапе развития ребенка или, как называл это Пиаже, на аутистической стадии? Что происходит с ребенком, который еще не умеет говорить? Может ли он думать? Было совершенно очевидно, что если бы Выготский дал положительный ответ на последний вопрос, то тогда ему пришлось бы искать совершенно различные истоки происхождения мышления и речи. И именно это он и сделал. Согласно Выготскому, мышление и речь имеют различные корни и развиваются по различным «кривым», которые в процессе роста ребенка могут «расходиться и сходиться», но «затем снова разветвляться». Существует «доречевая фаза в развитии интеллекта и доинтеллектуальная фаза в развитии речи» (с. 119, 131). Решающим моментом (исследованным У. Штерном) является тот, когда эти «кривые развития» мышления и речи пересекаются между собой первый раз; начиная с этого момента «речь становится интеллектуальной, а мышление — речевым» (с. 133). Выготский был убежден в том, что Штерн преувеличивал роль интеллекта как «чего-то изначального... стоящего действительно в начале развития речи», однако он соглашался с тем, что «Штерн лучше и раньше других описал это важнейшее в психологическом развитии ребенка событие... Ребенок в эту пору, как говорит Штерн, делает величайшее открытие в своей жизни», когда начинает видеть связь между словом и объектом. Начиная с этого момента мышление становится речевым, а речь становится интеллектуальной (с. 133-134).
Таким образом, источник «доречевого мышления» отличается от источника речи. Источник «доречевого мышления» похож на зародышевые формы мышления некоторых видов животных, в то время как речь имеет социальное происхождение. Здесь Выготский указывает на связь своих представлений с марксистским анализом этой проблемы:
«Не является для марксизма и сколько-нибудь новым то положение, что в животном мире заложены корни человеческого интеллекта... В этом же смысле говорит и Плеханов... Энгельс пишет: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция, следовательно, также абстрагирование... анализ незнакомых предметов (уже разбивание ореха есть начало анализа), синтез и, в качестве соединения обоих, эксперимент... По типу все эти методы... совершенно одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени (по развитию соответственного метода) они различны». ...Мы совсем не намерены приписывать Энгельсу и менее всего сами собираемся защищать ту мысль, что у животных мы находим человеческие или даже человекоподобные речь и мышление» (с. 141-142).
В этом месте критики Выготского скорее всего обвинят его в редукциоизме, поскольку в своем анализе он видит слишком большое сходство между человеком и животным. Однако, по мысли Выготского, ответ на подобную критику может быть дан путем подчеркивания качественного отличия тех характеристик и свойств, которые появляются после того, как перекрещиваются линии развития мышления и речи, то есть после того, как происходит великое открытие, сделанное ребенком, о котором говорил. Штерн. Согласно Выготскому, последующий период — это не просто продолжение предыдущего:
«...изменился и самый тип развития — с биологического на общественно-исторический.
...Речевое мышление представляет собой не природную, натуральную форму поведения, а форму общественно-историческую и потому отличающуюся в основном целым рядом специфических свойств и закономерностей, которые не могут быть открыты в натуральных формах мышления и речи. Но главное заключается в том, что с признанием исторического характера речевого мышления мы должны распространить на эту форму поведения все те методологические положения, которые исторический материализм устанавливает по отношению ко всем историческим явлениям в человеческом обществе. Наконец, мы должны ожидать заранее, что в основных чертах самый тип исторического развития поведения окажется в прямой зависимости от общих законов исторического развития человеческого общества» (с. 146).
Итак, Выготский разработал концепцию отношения мышления и языка — концепцию, обладающую внутренней последовательностью и логичностью, приведшими в конечном итоге к марксистской концепции социального развития. Согласно этой концепции, мышление и язык имеют различные корни — мышление в доречевых формах, связанных с биологическим развитием человека, а язык в доинтеллектуальных формах, связанных с социальным окружением ребенка. Однако когда ребенок открывает для себя то, что каждый объект в окружающем его мире имеет свое название, имя, то в этом открытии диалектически участвуют обе эти категории (мышление и язык); и с этого момента мышление и язык перестают существовать отдельно друг от друга. «Интернализация» языка служит причиной того, что мысль начинает выражаться в форме внутренней речи; в свою очередь, влияние логики на развитие речи приводит к тому, что она становится все более связной и осмысленной.
Некоторые аспекты схемы Выготского остаются неясными. Например, он проводит параллель между «доречевым» мышлением ребенка и умственной деятельностью таких животных, как шимпанзе. При этом он, разумеется, допускает, что в физиологическом отношении существует различие между мозгом ребенка и мозгом шимпанзе. Однако, в какой степени это различие определяет качественное отличие «доречевого» мышления ребенка, остается неясным. В рамках его концепции преимущественное значение для понимания различий между человеком и животным имеют социоисторические факторы, выраженные в языке, нежели биологические различия между мозгом человека и животного. Будучи материалистом и монистом, Выготский соглашается с тем, что те самые социоисторические факторы, значение которых он подчеркивает, в свою очередь, имеют материальные источники в истории биологического развития человека. Он приводит высказывание Энгельса о значении использования орудий труда на процесс развития и становления человека. Таким образом, в конечном итоге различие в источниках происхождения мышления и языка оказывается относительным, а не абсолютным. В жизни отдельного человека, однако, это различие имеет вполне определенный характер, и именно это обстоятельство подчеркивал Выготский в своих работах.
Взгляды Выготского на проблему происхождения мышления и языка прямо противоречили сталинскому учению. В своей работе «Марксизм и вопросы языкознания» Сталин писал:
«Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы они ни возникли, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи», — не существует... Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка»[7].
Трудно себе представить более ясного противоречия, нежели то, которое существовало между взглядами высшего советского авторитета и взглядами Выготского, считавшего, что мышление и язык имеют не только разные корни, но и что «отношение между мышлением и речью не является сколько-нибудь постоянной величиной на всем протяжении филогенетического развития» (с. 131). Как следствие, возрождение интереса к работам Выготского могло произойти только после смерти Сталина. Этот глава государства предписывал марксистским ученым и интеллектуалам придерживаться такой интерпретации марксизма, которую они с трудом воспринимали.
Здесь я хотел бы обратиться к тому периоду истории советской психологии, который наступил после второй мировой войны. В связи с этим особый интерес представляют работы С.Л. Рубинштейна, одного из тех советских ученых, которые оказали огромное влияние на решение вопросов, связанных с философской интерпретацией проблем психологии и физиологии. Однако прежде чем перейти к анализу этих работ, необходимо сказать несколько слов о том идеологическом давлении, которое оказывалось на представителей советской психологической и физиологической науки в период, последовавший за 1945 годом. Следует отметить, что одной из самых мрачных страниц истории советской науки этого периода явилась состоявшаяся в 1950 г. научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова (28 июня-4 июля 1950 г.)[8]. В интеллектуальном отношении эта сессия представляет меньший интерес, нежели состоявшееся в 1962 г. совещание, в результате которого в Советском Союзе были возрождены подлинно научные исследования в области психологии и физиологии; об этом совещании речь пойдет в специальном разделе этой главы. Тех же, кто заинтересуется материалами сессии, состоявшейся в 1950 г., и захочет познакомиться с ними более подробно, я отсылаю к английскому переводу этих материалов, а также некоторым другим работам[9].
Сначала многие советские ученые, представляющие различные области науки, надеялись, что после окончания войны идеологическая атмосфера в советском обществе будет характеризоваться ослаблением давления со стороны партии и государства. Однако этим надеждам не суждено было сбыться — сразу же после смерти А.А. Жданова, последовавшей в 1948 г., партийный контроль над наукой, включая такие ее области, как физика, генетика, космология, химия и физиология, еще более усилился. Причины, вызвавшие усиление идеологического давления на науку, довольно трудно установить; наиболее важным фактором явились, по-видимому, особенности характера и личности самого Сталина. В то же время в числе этих причин нельзя не упомянуть и напряженность, характерную для международных отношений того времени, а также наличие механизмов, позволявших Сталину оказывать влияние на развитие научных исследований в стране. В период с 1948 по 1952 г. в Советском Союзе был проведен целый ряд конференций, где рассматривались отношения между наукой и идеологией; в их числе была и так называемая «Павловская сессия», посвященная проблемам психологии и физиологии и организованная АН СССР и АМН СССР 28 июня-4 июля 1950 г. К. сожалению, в английском переводе материалов этой сессии, опубликованных в Москве в 1951 г., отсутствуют выступления П.К. Анохина, И.С. Бериташвили, Л.А. Орбели и некоторых других ученых, высказывавших несогласие с официальными позициями в этой области.
Открывая работу сессии, тогдашний президент АН СССР Сергей Вавилов — брат погибшего генетика Николая Вавилова — говорил о том, что в задачу этой встречи входило возрождение павловского учения; другими словами, это означало, что в ходе этой сессии не будут предприняты попытки поиска новых путей в исследовании проблем, стоявших перед психологией и физиологией, новых подходов к этим проблемам, основанных на материалистических принципах. Участники сессии и все представители психологической и физиологической науки отдавали себе отчет в том, что результаты ее работы были заранее предопределены; эта уверенность объяснялась тем, что всего два года назад состоялась печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ, в ходе которой Лысенко и его «мичуринская школа» были официально провозглашены представителями «единственно верного направления в генетике». В своей речи С. Вавилов дал следующую оценку положения в советской психологии и физиологии того времени:
«Были также случаи, к счастью не слишком частые, попыток неправильной и необоснованной ревизии взглядов Павлова. Чаще же всего исследовательская мысль и работа шли не по магистрали, а в сторону, по объездам и проселкам. Как это ни удивительно, как это ни странно, широкая павловская дорога у нас обнажилась, по ней последовательно и систематически двигались сравнительно немногие. Павловская материалистическая прямолинейность оказалась фактически не всегда и не всем по силам... Впору бить тревогу... Наш народ и все передовое человечество не простят нам, если мы не используем должным образом богатства павловского наследия... Нет сомнения, что возвращение на верную павловскую дорогу сделает физиологию наиболее действенной, наиболее полезной для нашего народа, наиболее достойной сталинской эпохи строительства коммунизма»[10].
Среди тех, чьи взгляды подверглись в ходе этой сессии наиболее суровой критике, были физиологи П.К. Анохин, Л.А. Орбели и И.С. Бериташвили, И.П. Разенков, бывший в то время вице-президентом АМН СССР, в своем выступлении обвинил одного из наиболее выдающихся советских физиологов — П.К. Анохина в том, что он, «допуская не раз серьезные уклонения в сторону от павловского учения, увлекался модными реакционными теориями зарубежных авторов вроде Когхилла, Вейса и др.»[11]. Заметим здесь же, что слова «зарубежные авторы» носили в то время исключительно отрицательный смысл, что было характерно для шовинистических настроений сталинской эпохи. Что же касается взглядов Анохина, то мы еще вернемся к их рассмотрению в специальном разделе этой главы.
В своей работе, опубликованной в 1967 г. и посвященной истории советской психологии (названной одним из американских психологов «пионерской», несмотря на известные недостатки)[12], А.В. Петровский пишет о «догматизме», присущем советской психологии в период после сессии 1950 года[13]. В своей книге Петровский отмечает, что в начале 50-х годов в Советском Союзе наблюдалась тенденция «ликвидировать» психологию совсем, заменив ее павловской физиологией. Подобное «нигилистическое отношение» к психологии, продолжает Петровский, напоминает события, связанные с распространением в начале 20-х годов «рефлексологии», также ставившей под сомнение законность существования психологии, однако «если в 20-е годы отрицательное отношение к психологии со стороны рефлексологов и бихевиористов во многом объяснялось — при всей его ошибочности — объективной необходимостью критики пережитков субъективизма в психологии, то в начале 50-х годов идея «ликвидации» психологии не могла быть обоснована никакими принципиальными соображениями»[14].
Как видим, ведущий советский историк психологии в довольно сильных выражениях обвиняет влияние сталинизма на развитие психологической науки того времени. Справедливости ради следует отметить, что при этом Петровский уклоняется от ответа на вопрос о том, в какой степени ответственность за события 50-х годов несет Сталин, а в какой — сама система, господствовавшая в то время в советском обществе и позволявшая ему осуществлять подобное давление в том числе и на науку.
Однако, несмотря на все политическое и идеологическое давление, оказываемое на советскую психологию и физиологию, они продолжали жить и развиваться. Одним из наиболее наглядных примеров, иллюстрирующих жизнеспособность советских ученых перед лицом величайших препятствий, встававших перед ними, является творчество С.Л. Рубинштейна.
1. Выготский Л.С. Мышление и речь.//Избранные психологические исследования. М., 1956.
2. Цит. по: Zangwill 0.L. Psychology. Current Apporoaches//The State of Soviet Science. Cambridge. 1965. P. 122.
3. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М., 1962. С. 2.
4. См.: Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления//Исследования мышления в советской психологии. М., 1966. С. 123-174.
5. В предисловии переводчиков отмечается, что, «хотя наш перевод и будет назван сокращенным вариантом, мы думаем, что эта более концентрированная версия оригинала будет способствовать более ясному представлению о нем и не нанесет ущерба тем мыслям и той фактической информации, которые в нем содержатся» (Hanfmann E., Vakar G. — Translators Preface//Vygotsky L.S. Thought and Language. Cambridge, 1962. Р. XII). В дальнейшем ссылки на русский оригинал этой работы (1956 г.) будут даваться непосредственно в тексте.
6. Цит. по: Выготский Л.С. Избранные психологические исследования... С. 63.
7. Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1955. С. 39.
8. См.: Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения ака-демика И.П. Павлова. 28 июня-4 июля 1950 г. Стенографический отчет. М., 1950.
9. Scientific Session on the Physiological Teaching of Academician I.P. Pavlov. Mosccow, 1951. Интерпретация событий того времени содержится в: Wetter G.A. Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union. N.Y., 1966. P. 473-487; Tucker R.C. The Soviet Political Mind: Studies in Stalinism and Post-Stalin change. N.Y., 1963. P. 91-121.
10. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова. С. 7-8.
11. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова. С. 10-11.
12. Brozek J. Soviet Contributions to History//Contemporary Psyhology (1969), 14(8). Р. 433. Хочу выразить профессору Брожеку признательность за экземпляр этого обзора, который он прислал мне.
13. Петровский А.В. История советской психологии. М., 1967. С. 336.
14. Там же.
С.Л. Рубинштейн
Построение теоретического анализа природы сознания и мышления на основе концепции диалектического материализма было той целью, к которой Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960) стремился в течение всей своей жизни. Это его стремление можно проследить практически во всех его работах, начиная со статьи «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса», опубликованной в 1934 г., и кончая книгой «Принципы и пути развития психологии», опубликованной в 1959 г., где он писал о том, что испытал огромное влияние «диалектико-материалистического понимания формирования психических (умственных) явлений»[1].
Работы Рубинштейна имели важное значение для формирования отношения к психологии, сложившегося в современном советском обществе. В 1942 г. он основал факультет психологии в Московском университете. С 1945 по 1960 г. он возглавлял сектор психологии в Институте философии АН СССР, где под его руководством выросла целая школа исследователей, изучавших проблемы соотношения психологического и физиологического с точки зрения марксистской теории. Его учебник «Основы общей психологии» (первое издание которого в 1940 г. получило Сталинскую премию) выдержал несколько изданий и рассматривался многими поколениями советских аспирантов как самое авторитетное пособие по психологии. Его более поздняя работа — «Бытие и сознание...» и сегодня рассматривается как «подлинно марксистская работа»; она была издана во многих странах и на разных языках, включая китайский; в 1959 г. эта работа Рубинштейна была удостоена Ленинской премии.
Узнав обо всех этих наградах, свидетельствующих об официальном признании заслуг Рубинштейна, можно подумать, что он был просто на службе у официальной советской идеологии, обыкновенным апологетом марксизма. Между тем он никогда не был таковым. Обладая широким и вместе с тем очень острым умом, он сумел даже в одной из первых своих работ — статье, опубликованной в 1934 г., представить то, что «можно рассматривать как первую марксистскую теорию мотиваций и способностей»[2]. В период сразу же после окончания второй мировой войны — наиболее мрачный для советских ученых период сталинского правления — Рубинштейн был подвергнут суровой критике за «объективистский, непартийный» подход к научным исследованиям, а также за некоторые из его теоретических формулировок. Под этим давлением он согнулся, но не сломался совсем. Он по-прежнему оставался человеком, который в ходе обсуждения в 1947 г. идеологических ошибок, допущенных Александровым при написании «Истории западноевропейской философии», мог обратиться с призывом изучать формальную логику[3]. Это было сделано в то время, когда кампания, направленная на замену формальной логики логикой диалектической, получала большую политическую поддержку со стороны партийного руководства. В 60-х годах в ходе дискуссий по сложным проблемам природы сознания ученые вновь обращались к работам Рубинштейна как одного из авторитетнейших теоретиков в этой области[4], опубликовавшего по этим проблемам три книги — в 1957, 1958 и 1959 гг. После его смерти в 1960 г. редакторы журнала «Вопросы философии» удостоили его некрологом, который был опубликован в этом журнале, где говорилось о том, что работы Рубинштейна еще долго сохранят свое значение для развития психологии[5].
Хотя некоторые проблемы и темы — например, определение понятия «сознание» — и присутствуют почти во всех работах Рубинштейна, следует отметить определенную эволюцию его взглядов, имевшую место на протяжении его жизни и деятельности, которую, как представляется, невозможно целиком объяснить как результат политического давления. Он был психологом, а не физиологом, и первые его работы были посвящены именно психологическим проблемам. Однако с течением времени его интерес к физиологии становился все большим, и он утверждал, что без понимания материальных основ умственной деятельности невозможно успешно продвигаться в анализе ее наиболее трудных проблем.
В 1946 г. в книге «Основы общей психологии» Рубинштейн много места уделяет анализу проблемы природы человеческой психики и степени, в которой сознание человека может быть описано с помощью понятий физики и химии. В этой книге он отрицает возможность сведения психического к физическому, в то же время предостерегая против опасности субъективизма или психофизического параллелизма. Пытаясь разрешить эту проблему, он выдвигает «принцип психофизического единства»:
«Принцип психофизического единства — первый основной принцип советской психологии. Внутри этого единства определяющими являются материальные основы психики; но психическое сохраняет свое качественное своеобразие; оно не сводится к физическим свойствам материи и не превращается в бездейственный феномен»[6].
Таким образом, Рубинштейн пытается обосновать позицию, согласно которой психическое и физическое образуют некое единство, сохраняя при этом присущие им свойства и характеристики. Сознание рассматривается им как не сводимое ни к психическому, ни к физическому, но как единство того и другого. Это единство носит противоречивый характер и является результатом того, что психические и физические свойства сознания как бы дополняют друг друга (следует заметить, что в более поздних изданиях Рубинштейн использовал для иллюстрации этой дополнительности аналогию с корпускулярной и волновой природой света; эта аналогия могла быть использована им только после того, как в советской физике кончились дебаты, связанные с самим принципом дополнительности).
Формулировки Рубинштейна, содержащиеся в работе 1946 г. издания, носили не вполне убедительный характер, и, читая другие его работы того времени, можно сделать вывод о том, что он сам отдавал себе в этом отчет. Дело в том, что эти формулировки представляли собой попытку совместить несовместимое. Когда физики, пытаясь избежать дилеммы квантовой механики, приписывали свету корпускулярные и волновые свойства одновременно, то это не разрушало (хотя и могло показаться, что разрушает) представлений о самом процессе. Материалисты могли приспособить свои взгляды (и на самом деле делали это) к столь необычной концепции физики, используя релятивистское понятие «материя-энергия» вместо понятия «материя» и утверждая, что как волны, так и частицы (а также всевозможные их комбинации) будут представлять собой эту материю-энергию. В то же время материалист вряд ли сможет спокойно отнестись к утверждению о том, что сознание одновременно представляет собой как «психическое», так и «физическое». Для совмещения этих понятий в понятии сознания материалисту необходим в этом случае принцип, эквивалентный принципу дополнительности, однако он им не располагает. Если «психическое» рассматривается как категория, то тогда необходимо либо каким-то образом приравнять ее к категории «материи-энергии», либо отказаться от представления, согласно которому существует только материя-энергия, разрушив тем самым одно из фундаментальных положений диалектического материализма. Рубинштейн понимал, что единственное решение этой проблемы заключается в попытке связать психическое с какой-либо формой материи, однако его представления об этой связи носили весьма расплывчатый характер. Он отдавал себе отчет в том, что его решение «не является окончательным», и призывал к дальнейшей работе над этой «весьма трудной задачей»[7].
Хотя позиция Рубинштейна, изложенная в книге 1946 г., и была весьма уязвимой, все же критика, которой подверг эту позицию В. Колбановский в своей статье, опубликованной в сентябре 1947 г. в журнале «Большевик», носила весьма несерьезный в интеллектуальном отношении характер. Большая часть обвинений касалась неспособности Рубинштейна дать критическую оценку психологических теорий, выдвигаемых на Западе, недостаточности у него партийного духа и т. п.[8]
Вместе с тем одно из теоретических возражений, выдвинутых Колбановским против Рубинштейна, заставило последнего пересмотреть свою позицию и в 1952 г. отказаться от принципа психофизического единства[9]. Как он сам писал об этом:
«...материалистический монизм означает не единство двух начал — психического и физического, — а наличие одного-единого начала — материального, по отношению к которому психическое является производным»[10].
Это было начало пересмотра Рубинштейном своих теоретических позиций, окончательным результатом которого явилась опубликованная им в 1957 г. монография, носящая название «Бытие и сознание: о месте психологического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира». В этой работе он подошел к более строгой материалистической формулировке психофизической проблемы. Другими словами, можно, как представляется, говорить о том, что пересмотр Рубинштейном своих ранних представлений явился результатом его собственной неудовлетворенности ими, а не был ответом на ту достаточно поверхностную критику, которой он подвергся в последние годы правления Сталина.
В книге «Бытие и сознание...», в отличие от более ранних своих работ, Рубинштейн попытался дать более полный и систематический анализ проблем, связанных с психической деятельностью. Для того чтобы лучше понять существо этого анализа, необходимо прежде всего рассмотреть некоторые общие положения, лежащие в его основе, а затем обратиться к его деталям.
Подход к проблемам, рассматриваемым Рубинштейном в этой книге, основывается на отрицании «классических» положений идеализма в области теории познания:
«Основной аргумент идеализма: в процессе познания нам никак не «выпрыгнуть» из ощущений, восприятий, мыслей; значит, нам не попасть в сферу вещей; поэтому надо признать, что сами ощущения и восприятия — единственно возможный объект познания. В основе этого «классического» аргумента идеализма лежит мысль, что для того, чтобы попасть в сферу реальных вещей, надо «выскочить» из сферы ощущений, восприятий, мыслей, что, конечно, для познания невозможно.
Этот ход мыслей заранее предполагает доказанным то, что он стремится доказать. Заранее предполагается, что ощущение и восприятие — это только субъективные образования, внешние по отношению к вещам, к объективной реальности. Между тем в действительности вещи причастны к самому возникновению ощущений; ощущения, возникая в результате воздействия вещей на органы чувств, на мозг, связаны с вещами в своем генезисе»[11].
Рубинштейн прав, когда говорит о том, что основной аргумент идеализма заранее предполагает доказанным то, что он стремится доказать, а именно исходит из того, что ощущения и восприятия не относятся к сфере материальной действительности, а следовательно, необходимо «выскочить» из их сферы, с тем чтобы попасть в сферу реальных вещей. Поскольку этого нельзя сделать, продолжает далее Рубинштейн, идеалисты предполагают рассматривать ощущения и восприятия в качестве единственных объектов познания — неких идеальных форм. При этом, однако, Рубинштейн не замечает того, что и его аргументация также исходит из доказанности того, что он пытается доказать (хотя признание этого обстоятельства и содержится в его аргументации в имплицитной форме). Тот, кто утверждает, что ощущения и восприятия оказываются наполненными смыслом, только будучи рассматриваемы как формы материальной действительности, также исходит из непроверяемого допущения. Другими словами, речь идет о том, о чем я уже говорил выше, а именно что вопрос о выборе между идеализмом и материализмом — это вопрос выбора философской позиции, а не вопрос логической правильности этих позиций. Подобно тому как постулат о параллельности может иметь различные интерпретации, на основе которых могут быть построены различные геометрии, проблема «разум — тело» (mind — body) также может быть решена по-разному, и на основе этого решения могут быть построены различные философские системы. В эпистемологии подлинно трудноразрешимой проблемой является не вопрос о том, что может быть доказано, а что — нет; дилемма здесь заключается в том, что выбор философских позиций оказывается основанным на случайных обстоятельствах. Если бы наука каждый раз была вынуждена ждать строгих доказательств, того или иного ее положения, то она не ушла бы далеко в своем развитии. Лучшая форма материализма могла бы быть построена на основании небольшого числа принципов, которые бы открыто признавались недоказуемыми, но в пользу которых тем не менее свидетельствовали достаточно убедительные аргументы. Рубинштейн никогда не говорил о том, что в своей исследовательской деятельности он исходит именно из этой позиции, однако то, что он говорил на самом деле, вполне ей соответствовало.
По мнению Рубинштейна, ощущения и восприятия служили своеобразным «входом» в сферу материальной действительности. Он пытался дать описание эпистемологии взаимодействия, практики (prahis). В 1946 г. он отрицал теорию, согласно которой происходит взаимодействие между независимыми друг от друга психическими и физическими явлениями. В 1957 г. он по-прежнему отрицает эту теорию; его новая эпистемология взаимодействия основывалась на том, что взаимодействуют между собой материальный мозг и отражения внешних по отношению к нему материальных объектов.
Его подход к этой проблеме основывался на общефилософском взгляде, согласно которому все явления в мире взаимосвязаны. Подобный взгляд имеет довольно древнее происхождение. В своей книге Рубинштейн так описывает его:
«Все явления в мире взаимосвязаны. Всякое действие есть взаимодействие, всякое изменение одного явления отражается на всех остальных и само представляет собой ответ на изменение других явлений, воздействующих на него. Всякое внешнее воздействие преломляется через внутренние свойства того тела, явления, которое ему подвергается. Всякое взаимодействие есть в этом смысле отражение одних явлений другими. Недаром Ленин писал: «...логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения...»
Свойство отражения, которым обладает все существующее, выражается в том, что на каждой вещи сказываются те внешние воздействия, которым она подвергается; внешние воздействия обусловливают и самую внутреннюю природу явлений и как бы откладываются, сохраняются в ней. В силу этого в каждом явлении своими воздействиями на него «представлены», отражены все воздействующие предметы; каждое явление есть в известном смысле «зеркало и эхо Вселенной». Вместе с тем результат того или иного воздействия на любое явление обусловлен внутренней природой последнего; внутренняя природа явлений представляет ту «призму», через которую одни предметы и явления отражаются в других.
В этом выражается фундаментальное свойство бытия. На этом основывается диалектико-материалистическое понимание детерминированности явлений как их взаимодействия и взаимозависимости»[12].
В этом интересном и достаточно честолюбивом пассаже Рубинштейн излагает свои взгляды, основываясь на тех представлениях, которые к тому времени уже существовали в советском диалектическом материализме, однако в его интерпретации эти представления получают более законченный вид. Слова о том, что каждое явление есть в известном смысле «зеркало и эхо Вселенной», заимствованы непосредственно у Маркса; рассуждая о физиологических функциях органов зрения и слуха, Маркс говорил о том, что «эти органы отрывают человека от его индивидуальности, превращая его в зеркало и эхо вселенной»[13]. Однако вопрос о том, согласился бы Маркс с тем, что этому его высказыванию, касающемуся функций органов чувств человека, Рубинштейн придает столь расширительное толкование, является открытым. То же самое можно сказать и относительно понятия «отражение», заимствованного, как на это указывает Рубинштейн, у Ленина. Наконец, и приведенного выше отрывка вытекает заключение о приверженности Рубинштейна принципу детерминизма, идее о всеобщей причинности, связывающей явления материального мира.
Формулировки, содержащиеся в приведенной цитате из работы Рубинштейна, сыграли важную роль в развитии советской психологии. По мнению советских теоретиков (а также теоретиков из других стран), эти формулировки обладали известной теоретической убедительностью. Так, в частности, часто цитировались слова Рубинштейна о существовании некой «призмы», через которую одни предметы отражаются в других. В уже упоминавшемся некрологе, помещенном во втором номере журнала «Вопросы философии» за 1960 г., отмечалось:
«Защищаемое в «Бытии и сознании» положение, согласно которому внешние причины действуют через внутренние условия, имеет существенное значение для всей системы научного знания»[14].
В разделе своей книги, следующем сразу же за приведенной выше цитатой, Рубинштейн обращается к анализу проблемы отражения. Он пытается дать сравнительную оценку удельного веса «внутренних» и «внешних» факторов, участвующих в процессе отражения, которое рассматривается им как свойство, присущее всей материи. Чем выше уровень эволюции материи, считает Рубинштейн, тем больший удельный вес внутренних факторов:
«Чем «выше» мы поднимаемся — от неорганической природы к органической, от живых организмов к человеку, — тем более сложной становится внутренняя природа явлений и тем большим становится удельный вес внутренних условий по отношению к внешним»[15].
Сознание человека выступает в качестве такой формы отражения, в которой внутренние его факторы играют большую роль, нежели в других формах отражения. Далее Рубинштейн раскрывает свою позицию по вопросу о природе психической деятельности. «Психическая деятельность, — пишет он, — это деятельность мозга, являющаяся вместе с тем отражением, познанием мира»[16]. Таким образом, психическая деятельность имеет как бы два различных аспекта — онтологический и эпистемологический. Онтологический аспект заключается в наличии нервной системы — сложного материального образования, изучаемого физиологией, а эпистемологический — вытекает из когнитивных отношений, существующих между психическими явлениями и объективной реальностью, отражаемой ими. Рубинштейн высказывает убеждение в том, что различие между этими двумя аспектами психической деятельности носит относительный, а не абсолютный характер. Хотя доминирующее значение в эпистемологическом аспекте занимают вопросы связи психической деятельности с внешним миром, а онтологический аспект определяется в основном внутренними факторами, необходимо помнить о том, подчеркивает Рубинштейн, что и сам мозг в конечном итоге формируется под влиянием внешнего мира. Таким образом, здесь существуют временные различия в действии причин, вызывающих появление этих аспектов психической деятельности. Мозг является продуктом всей истории развития природы и выступает как высокоорганизованное материальное образование, возникшее в результате естественного отбора из менее организованной материи. Однако в онтологическом смысле он существует как некое целостное образование в каждый данный момент процесса познания, и его внутреннее строение является «отражением» внешнего мира, который также является материальным. Другими словами, имеющее место взаимодействие двух этих аспектов происходит между явлениями, имеющими материальное происхождение и являющимися продуктами объективной реальности, но сформировавшимися различным образом, в различное время и в различных местах.
Согласно Рубинштейну, человеческое знание является достоверным воспроизведением внешней реальности. Истинность своих знаний об объективной действительности человек проверяет на практике, в ходе которой его формулировки либо подтверждаются, либо опровергаются.
Рубинштейн убежден, что во взаимоотношении сознания и бытия первичным выступает бытие.
«Человек существует не потому, что он мыслит, как это говорил Декарт, а мыслит, потому что существует» [17], — пишет он.
Говоря об «относительном удельном весе внутренних и внешних факторов» психической деятельности человека, Рубинштейн добавляет тем самым еще одно недоказуемое, но вместе с тем достаточно убедительное положение к своей теоретической схеме. Дело в том, что человек, придерживающийся строгого материализма, может допускать, что внутренние факторы играют в процессе познания большую, нежели внешние факторы, роль постольку, поскольку он убежден в том, что и внутренние факторы являются материальными по своей природе и их формирование, в свою очередь, явилось результатом внешних воздействий в ходе эволюции. В этом случае роль практики как критерия истинности человеческих знаний будет такой же, как в теоретической схеме, предложенной Рубинштейном. Как мы видели, Рубинштейн придерживался именно эволюционного понимания процесса формирования мозга. Добавление к этому пониманию рассуждений об относительном удельном весе внутренних и внешних факторов выглядело поэтому как излишнее, но вместе с тем достаточно убедительное в рамках традиции, предпочитающей такую эпистемологию, при которой информация, передаваемая от объективной реальности к сознанию, рассматривается как достоверная.
Рубинштейн высказывает убеждение в законности существования термина «субъективное». Использование этого термина означает для него указание на то обстоятельство, что каждый аспект психической деятельности того или иного человека обладает присущими только ему, уникальными особенностями. Всякое ощущение, всякая мысль являются в этом смысле субъективными. По мнению Рубинштейна, смысл термина «субъективное» не утрачивается от того, что и сами эти индивидуальные особенности того или иного человека, в свою очередь, оказываются имеющими «объективное» происхождение. В каждый данный момент времени каждый человек испытывает на себе влияние как субъективных, так и объективных факторов, хотя человечество в целом на протяжении всей истории своего существования подвергалось влиянию только объективных факторов. В ходе этого эволюционного процесса возникли как бы две линии или цепочки причинных связей, которые взаимодействуют между собой. Результатом или продуктом этого взаимодействия и является сознание. Само это взаимодействие является предметом изучения психологии, а физиология изучает мозг как орган человеческого тела.
Для человека, желающего построить концепцию сознания ценою известного рода спекулятивных рассуждений, схема, предложенная Рубинштейном, обладает сильными сторонами. Она представляет собой более утонченную и сложную концепцию сознания по сравнению с теми, которые выдвигались ранее в рамках материалистической традиции. Справедливости ради следует заметить, что она обладала и известными слабостями, наиболее очевидная из которых была связана с решением одной из старейших проблем философии, отодвинутой одно время на задний план, но по-прежнему ждущей своего решения, — проблемы «разум — тело». Теперь эта проблема всплывает в связи с обсуждением Рубинштейном вопроса об «образах» реальности. Ощущения и восприятия он определяет как «образы материальной действительности». В связи с этим возникают вопросы: а материальны ли сами эти образы? материальна ли психическая деятельность человека и его сознание? В своей книге «Принципы и пути развития психологии» Рубинштейн дает на них отрицательный ответ: он пишет о том, что образы являются «отражениями» объектов, а не самими объектами[18]. Он пишет о том, что «психическая деятельность идеальна в качестве познавательной деятельности человека, результативным выражением которой является «образ» предмета (или явления)»[19]. Таким образом, в диалектическом материализме Рубинштейна содержится категория «идеальных» объектов или явлений, отличающихся от «материальных». Не следует ли это рассматривать как сдачу Рубинштейном позиций материалистического монизма? Ничуть, утверждает он и пишет:
«Ключ к решению вопроса заключается в том, что, пользуясь выражением Гегеля, особо отмеченным Лениным, одна и та же вещь есть и она сама и нечто другое, поскольку она выступает в разных системах связей и отношений»[20].
Опираясь на этот выдвинутый Гегелем принцип, Рубинштейн утверждает, что психическое выступает как «идеальное» в эпистемологическом смысле и как «материальное» — в онтологическом. Идеальным элементом при этом как раз и выступают «образы» действительности. Рубинштейн решительно заявляет:
«Вместе с тем мы убедились, что признание идеальности психической деятельности не превращает ее в нечто чисто духовное, не выводит ее за пределы материального мира»[21].
Многих из числа своих критиков он так и не убедил. Как писал он сам незадолго до своей смерти, все чаще приходится сталкиваться с утверждением, что психическое материально. «Сторонники этой точки зрения, получившей в последнее время некоторое распространение в нашей философской литературе, замыкаются в онтологическом плане и не дают себе труда соотнести его с гносеологическим»[22]. В дальнейшем мы еще познакомимся с высказываниями этих «сторонников материальности сознания», которые на самом деле весьма громко заявляли о себе в конце 50-х и в 60-х годах на страницах философской литературы.
1. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 3. В статье, опубликованной в 1934 г., Рубинштейн писал о том, что основную свою цель он видит в поисках решений основных проблем психологии с помощью работ Маркса, а затем — в построении марксистско-ленинской психологии. См.: Проблемы психологии в трудах Карла Маркса. С. 4. В числе других важнейших работ Рубинштейна следует назвать следующие: Основы психологии. М., 1935; Основы общей психологии. М., 1940, 1946; Учение И.П. Павлова и некоторые вопросы перестройки психологии//Вопросы философии. 1952. № 3; Бытие и сознание: о месте психологического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М., 1957; Философия и психология//Вопросы философии. 1957. № 1; Вопросы психологии мышления и принцип детерминизма//Вопросы философии. 1957. № 5; О мышлении и путях его исследования. М., 1958.
2. Bawer R.A. The New Man in the Soviet Psyhology Р. 118.
3. См.: Рубинштейн С.Л. Речь//Вопросы философии. 1947. № 1. С. 420-427.
4. В ходе совещания, состоявшегося в 1962 г. и посвященного философским проблемам физиологии и психологии (о котором речь пойдет ниже), Е.В. Шорохова в своем выступлении указывала на продолжающееся влияние работ Рубинштейна. «В нашем докладе, в моем вступительном слове выражена позиция сектора психологии Института философии. Наша точка зрения является в известной степени коллективной мыслью того небольшого научного коллектива, который был создан и которым руководил до последних дней жизни С.Л. Рубинштейн. Мы считаем своей обязанностью развивать принципиальные положения, высказанные С.Л. Рубинштейном, разъяснять ошибочность интерпретации его взглядов, с которой иногда можно встретиться» (см.: Философские вопросы физиологии... С. 730-731).
5. См.: Вопросы философии. 1960. № 2. С. 179-180.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 5.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. С. 5.
8. См.: Колбановский В.Н. За марксистское освещение вопросов психологии (об учебнике С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии»)//Большевик. 1947. № 17. С. 57. Колбановский в этой статье обвиняет Рубинштейна также и за то, что он якобы приравнивает «психические факты» к материальным объектам, то есть допускает ошибку, за которую Ленин критиковал в свое время Иосифа Дицгена. Это доказывает, что Колбановский неправильно понял Рубинштейна, поскольку последний заслуживает критики скорее за обратное — за то, что изъял явления психики из материальной области.
9. В одной из своих более поздних работ Колбановский отметил это изменение в позиции Рубинштейна и сменил критический тон по отношению к его работам на более благожелательный. См.: Колбановский В.Н. Диалектический материализм и современное естествознание. М,, 1964. С. 399-400.
10. Рубинштейн С.Л. Учение И.П. Павлова и некоторые вопросы перестройки психологии//Вопросы философии. 1952. № 3. С. 201.
11. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание... С. 33.
12. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание... С. 10-11.
13. Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч. В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 180.
14. Вопросы философии. 1960. № 2. С. 180.
15. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание... С. 12 -13.
16. Там же. С. 4.
17. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание... С. 15-17, 32.
18. См.: Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 8.
19. Там же. С. 10-11.
20. Там же. С. 9.
21. Там же. С. 11.
22. Там же. С. 8.
А.Р. Лурия
Александр Романович Лурия (1920-1975) принадлежал к тому поколению советских ученых, чьи молодые годы совпали с первыми годами правления революционного режима в России. К моменту своей смерти он был психологом с мировым именем. И если его собственно психологические взгляды хорошо известны ученым на Западе, то этого нельзя сказать о его философских и политических взглядах. Между тем Лурия был убежденным марксистом, который пытался различными путями связать психологическую теорию с теорией марксизма. Будучи учеником Выготского, о котором речь шла выше, Лурия разделял с ним убеждение в том, что важную роль в процессах формирования психики человека играют социальные факторы. И подобно своему учителю, Лурия также столкнулся с политическими проблемами, когда пытался распространить свои взгляды о социальной обусловленности человеческого поведения на граждан Советского Союза. И все же он оставался лояльным членом Коммунистической партии — в соответствии с ее политическими требованиями, а также с развитием собственных научных интересов и взглядов он несколько изменил акценты в своих научных исследованиях.
Несмотря на то что буквально с первых своих публикаций Лурия признавал важное значение теории марксизма для психологии, все же в реальной работе он придерживался различных интерпретаций взаимоотношения психологии и диалектического материализма. Сначала, до того момента, когда его взгляды испытали на себе сильное влияние Выготского, Лурия высказывал убеждение в том, что теория психоанализа З. Фрейда вполне согласуется с марксизмом. В своей статье, опубликованной в сборнике «Психология и марксизм» в 1925 г., Лурия призывал, к «коренной переделке изучения психологии с точки зрения научной методологии диалектического материализма»[1]. По мнению Лурии, концепция психоанализа совпадала с марксизмом по следующим пунктам: 1) она носила материалистический, монистический характер, отрицающий различие между «душой и телом»; 2) защищала понятие «сознание» от атак бихевиористов; 3) отстаивая понятие «сознание», она оставалась тем не менее научной теорией, не спекулирующей по поводу существа «разума вообще». Как видим, идеи Лурии по поводу значения марксизма для психологии носили в то время достаточно примитивный характер.
Однако даже в тот период, когда Лурия с энтузиазмом относился к психоанализу, он отдавал себе отчет в том, что подходы психоанализа и марксизма совпадали не полностью, поскольку марксизм интересовало скорее общество в целом, нежели индивидуальный опыт конкретного человека. В то же время психоанализ чересчур много внимания уделял именно конкретному индивиду. Лурия предложил последователям Фрейда и Юнга сделать следующий шаг «по пути целостного подхода к организму — ввести его в систему социальных влияний... Только этим последним мы перейдем в учении о нервно-психической деятельности от механического материализма к диалектическому»[2].
Выготский помог Лурии выбрать собственный путь в психологических исследованиях, избежав влияния психоанализа. По убеждению Выготского, психоанализ допускал ошибку, пытаясь «выводить» человеческое поведение из «биологических глубин» разума, в то время как правильнее было бы выводить его из «высот» социальной формы движения материи. Лурия, Выготский и еще один молодой в то время психолог, ставший впоследствии известным советским ученым, — А.Н. Леонтьев (которому посвящен специальный раздел этой главы) составили «тройку» молодых исследователей, которые положили начало процессам реконструкции психологии, следуя взглядам, согласно которым «истоки происхождения высших форм сознательного поведения следует искать в отношениях, существующих между индивидом и окружающей его социальной средой»[3]. По словам Лурии, Выготский был «гением», а также «ведущим марксистским теоретиком среди нас»[4].
Представители названной «тройки» описывали принципы выдвигаемой ими новой концепции психологии как носящие «инструментальный», «культурный» и «исторический» характер. Говоря об «инструментальности» этих принципов, они имели в виду то, что высшие функции человека — это не процессы типа «стимул — реакция» (как их описывали бихевиористы и представители павловской школы), а скорее некие «промежуточные» реакции организма, в процессе которых возникают собственные стимулы организма. Другими словами, человек не просто реагирует на стимулы, предлагаемые экспериментатором, а модифицирует эти стимулы. Простейшим примером может служить случай, когда, для того чтобы запомнить что-то, люди завязывают ниточку вокруг пальца или «узелок на память» на платке. Лурие и его коллегам в экспериментах с детьми в возрасте от 3 до 10 лет удалось продемонстрировать также множество других примеров, когда внешний стимул претерпевал гораздо более сложные модификации.
Под «культурным» характером принципов психологии Лурия, Выготский и Леонтьев подразумевали то обстоятельство, что общество предъявляет к человеку особого рода требования, которые оказывают важное влияние на его поведение. Одним из лучших примеров культурного влияния на поведение человека является язык или речь, огромное значение которой как фактора, определяющего развитие мысли, подчеркивал Выготский.
Говоря об «историчности», названные ученые подчеркивали тем самым недостаточность чисто функционального подхода к психологии, необходимость ее рассмотрения в социально-историческом контексте. Люди, принадлежащие к различным социальным классам и этническим группам, думают по-разному. Устная и письменная речь является продуктом эволюции, а потому ее следует изучать в контексте ее социально-исторического развития, исследуя ее влияние на развитие мышления человека. Очевидно, что исторический аспект оказывается тесно связанным с культурным; как писал об этом Лурия, «именно посредством интериоризации исторически и культурно обусловленных путей обработки информации социальная природа человека становится, также и его психологической природой»[5].
Руководствуясь именно этими принципами, в 1929-1930 гг. Лурия провел и опубликовал целый ряд исследований, в которых проанализировал пути развития у детей речи, мышления и навыков к письму[6]. Анализируя, в частности, развитие речи у детей, он отмечал, что «нет ничего удивительного в том, что речь у детей, родившихся у родителей, представляющих различные социальные классы, развивается неодинаково», а также высказывал убеждение в том, что это различие, в свою очередь, оказывает влияние и на развитие мышления этих детей. Некоторые из его публикаций основывались на экспериментах, проведенных с детьми, живущими в городе, сельской местности, а также с бездомными детьми. Проводя эксперименты по изучению ассоциативного мышления у детей из сельской местности, Лурия обнаружил, что их ассоциации отражают «неизменные и монотонные условия окружающей среды», в которой растут и развиваются эти дети. В связи с этим он отмечал, что, «хотя деревенский ребенок и может думать, что называемые им ассоциации являются ответами, заимствованными в собственной голове, на самом деле его устами «говорила» окружающая его среда». Лурия обнаружил также, что некоторые слова имеют «совершенно различный смысл» для тех детей, которые воспитывались в нормальных домашних условиях, и детей, воспитывавшихся вне дома, бездомных. Кроме того, дети, воспитывавшиеся в различных условиях, демонстрировали и различное отношение к другим людям, включая психологов, проводивших исследования. Так, например, бездомные дети отличались большей недоверчивостью и подозрительностью по отношению к экспериментаторам, нежели другие категории детей. В результате проведенных исследований Лурия пришел к выводу об «абсолютной бессмысленности изучения детей вне той среды, которая их сформировала», и призвал к соответствующим изменениям в системе советской педагогики[7].
В статье «Пути развития детского мышления», опубликованной в 1929 г, в журнале «Естествознание и марксизм», Лурия пытался показать, что детское мышление проходит в своем развитии следующие стадии: примитивное мышление, формальное мышление и диалектическое мышление[8]. Первая стадия, выделяемая Лурией, имеет много общего со стадией «доречевого мышления», существование которой обосновывал Выготский. Когда ребенок узнает, что каждый окружающий его предмет имеет название, и начинает говорить, то под влиянием речи, языка постепенно происходят изменения и в его мышлении — оно начинает подчиняться законам логики. Позднее развитие мышления ребенка достигает следующей стадии — стадии «формального мышления», являющейся результатом включенности ребенка в «практическую деятельность» и в «сложные, активные социальные отношения» с окружающими его людьми. Затем ребенок начинает осознавать наличие у него «собственных понятий и представлений», начинает рефлексировать по поводу собственных мыслей и тем самым вступает в следующую стадию — стадию «диалектического мышления», которая отличает поведение взрослого человека. На последних двух стадиях основное влияние на формирование мышления оказывает общество, его язык, структура производственных и других отношений. Для Лурии было очевидно, что люди, живущие в различные исторические эпохи (согласно Марксу, эти эпохи делятся на феодализм, капитализм, социализм и коммунизм), будут обладать различными способами мышления, соответствующими различным социальным условиям.
Акцент на существовании различных диалектически переплетенных стадий был характерен также и для исследований Лурией «предыстории» развития письменной речи у детей. Он был убежден в том, что, прежде чем научиться писать, ребенок проходит через те же самые стадии, через которые прошла цивилизация до того момента, как была изобретена письменность, — стадии пиктографического и репрезентативного письма. Развитие письменной речи, пишет Лурия, подобно развитию речи, носит «диалектический» характер, «но наиболее глубокое диалектическое своеобразие этого процесса заключается, по нашим наблюдениям, в том, что переход к новому приему сначала отбрасывает процесс письма далеко назад, с тем чтобы он в дальнейшем мог развиться на этом новом, более высоком уровне»[9].
Подчеркивая значение социальной среды для формирования детской психологии, Лурия считал, что тем самым он применяет диалектический материализм (который он рассматривает как «наиболее важную философию эпохи») в психологии. Однако поначалу Лурия не отдавал себе отчет в том, что некоторые суждения, которые он допускал, рассуждая на психологические темы, могли иметь политическую окраску в условиях Советского Союза, что было связано с известного рода осложнениями. Если, как полагал Лурия, социальные условия имеют решающее значение для формирования человеческой психики, то отсюда следует, что различные социальные условия формируют различную психику. Эта точка зрения противоречила взглядам некоторых западных исследователей (например, У. Райверса, а позднее Н. Хомского), убежденных в том, что всем людям, живущим в различных обществах, свойственны некие универсальные формы мышления и логические понятия. Лурия и его коллеги решили проверить свою гипотезу относительно роли социальной среды путем изучения психологии людей, живущих в районах Советского Союза, где условия жизни отличаются от условий Москвы и Ленинграда. Путем психологических тестов и интервью с людьми, живущими в достаточно примитивных условиях, Лурия и его коллеги хотели установить, отличается ли их мышление от мышления людей, живущих в условиях современного города. С этой точки зрения наиболее удачными районами представлялись Киргизия и Узбекистан — те районы Советского Союза, которых в то время еще не коснулись процессы модернизации. Именно туда и направился Лурия с коллегами, желая осуществить свои честолюбивые замыслы. Заметим, что результаты этих исследований до сих пор не опубликованы полностью.
Лурия и его коллеги отправились в те районы Киргизии, где условия жизни отличались примитивностью и где женщины все еще жили как затворницы на так называемой «женской половине». Этим женщинам не разрешалось говорить с мужчинами, а потому их опрос проводился женщинами, входящими в состав экспедиции Лурии. Мужчины-мусульмане были более свободны, но и они были полностью безграмотны.
Среди множества тестов, которым подвергались эти люди, был один, имеющий отношение к способности людей классифицировать предметы. Им были показаны следующие рисунки[10], и при этом их просили сказать, на что они похожи:

В результате опросов неграмотных киргизских женщин, живших в отдаленных селениях, был получен следующий список предметов, которые они считали похожими на приведенные выше рисунки:
1. тарелка
2. кибитка
3. браслет
4. бусы
5. зеркало
6. часы
7. подставка под котел.
Когда аналогичный тест был предложен мусульманским женщинам, жившим в городах и ходившим в школу, то типичные ответы заключались в названии геометрических фигур: круги, треугольники, квадраты.
Когда Лурия и его сотрудники просили безграмотных женщин сгруппировать эти рисунки по признаку их похожести, то они делали это, исходя из тех конкретных функций, которые имели предметы, ассоциирующиеся у них с этими рисунками. Так, например, номера 1 и 7 объединялись ими потому, что и тарелка, и подставка под котел использовались в процессе приготовления пищи, а 3 и 4 — потому что служили украшениями. Городские же женщины объединяли эти рисунки по принципу их геометрической похожести: 1 и 3 — разновидности круга, а 2, 6 и 7 — треугольника. Когда члены экспедиции Лурии спрашивали у неграмотных женщин, не похожи ли номера 1 и 3 (то есть те рисунки, которые городские жительницы классифицировали как разновидности круга), то получали отрицательный ответ, поскольку, в их представлении, тарелка не была похожа на браслет или (в другом варианте) монета не похожа на луну.
На основе этих данных Лурия и его коллеги сделали вывод о том, что существование неких «универсальных законов восприятия» (о которых говорили некоторые представители гештальтпсихологии) представляется весьма сомнительным и что, напротив того, «категориальное восприятие объектов, окружающих человека, является результатом исторического развития путей переработки информации» (р. 66). Люди с примитивным мышлением «не выделяют общего признака, присущего тем или иным объектам, не придают ему категориального значения», как это делают более образованные люди, а классифицируют предметы окружающей действительности «в соответствии с теми отношениями, которые существуют между этими предметами в реальной жизни» (р. 67).
Желая развить этот метод анализа, Лурия захотел выяснить, обладают ли эти «примитивные люди» способностью к логическому мышлению. Смогут ли они понять вопрос, сформулированный на основе силлогизма: 1. На Крайнем Севере, где всегда лежит снег, все медведи белые. 2. Новая Земля расположена на Крайнем Севере. 3. Какого цвета там медведи? Согласно Лурии, большинство из опрошенных им мужчин и женщин отвечали на этот вопрос следующим образом: «Я никогда не был на Севере и не видел медведей» или «Если вы хотите узнать ответ на этот вопрос, то должны спросить людей, которые бывали там и видели этих медведей» (р. 77-78).
В связи с этим Лурия отмечает, что, «хотя наши безграмотные крестьяне и могут использовать в своих рассуждениях, основанных на собственном жизненном опыте, объективно логические отношения, можно с уверенностью утверждать, что они не владеют силлогизмом как средством логического рассуждения...» Эти и подобные исследования были проведены Лурией в районах Центральной Азии:
«...во всех случаях нами было зафиксировано, что изменения форм практической деятельности, особенно в тех случаях, когда эти изменения были связаны с получением формального школьного образования, вызывали качественные изменения мышления исследуемых. Более того, нам удалось установить, что эти изменения могли происходить в относительно короткий срок при условии достаточно радикальных изменений в социально-исторических условиях жизни этих людей, примером чего могут служить изменения, последовавшие за революцией 1917 года» (р. 80).
По мнению Лурии, эти психологические открытия, сделанные в результате названных экспедиций, служили подтверждением марксистского принципа, согласно которому бытие определяет сознание, а не наоборот. Однако для наиболее радикальных из числа советских критиков, занявших господствующее положение в начале 30-х годов (во времена великих идеологических битв и политических страстей), открытия Лурии и его коллег представлялись как основанные на элитарном этноцентрическом подходе, характеризующемся пренебрежительным отношением к представителям более низких классов и этнических групп. Если мусульманское население районов Центральной Азии было безграмотным и отсталым не только в плане знаний, но также и в плане самого образа их мышления, то нельзя ли то же самое было сказать и о русских крестьянах и рабочих, многие миллионы которых оставались в то время по-прежнему неграмотными? Ответ Лурии на этот вопрос, говорящий о том, что эта ситуация может быть быстро изменена путем внедрения образования и использования преимуществ социалистической экономики, не мог предотвратить направленных в его адрес обвинений в том, что он находится под влиянием буржуазных концепций. Под последними имелись в виду в основном концепции немецкой антропологии, согласно которым все общества распределялись по определенной оценочной шкале, на вершине которой располагались современные индустриальные общества, имеющие по сравнению с другими превосходство не только в плане материально-технологическом, но и в культурном и интеллектуальном[11]. Эти обвинения, возможно, были отчасти справедливыми, поскольку Лурия на самом деле весьма пристально следил за немецкой литературой по психологии и антропологии. Возражения на эти обвинения, указывающие на то обстоятельство, что и сам классический марксизм, выдвигающий идею последовательной смены общественно-экономических формаций, по существу, предлагал своеобразную ценностную шкалу для различных обществ, не могли помочь в условиях страстных споров начала 30-х годов. Советские идеологи подчеркивали привлекательность марксизма для представителей примитивных, низших классов и некавказских культур и не желали вспоминать о внутренне присущем марксизму европейском этноцентризме. В результате Лурии не удалось опубликовать полностью результатов этих исследований, и он обратился к другой области исследований — нейропсихологии. И хотя он по-прежнему оставался убежденным марксистом, впредь он все же более осторожно относился к возможности связывать итоги своих исследований непосредственно с диалектическим материализмом, поскольку понял, что в определенные моменты эта связь может привести к результатам, обратным ожидаемым.
1. Психология и марксизм. Под ред. К.Н. Корнилова. Л., 1925. С. 54.
2. Цит. по: Cole M., ed. The Selected Writings of A.R. Luria. White Plains, N.Y., 1978. P. 31, 41.
3. Luria A.R. The Making of Mind: A Personal Account of Soviet Psyhology. M. Cole & S. Cole ed. Cambridge. 1979. P. 43.
4. Luria A.R. The Making of Mind: A Personal Account of Soviet Psyhology. M. Cole & S. Cole ed. Cambridge. 1979.
5. Ibid. P. 45.
6. На английском языке эти работы опубликованы в: Cole M., ed. The Selected Writings of A.R. Luria. N. J. 1978.
7. Cole M., ed. The Selected Writings of A.R. Luria. N. J. 1978. P. 45-77.
8. Ibid. P. 97-144.
9. Ibid. P. 145-194.
10. Luria A.R. The Making of Mind… Р. 65. В последующем ссылки на эту работу будут даваться непосредственно в тексте.
11. Cole M. in : Luria A.R. The Making of Mind… Р. 214.
Совещание 1962 г.
Одним из наиболее интересных событий, связанных с взаимоотношениями между советской марксистской философией и психологией, явилось Всесоюзное совещание по философским вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии, состоявшееся в Москве в мае 1962 г. и организованное АН СССР, АМН СССР, Академией педагогических наук РСФСР и Министерствами высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР. В работе совещания приняло участие свыше тысячи физиологов, психологов, философов, педагогов и психиатров, представлявших весь Советский Союз. Материалы этого совещания были опубликованы отдельной книгой[1]. В огромном количестве страниц этой книги (ее объем, включая справочный аппарат, составил 771 страницу) представлены доклады и выступления участников совещания, представляющие зачастую весьма различные точки зрения по обсуждавшимся вопросам. Эта книга является, пожалуй, лучшим источником для тех, кто хочет разобраться в философских вопросах советской психологии и физиологии, обсуждавшихся в послесталинскую эпоху.
Текст постановления, принятого участниками этого совещания, носит компромиссный характер и не раскрывает всего многообразия точек зрения, продемонстрированных в ходе совещания. Тем не менее это постановление отразило общий дух совещания. В его тексте обращается внимание на то, что физиология высшей нервной деятельности (подобно другим областям биологии и психологии) переживает особый период своего развития, связанный с установлением более тесных ее связей с физическими и математическими науками. Серьезные возможности, отмечается в постановлении, создаются новой аналитической техникой — методом электрофизиологии в исследовании мозговых структур и нервной системы; применением электронных счетных машин, использованием статистических методов, методов теории информации и кибернетики и т.д. Особо подчеркивалось влияние кибернетики. В связи с этим одной из основных задач, стоящих перед марксистскими психологами и физиологами, подчеркивалось в постановлений, является поиск путей интеграции этих новых источников знания и методов экспериментального исследования, избегая, с одной стороны, впадения в грубый материализм, а с другой — в идеализм.
В ходе развернувшейся на совещании дискуссии обозначились две проблемы, имевшие особенно важное значение. Первая была связана с вопросом о том, сохраняет ли свое значение подход, выдвинутый в свое время И.П. Павловым? Вторая проблема была связана с ответом на старый вопрос: как можно определить термин «сознание»? Мнения участников совещания по обоим этим вопросам разделились.
1. См.: Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии. М., 1963. В дальнейшем ссылки на выступления участников совещания будут даваться по этой книге непосредственно в тексте.
Проблема сохранения значения павловского подхода
В ходе совещания эта проблема обсуждалась в различных формах: обсуждались вопросы значимости учения И.П. Павлова, целесообразности использования термина «рефлекторная дуга», а также смысла, вкладываемого в понятие «высшая нервная деятельность». С наиболее энергичной причиной павловской концепции рефлексов выступил Н.А. Бернштейн. Мнение Бернштейна о том, что в свете достижений современной науки учение Павлова утрачивает свое значение, было поддержано в выступлениях Н.И. Гращенкова, Л.П. Латаш, И. Фейгенберга, М.М. Бонгард; в неявной форме это мнение поддержал П.К. Анохин. Противоположная точка зрения прямо высказывалась в выступлениях Э.А. Асратяна, Л.Г. Воронина, Ю.П. Фролова, А.И. Долина, Н.А. Шустина, А.А. Зубкова и В.Н. Черниговского.
Все названные ученые признавали огромное значение учения Павлова в истории психологии и физиологии. Мнения разделились не по вопросу о значении этого учения в прошлом, а по вопросу о сохранении значения этого учения в настоящем и будущем. Некоторые разногласия носили чисто семантический характер: защитники учения Павлова имели тенденцию описывать его взгляды как имеющие широкое методологическое значение; критики же павловского подхода рассматривали его в манере, сходной с трактовкой учения Павлова большинством зарубежных психологов и физиологов, то есть как схему «стимул — реакция». Несмотря на наличие известного рода непонимания сторонами позиций друг друга, в основе разгоревшейся дискуссии лежала вполне реальная проблема: следует ли диалектико-материалистическую трактовку физиологии связывать с именем Павлова? Именно этот вопрос волновал участников дискуссии. Как отмечал в своем выступлении один из сторонников традиционного подхода — В.Н. Черниговский:
«...мы знаем, что есть группа молодежи, которая скептически относится к ряду положений учения о высшей нервной деятельности. В частности, и в нашем институте есть целая группа такой молодежи, которую я называю «младотурками» (с. 631).
Зачастую эти «младотурки» оказывались не всегда такими уж молодыми.
По мнению Н.А. Бернштейна, начиная со второй четверти XX в. физиология вступила в новый, революционный период своего развития, потребовавший изменения многих традиционных представлений и одновременно позволяющий выдвигать новые интерпретации жизненных процессов, находящиеся в русле традиций диалектического материализма. Наиболее важным элементом этой революции, утверждает Бернштейн, стала кибернетика. Он согласился с тем, что использование методов кибернетики может таить в себе определенные опасности (особенно если речь идет о кибернетике в том ее понимании, которое выражают ее зарубежные основатели), но, будучи поставлена на «правильные методологические рельсы», кибернетика, по его мысли, способна оказать неоценимую помощь в осуществлении биологических исследований вообще и исследований в области физиологии в частности.
Важнейшим с точки зрения проблем, интересующих Бернштейна, вкладом кибернетики могла явиться возможность объяснения (с помощью ее средств и на материалистической основе) процессов «решения задачи действия». С точки зрения кибернетики организм имеет вполне определенную «задачу действия»; Бернштейн говорит о «физиологии активности», чтобы отличить ее от физиологии «простых реакций», описываемой в теории рефлексов Павлова. Решение «задачи действия» заслуживает тщательного анализа.
«Но задача действия, иными словами, результат, которого организм стремится достигнуть, есть нечто такое, что должно стать, но чего еще нет. Таким образом, задача действия есть закодированное так или иначе в мозгу отображение или модель потребного будущего... В этой связи заслуживает внимания то, что познание реальности кодированной в мозгу модели или экстраполята вероятного будущего создает возможность строго материалистической трактовки таких понятий, как целенаправленность, целесообразность и т. п. ...Позволяя себе метафору, можно сказать, что организм все время ведет игру с окружающей его природой — игру, правила которой не определены, а ходы, «задуманные» противником, неизвестны» (с. 308-310).
В противоположность теории Павлова, которую Бернштейн характеризует как исходящую из «уравновешивания организма с окружающей средой», он выдвигает новую концепцию, исходящую из необходимости «преодолевания этой среды», направленного «не на сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направлении родовой программы развития и самообеспечения» (с. 314).
Бернштейн отдавал себе отчет в наличии определенных опасностей, связанных с выдвигаемыми им формулировками (и действительно, в ходе совещания его взгляды были подвергнуты критике как теологичные), но, по его убеждению, его критики просто ничего не понимали в развитии современной науки. Он был убежден в том, что физиологи слишком медленно осознавали все то значение, которое могло иметь для их науки существование законов вероятности в природе. Многие физиологи павловской школы, высказывает он предположение, по-прежнему мечтают о том, чтобы рассматривать человека как своеобразный «реактивный автомат».
«Конечно, рассуждает он в связи с этим, — форма поведения реактивного автомата более явственно детерминистична, чем поведение организма, все время вынуждаемого к срочному активному выбору в стохастических условиях. Но освобождение организма от роли реактивного автомата, существующего «на поводу» у падающих на него раздражений, ни в какой мере не означает отхода от научного детерминизма в широком смысле в область непознаваемого, так же как и переход от описания явления через однозначные функции к его описанию с помощью теории вероятностей не может означать ухода с позиций строгого естествознания» (с. 322).
Идея о возможности существования многозначных функций у биологических явлений привлекала также Гращенкова, Латаш и Фейгенберга. В их совместном докладе прозвучало убеждение в том, что «старое представление о конкретной структуре рефлекторного акта... оказалось не в состоянии объяснить наблюдаемые физиологами факты» (с. 43). Вместе с тем они считали, что система Павлова обладает большей гибкостью, нежели думают некоторые критики этой системы. По их мнению, ключ к пониманию многозначности функций в физиологии лежит в изучении прошлого опыта организма; как они подчеркивают, в работах самого Павлова имеются указания на значение фактора подкрепления для формирования рефлекса. Эта мысль, подчеркивающая значение прошлого опыта или, говоря другими словами, подчеркивающая значение генетического подхода, является традиционной для марксизма, и с ней можно легко согласиться.
Гращенков и его коллеги высказывали в своем докладе мысль о том, что в основе новых теоретических построений, выдвигаемых современными советскими психологами (к их числу авторы относят теорию «акцептора действия» П.К. Анохина, «физиологии активности» Н.А. Бернштейна, представления о «нервной модели стимула» Е.Н. Соколова, а также некоторые положения, высказываемые И.С. Беритовым относительно физиологической структуры поведения), находятся представления о существовании в мозгу аппарата, предвосхищающего результаты действия. Характернейшей особенностью подобного гипотетического «аппарата предвидения» является, по мнению авторов доклада, его вероятностный характер: «Из всех возможных предвидимых результатов выбирается тот, вероятность которого наивысшая». В связи с этим Гращенков и его коллеги замечают, что «в том, что в процессе эволюционного развития живых организмов сложился именно такой механизм — механизм вероятностного предвидения, нет ничего удивительного» (с. 47). Появление подобного механизма имело важное значение для выживания. Более того, отмечают авторы доклада, подобные представления не только не противоречат концепции детерминизма, но существенно расширяют ее значение, указывая на то, что «конечный результат активных реакций детерминирован поступающей в мозг информацией и прошлым опытом организма» (с. 48).
В ходе обсуждения докладов В.С. Мерлин, представлявший Пермский педагогический институт, поддержал мысль о плодотворности использования в физиологических исследованиях новых вероятностных подходов и представлений. Он, в частности, отметил, что «в настоящее время у нас нет никаких фактических оснований утверждать, что зависимость психических процессов от нервно-физиологических имеет взаимно однозначный характер» (с. 521). В прошлом, продолжал Мерлин, подобный взгляд мог казаться неприемлемым для материалиста, однако в настоящее время благодаря признанию материализмом значения квантовой механики мы знаем, что вероятностные зависимости выражают отнюдь не менее строгую закономерность, а потому вполне могут быть взяты на вооружение в психологии и физиологии (с. 523). Очевидно, что подобные взгляды «оставляли место» для появления теории психологии, носящей менее детерминированный характер.
Наряду с этим, однако, высказывались опасения относительно того, что для подобных теорий «оставляется слишком много места». Так, в докладе Гращенкова и его коллег высказывалось предостережение против абсолютизации вероятностного подхода в психологии, могущей привести к представлениям о полностью спонтанном характере психических явлений. В ходе совещания неоднократно подвергались критике взгляды известного австралийского нейрофизиолога Дж. Экклса, использовавшего принцип неопределенности квантовой механики для постулирования сферы деятельности «разума», выходящей за рамки материальной действительности. Эти взгляды были представлены Экклсом, в частности, в его книге, опубликованной в 1952 г., где он писал о том, что «разум может контролировать поведение материи в рамках, определяемых принципом неопределенности Гейзенберга»[1]. Теория диалектического материализма отвергает подобные взгляды, считая их основанными на представлении о дуализме разума и тела.
Подводя предварительные итоги, следует отметить, что позиции Бернштейна совпадали с позициями Гращенкова, Латаш и Фейгенберга в том, что являлись попытками модифицировать традиционные представления и концепции, выдвинутые еще Павловым, однако при этом Гращенков и его коллеги были более осторожны и отдавали себе отчет в возможных «ловушках», скрытых в подобного рода попытках.
В ходе совещания широко обсуждался также вопрос о сохранении термином «рефлекторная дуга» своего значения. В своем докладе Бернштейн высказал мысль о том, что понятие «рефлекторная дуга» было «главным знаменем» устаревшей «классической» теории рефлексов; в свою очередь он предложил понятие «рефлекторное кольцо» (с. 302-303). В докладе Гращенкова и его коллег также высказывалось неудовлетворение представлениями о существовании некой «разомкнутой рефлекторной дуги», вместо которой они выдвигали представления о «циклической иннервационной структуре» (с. 44).
Еще один из участников совещания — В.Н. Мясищев из Ленинградского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева предложил рассматривать в качестве модели рефлекса не «дугу» или «кольцо», а «виток спирали». При этом он утверждал, что подобное представление о рефлексе «совершенно явно следует ленинской формуле развития. Это и философски, и научно правильное понимание» (с. 535). Ссылаясь на ленинскую формулировку, Мясищев имел в виду высказывание Ленина о том, что восприятие человеческим разумом окружающей действительности не является ее «зеркальным отображением» (см. об этом во 2-й главе настоящей работы).
Каждое из упомянутых выше предложений преследовало одну и ту же цель: указать на наличие постоянного потока информации, поступающей в организм по обратным связям, — информации, корректирующей действия организма. Этот поток информации изменяет также и саму структуру корректирующего механизма, увеличивая количество «хранящейся» в нем информации о прошлом опыте. Другими словами, корректирующий механизм как бы «воспроизводит себя», основываясь на этих «запасах» информации. По мнению советских ученых, этот подход позволяет объединить социальную историю (прошлое индивида) и естественную историю (наследственные характеристики видов) в единую материалистическую картину поведения.
Взгляды, изложенные упомянутыми критиками традиционного рефлекторного подхода, вскоре сами подверглись критике. Защитники традиционного павловского подхода обвинили этих «младотурков» в том, что они упрощенно представляют взгляды Павлова, приравнивая его концепцию рефлекса к механистическим представлениям Декарта. Так, например, в докладе Е.В. Шороховой и В.М. Каганова говорилось о том, что Бернштейн фактически ограничивает понятие «рефлекс» лишь физиологическими рамками, игнорируя при этом павловское понимание условного рефлекса как явления физиологического и вместе с тем психического. М далее они отмечают, что понятие рефлекса в «физиологии активности» Бернштейна сохраняет то значение, которое оно имело в досеченовской физиологии и которое сохранилось «в современной западноевропейской физиологии» (с. 87-88).
Л.Г. Воронин, Ю.П. Фролов и Э.А. Асратян — старые представители павловской школы — выступали против оригинальных взглядов, выдвигаемых такими учеными, как Бернштейн, Гращенков и Анохин. Асратян утверждал, что трое последних, претендуя на новизну своих взглядов забывают о том, что многие явления, получившие новые названия, на самом деле были давно описаны. При этом он ссылался на исследования, проведенные в свое время К. Бернаром, Павловым и Сеченовым (с. 722-728). Фролов, называвший себя «старейшим учеником и последователем Павлова», также ставил под сомнение оригинальность вклада кибернетики, говоря о том, что она не имеет собственной философии и может быть использована представителями различных школ; в связи с этим Фролов упоминает представителей неопозитивизма и гештальттеории (с. 499-504). Воронин (Московский университет) утверждал, что новая критика учения Павлова была, по его мнению, основана не столько на новых научных фактах, доказывающих то, что павловское учение «устарело», сколько на старых позициях этих критиков по отношению к этому учению. «Младотурки» на самом деле были достаточно «старыми турками». Гращенков и Анохин, отмечает в связи с этим Воронин, еще соответственно в 30-х и 40-х годах настаивали на модификации павловского учения — теперь они делают то же самое, но уже используя словарь кибернетики.
В самом деле, в 30-е годы Гращенков выступил с обвинениями павловской физиологии высшей нервной деятельности в «механицизме»[2]; Бернштейн призывал к замене понятия «рефлекторная дуга» понятием «рефлекторное кольцо» еще в 1935 г.[3]; Анохин — биограф Павлова, относящийся к нему с большим уважением, — довольно остро критиковал его учение еще в довоенное время и в свою очередь испытывал на себе строгости, явившиеся результатом «павловской сессии» 1950 г. (см. об этом выше). Однако, даже учитывая сказанное, было бы неверно рассматривать дискуссию вокруг павловского учения, имевшую место на совещании 1962 г., просто как продолжение подобной же дискуссии, происходившей в 30-е годы. К 1962 г. огромное влияние на работу советских психологов и физиологов оказывали достижения в области нейрофизиологии и информационной теории, работы таких исследователей, как У.Р. Эшби и А. Розенблют[4]. Все эти достижения, как казалось, обещали новые успехи в деле построения теоретических объяснений процессов принятия решения и целенаправленного развития биологических систем, основанных на материалистических представлениях. Поскольку в Советском Союзе материалистическая традиция в физиологии была особенно сильна, то нет ничего удивительного в том, что эти два течения мысли пересеклись между собой, а также в том, что еще в 30-е годы некоторые советские исследователи предвидели это событие. Последние выступали на совещании 1962 г. как старейшие представители ставшей престижной «кибернетической школы», поддержанные многими молодыми учеными. И хотя их позиции и не нашли единодушной поддержки у участников совещания (что представляется вполне естественным), все же, как уже отмечалось выше, в постановлении, принятом на этой встрече, подчеркивалось важное значение кибернетики для развития физиологии. Думается, что этот факт указывает на завоевание представителями «кибернетической школы» преимущественного положения в ходе дискуссии с членами традиционной павловской школы.
1. Eccles J.C. The Neurophysiological Basis of Mind. Р. 278-279.
2. Выступая на совещании, сам Гращенков говорил о том, что после печально знаменитой «павловской сессии», состоявшейся в 1950 г., он «в течение ряда лет ходил с ярлыком антипавловца чуть ли не номер один, со всеми вытекающими отсюда последствиями: смещение с различных постов, невозможность печатать свои работы и т. п.» (с. 736).
3. См.: Общие основы физиологии труда. М., 1935.
4. Rasenblueth A., Wiener N., Bigelow J. Bechavior, Purpose and Teleolgy// Philosophy of Science (January, 1943). P. 18-24; Ashby W.R. Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behavior. London, 1960.
Проблема определения понятия «сознание»
Если в спорах по поводу значения концепции рефлекса активное участие принимали в основном физиологи, то проблему определения понятия «сознание» обсуждали в основном психологи и философы. Следует отметить при этом, что обсуждение этого вопроса носило необычайно подробный, детальный характер.
Пытаясь избежать опасности впадения в дуализм, вытекающий из представлений об абсолютном отделении физиологии от психологии, философы, группировавшиеся вокруг Рубинштейна, выработали в конце 50-х годов формулировку, согласно которой рефлекторная деятельность рассматривалась как одновременно физиологическая и психологическая. Поскольку в то время рефлекторная деятельность рассматривалась в качестве синонима деятельности психической, в результате этого выработалась точка зрения, согласно которой психическая (рефлекторная) деятельность имеет два различных аспекта, которые изучаются различными науками. Физиологи занимаются онтологическим аспектом, изучая материальные основы психической (рефлекторной) деятельности, а психологи — эпистемологическим аспектом, изучая идеальные, образные формы познания («отражение внешних условий во внутренних состояниях»).
В конце 50-х и начале 60-х годов, когда некоторые физиологи (Бернштейн и другие) начали говорить о том, что рефлекторная деятельность не является синонимом деятельности психической, вышеназванный взгляд начал разрушаться; появилась «опасность» того, что, выйдя за пределы рефлекторного подхода к объяснению изучаемых ими явлений, физиологи смогут с помощью физиологических механизмов объяснить многие явления, которые ранее считались прерогативой психологов. Эту «опасность» почувствовали многие психологи, которые встревожились тем, что наиболее агрессивные физиологи смогут, как выразился один из участников совещания 1962 г., «поглотить их область исследования».
Кроме того, компромиссная позиция, выработанная в конце 50-х годов сторонниками Рубинштейна, подвергалась «подкопам» и с другой стороны. В числе тех, кто считал, что рефлекторная и психическая деятельность — это не одно и то же, оказались и некоторыё философы и психологи, среди которых прежде всего следует назвать В.В. Орлова. Однако если у физиологов, подобных Бернштейну, на уме было сбросить с физиологии основы рефлекторной теории, а затем вторгнуться на территорию психологии, то на уме у Орлова и его последователей было совсем другое: он хотел соединить понятия «физиология» и «рефлекторная деятельность», с тем чтобы оставить за психологией изучение процессов «психической деятельности». По мнению Орлова, психика — это «идеальная, духовная деятельность материального мозга» и в качестве таковой должна явиться предметом психологии. За физиологией, считает Орлов, остается изучение «материального мозга», как такового, и если при этом его функции физиологи будут описывать как «рефлекторную деятельность», то это будет только естественно, поскольку будет находиться в русле традиции Сеченова и Павлова (с. 646-650). Как видим, ситуация на совещании 1962 г. носила парадоксальный характер, и суть этого парадокса можно было бы, пожалуй, сформулировать следующим образом: как агрессивные физиологи, так и агрессивные психологи отвергали посылку о том, что рефлекторная деятельность совпадает с деятельностью психической, но делали это по различным соображениям. Физиологи отрицали этот взгляд, поскольку считали рефлексы слишком простым инструментом для объяснения всего многообразия психических явлений на базе физиологии, а психологи — потому, что рассматривали психическую деятельность как предмет только их науки и не желали постоянно уверять своих слушателей в том, что все явления, изучаемые ими, имеют материальную, рефлекторную основу. При этом психологи не испытывали особых восторгов от того, что представители нового, «кибернетического» направления в физиологии отказывались от тезиса о том, что всякая психическая деятельность имеет рефлекторные основы: перспектива вторжения представителей нового направления в физиологии в область их исследования в глазах психологов ничем не отличалась от подобного же вторжения, предпринятого представителями традиционной, павловской школы.
Споры, развернувшиеся в ходе совещания 1962 г., имели много общего с аналогичными дискуссиями, ведущимися в это время во всем мире, однако специфика дискуссий, проходивших в Советском Союзе, заключалась в том, что все заинтересованные стороны — физиологи, психологи и философы — открыто могли называть себя только материалистами. Понятно поэтому, что советские психологи чувствовали себя в известной степени более неуверенно, чем их коллеги за рубежом. Что касается проблемы теоретического определения понятия «сознания» или «психического», то в ходе дискуссий в Советском Союзе был продемонстрирован целый спектр подходов к этой проблеме. При этом на одном конце этого спектра находились взгляды Ф.Ф. Кальсина, которые характеризовались, его критиками как «вульгарный материализм», а на другом — взгляды В.В. Орлова, которые, как можно легко догадаться, характеризовались как «дуализм».
Проблема природы сознания явилась, возможно, одной из наиболее серьезных проблем, стоявших перед советской философией науки в 60-е годы. Следует отметить, что в отношении к другим подобного рода проблемам — квантовой механики, релятивистской физики, генетики и т. д. — советской философией науки были выработаны вполне разумные теоретические позиции, оставляющие место для дискуссий и способствующие дальнейшему развитию науки в этих областях. Что касается проблемы относительной роли наследственных факторов и факторов среды в формировании человеческого поведения (ставшей одной из центральных философских проблем в 70-е и 80-е годы), то к тому времени она еще не была ясно сформулирована. Однако в 60-е годы проблема сознания представлялась трудноразрешимой. Вместе с тем советские философы не могли отказаться от ее разрешения, назвав ее вслед за представителями неопозитивизма «бессмысленной»: они стремились к постоянному усовершенствованию теоретической схемы диалектического материализма, включающей в себя и объяснение феномена сознания.
Подробное описание дискуссий по проблеме природы психического, имевших место в Советском Союзе в 60-е годы, потребовало бы написания отдельной книги. Невозможно поэтому сколько-нибудь подробно останавливаться здесь на описании многочисленных оттенков в мнениях, высказанных в ходе этих дискуссий. Исходя из этого, ограничимся, вслед за Д.А. Бирюковым, лишь перечислением некоторых позиций и взглядов[1]. Некоторые советские авторы (В.М. Архипов и И.Г. Егоршин) отстаивали тезис о материальности психического, отождествляя сознание с нервными процессами[2]. Они представляли одно крайнее крыло советских авторов, исследовавших эту проблематику. Сходные взгляды высказывали также Ф.Ф. Кальсин, а также (в менее явной форме) Н.В. Медведев, Б.М. Кедров и А.Н. Рякин, утверждавшие, что психическая активность и мышление представляют собой специфическую форму движения материи — форму движения, обладающую, без сомнения, крайней сложностью, но являющуюся тем не менее именно такой формой[3]. Перечисленные выше ученые критиковались другими за то, что их взгляды являлись «рецидивом вульгарного материализма»[4] (с. 378). Третьи, представлявшие школу Рубинштейна, по-прежнему утверждали, что психическая деятельность является как психической, так и физиологической и что понятие «идеальное» имеет право на существование[5]. Еще одни открыто отрицали признание материальности психического[6]. А В. В. Орлов, как мы уже видели, говорил о том, что психическое — это «идеальная (духовная) деятельность материального мозга» (с. 647). Позиции профессиональных философов, находящихся ближе к институтам власти, особенно философов из Института философии АН СССР, носили промежуточный, по сравнению с перечисленными, характер. Тот компромисс, о котором шла речь выше и который предлагался этими философами в начале 60-х годов, теперь оказался разрушенным, но они не спешили настаивать на новых формулировках, имея в виду существовавшую тогда тенденцию не вмешиваться в ход научных дискуссий. Однако для них диалектический материализм продолжал существовать как некий «средний путь», находящийся между, с одной стороны, позициями ученых (особенно психологов), отделявших психику от ее материального субстрата, а с другой — вульгарных материалистов (вроде бихевиористов и «ультракибернетиков»), которые ставили под вопрос само значение термина «сознание».
1. Попытка классификации точек зрения по этому вопросу, предпринятая в докладе Д.А. Бирюкова на совещании 1962 г., оказала мне большую помощь (см.: Философские вопросы... С. 378-379).
2. См.: Архипов В.М. О материальности психики и предмете психологии//Советская педагогика. 1954. № 7; Егоршин И.Г. Психология и физиология высшей нервной деятельности. Л., 1958.
3. См.: Кальсин Ф.Ф. Основные вопросы теории познания. Горький, 1957. Б.М. Кедров попытался в одной из своих работ дать всеобщую классификацию форм движения материи (см.: Кедров Б.М. О соотношении форм движения материи в природе//Философские проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 137-211).
4. Лебедев М.П. Материя и сознание//Вопросы философии. 1956. № 5. С. 70- 84.
5. См. выступление В.Н. Колбановского в ходе обсуждения докладов на совешании 1962 г. (с. 606).
6. См.: Георгиев Ф.И. Проблема чувственного и рационального в познании// Вопросы философии. 1955. № 1.
П.К. Анохин
Пётр Кузьмич Анохин (1898-1974) был одним из наиболее выдающихся советских физиологов. В 20-е годы, будучи студентом и молодым преподавателем, он работал в лабораториях Павлова и Бехтерева; большую часть своей жизни он посвятил разработке павловского учения[1]. Он участвовал в работе многих международных физиологических конгрессов, проходивших за пределами Советского Союза, и был хорошо известен за рубежом; его биография публиковалась в справочнике «International Who's Who». В 1955 г. он возглавил один из факультетов Первого московского медицинского института, а в 1966 г. стал действительным членом Академии наук СССР. Основные его научные интересы были связаны с исследованиями центральной нервной системы, а также эмбрионейрологией.
В своих работах Анохин часто и весьма положительно отзывался о диалектическом материализме как философии науки. По его собственному признанию, его усилия были в основном направлены на разработку детерминистской, материалистической концепции нервной деятельности; он пытался обнаружить физиологические основы форм человеческого поведения, ранее описываемых с помощью таких весьма неопределенных понятий, как «интенция», «выбор», «принятие решения» и т. п.
В 1962 г., в ходе уже упоминавшегося выше совещания по философским вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии, Анохин говорил: «Методология диалектического материализма тем и сильна, что позволяет встать на более высокий уровень обобщений и направить научное исследование по более эффективным путям, ведущим к наискорейшему разрешению проблем»[2]. Диалектический материализм, продолжает он в связи с этим, зачастую оказывается способным «предупредить ошибочное отклонение» ученого в его собственной работе, «неприемлемое для нас с идеологической точки зрения». Вместе с тем он видел и опасности, скрытые в этой «предупредительной» функции диалектического материализма, говоря о том, что существует возможность иметь «правильную» с точки зрения философии, но неразвивающуюся науку. «Огромная движущая сила, скрытая в методологии диалектического материализма», будет полностью раскрыта только тогда, считал Анохин, когда «предостерегающая» его функция будет соединена с «логикой развития самой науки», то есть с процессами постоянной проверки рабочих гипотез экспериментальными исследованиями[3]. Другими словами, Анохин призывал к синтезу строгой экспериментальной науки и диалектического материализма. Между ними, убежден Анохин, не существует противоречий, поскольку принципы диалектического материализма выдвигаются развитием самой науки. Разумеется, что при этом диалектический материализм исходит из априорных посылок о материальности действительности и подчинении ее развития определенным законам, но из этих же посылок исходит и наука. В 1949 г. Анохин писал: «Природа развивается по законам материалистической диалектики. Эти законы составляют совершенно реальное явление внешнего мира»[4].
Еще в 1935 г. в одной из своих ранних работ Анохин выдвинул целый ряд идей, которые позднее, будучи известным образом модифицированы, сыграли важную роль в формировании его концепции нервной деятельности. Будущие историки физиологии, изучая процессы развития кибернетических концепций в физиологии, должны будут обратиться к этой работе Анохина, в которой он, выдвинув идею об «обратной афферентации», предвосхитил кибернетическую концепцию «обратной связи». В то время он не располагал, разумеется, знаниями о математических основаниях теории информации. Более того, в 30-е годы среди физиологов велись дискуссии по проблеме «интегрированной нервной деятельности». Отметим, что пионерская работа в этой области была опубликована Чарльзом Шеррингтоном еще в 1906 г. (Ch. Sherrington. The Integrative Action of the Nervous System). И все же знакомство с работой Анохина, опубликованной в 1935 г., позволяет говорить о том, что и в плане терминологии и в плане самой концепции, изложенной здесь, работа эта близка к той литературе, посвященной проблемам нейрокибернетики, которая появилась значительно позднее. В этой работе он, например, говорит о нейрофизиологии, используя термин «функциональная система», действие которой рассматривается им как основанное на поступающих «управляющих и корректирующих» сигналах[5].
Убеждение в том, что физиолог должен одновременно демонстрировать свою лояльность к павловской школе и быть критически настроенным по отношению к ней, Анохин пронес через всю свою жизнь. Всегда с гордостью говоря о себе как об ученике Павлова, Анохин тем не менее ставил под сомнение некоторые из концепций своего учителя. Однако, даже критикуя отдельные взгляды Павлова, Анохин твердо отстаивал материалистические основы его учения. Сразу же по окончании второй мировой войны Анохин заявил, что в некоторых своих ранних работах он ошибался, когда критиковал метод Павлова или указывал на то обстоятельство, что в некоторых направлениях своих исследований Павлов имел предшественников. На этот счет есть мнение (которое, правда, невозможно доказать), что признание Анохиным своих «ошибок» было вызвано изменением политической ситуации в стране в послевоенные годы, когда ведущую роль стали играть идеологические моменты, а также желание утвердить приоритет русской науки. Так, в одной из своих работ, опубликованной в 1949 г., Анохин писал о том, что в истории теории рефлекса от Декарта до Павлова, опубликованной им в 1945 г., слишком много внимания было уделено взглядам материалистов XVIII в., что умаляло значение учения Павлова[6]. В другой работе, также опубликованной в 1949 г., Анохин подвергает корректировке критику учения Павлова, опубликованную ранее; в работе, опубликованной в 1936 г., Анохин писал, что было бы неправильно говорить о том, что Павлов всегда стремился изучать «организм в целом». Теперь, в 1949 г., он пишет, что подобный синтетический подход был характерен для молодого Павлова, изучавшего проблемы кровообращения и пищеварения, а не для более поздних его исследований, посвященных изучению рефлекторной деятельности[7]. Другими словами, в работе 1936 г. Анохин подразумевал, что зрелый Павлов был в известном смысле редукционистом.
В конце 40-х и начале 50-х годов Анохин в своих публикациях высказывает более ортодоксальные взгляды, очевидно, находясь под влиянием критики, высказанной в его адрес в ходе «павловской» сессии 1950 г., однако уже в конце 50-х и в 60-х годах он вновь возвращается к своим новаторским представлениям об «архитектуре» рефлекторной дуги, использовании средств кибернетики в нейрофизиологии, а также концепций, заимствованных в психологии, которые он выдвигал в ранних своих работах. В эти годы, отдавая должное своему учителю, он тем не менее ставит вопрос о необходимости модификации павловской концепции рефлекторной дуги. Так, в своем заключительном слове на упоминавшемся уже совещании в 1962 г. Анохин говорил:
«Научные факты и теории оцениваются по тому, совпадают ли они с действительностью или нет... Совершенно минуя эту основную линию сопоставления, спрашивают, совпадает ли это новое с тем, что говорил Павлов? И если не совпадает, то это сейчас же объявляется »ревизией Павлова«. Такими сопоставлениями мы сами себе закрываем возможность войти в новое. Я не боюсь, если моя трактовка будет расходиться с трактовкой моего учителя Павлова. Это естественная вещь: мы живем в иной эпохе»[8].
Несмотря на небольшие отступления, в течение всей своей жизни Анохин придерживался в целом павловской традиции в физиологии. Его подход может быть охарактеризован как некая средняя линия, проходящая между двумя крайностями в интерпретации учения Павлова. В биографии И.П. Павлова, опубликованной в 1949 г., Анохин писал о двоякого рода опасностях, стоящих перед учениками и последователями великого физиолога: с одной стороны, существовала опасность «растворения» направляющих идей Павлова, а с другой — опасность превращения его учения в догму. И Анохин был совершенно прав, когда предсказывал, что наибольшую опасность представляла как раз возможность «канонизации» учения Павлова[9].
В 1949 г., за год до «павловской» сессии, на которой Анохин был подвергнут критике за отход от основных принципов павловского учения, им была опубликована довольно большая работа под названием «Узловые вопросы в изучении высшей нервной деятельности»[10], которая (вместе с ее переизданиями в 1955 и 1963 гг.) содержит обзор итогов работы самого Анохина и его школы.
В работе 1949 г. Анохин совершенно ясно говорит о том, что он и его коллеги в течение 20 лет работали над совершенствованием классического метода, использованного Павловым при изучении условных рефлексов. В качестве модификаций классического метода И.П. Павлова, осуществленных сотрудниками отдела физиологии нервной системы Института физиологии АМН СССР, Анохин называет, в частности, «объединение секреторного и двигательного компонентов условной реакции в единой секреторнодвигательной методике с активным выбором... энцефалографическое исследование условной реакции... эмбриофизиологический подход к изучению высшей нервной деятельности и, наконец, морфофизиологическую корреляцию в изучении высшей нервной деятельности (параллельное исследование условных рефлексов и цитоархитектоники коры головного мозга)»[11]. На основе использования этих новых подходов и методов Анохин и его сотрудники пришли к заключению о том, что павловская концепция условного рефлекса является упрощенной, особенно в плане построения модели рефлекторной дуги, состоящей, по Павлову, из трех связей.
Анохин убежден в том, что сам классический павловский подход к изучению условного рефлекса не позволяет исследователям понять важные процессы, связанные с пониманием физиологических основ высшей нервной деятельности. Он задает вопрос: «Не является ли секреторный показатель... только органической частью внешнего выражения интегрированной условной реакции животного, общий облик которой сложился задолго до того, как возбуждение дошло до эффекторных аппаратов слюнной железы?»[12]. Другими словами, Анохин ставит вопрос об «интегральном характере безусловных и условных реакций животного», полагая при этом, что структура этих реакций сложнее, нежели предполагал Павлов.
В процессе своих исследований, направленных на поиски объяснения нервной деятельности на материальной, физиологической основе, Анохин ввел отдельные новые понятия и термины, что в дальнейшем рассматривалось как его заслуга. К их числу относятся, в частности, такие понятия, как «обратная афферентация», «санкционирующая афферентация», «акцептор действия» и «опережающее отражение». В 50-х и 60-х годах Анохин не пользовался понятием «санкционирующая афферентация», впервые введенным им в 1935 г., однако широко использовал понятия «обратная афферентация» и «акцептор действия». Понятие «опережающее отражение» было разработано Анохиным в конце его жизни. Каждое из названных понятий описывало, по Анохину, часть рефлекторной деятельности, которая, в свою очередь, рассматривалась им как черта, характеризующая деятельность всех организмов на земном шаре, как средство «установления временных адаптивных отношений с окружающим миром».
Те физиологи, которые являлись последователями взглядов Декарта, продолжает Анохин, были уверены в том, что рефлекторная деятельность с самого начала является целенаправленной или адаптивной деятельностью. Как следствие этого, основное внимание этих физиологов было сконцентрировано на уже готовых рефлекторных реакциях. Однако с открытием Павловым условного рефлекса и явления «подкрепления» стало совершенно ясно, что в основе рефлекторной деятельности лежат «творческие», приспособительные процессы. Неадекватность классической теории рефлекса стала особенно очевидной в результате экспериментов, в ходе которых рефлекторные функции были сначала элиминированы путем вивисекции, а потом восстановлены путем компенсации. Именно в ходе подобных экспериментов Анохин впервые столкнулся с этими проблемами.
Вскоре Анохин пришел к заключению, что компенсаторные процессы в организме не могут начаться без сигнала с периферии о наличии дефекта. Однако по-прежнему возникал вопрос: как организм «узнает» о том, что необходима компенсация? Анохин утверждал, что ответ на этот вопрос невозможен без обращения к тому, что он называл «обратной афферентацией». Смысл этого термина, писал Анохин, заключается в объяснении «непрерывного корригирования процесса компенсации с периферии»[13]. Схематично процесс обратной афферентации Анохин представлял следующим образом[14]:

Рассматривая эту обратную связь как неотъемлемую часть рефлекторной дуги , Анохин писал:
«В настоящее время нам трудно представить себе какой-либо рефлекторный акт целого животного, который бы заканчивался только эффекторным звеном «дуги рефлекса», как этого требует традиционная декартовская схема» (с. 22).
Каждый рефлекторный акт, продолжает он, сопровождается целым комплексом афферентаций, различающихся между собой как по силе, так и по локализации, времени возникновения и скорости передачи. Количество комбинаций этих афферентаций бесконечно. Вместе же они составляют один процесс:
«Только... при наличии постоянной обратной афферентации, сопровождающей как эхо каждый рефлекторный акт, все натуральные поведенческие акты целого животного могут возникать, прекращаться и переходить в другие акты, составляя в целом организованную цепь целесообразных приспособлений к окружающим условиям» (с. 22).
В виде упрощенной схемы Анохин представляет эту «организованную цепь» следующим образом (с. 25):

Таким образом, согласно Анохину, обратная афферентация служит в этой цепочке «дополнительным или четвертым звеном рефлекса». (Заметим, в скобках, что точка зрения Анохина в этом вопросе сильно оспаривалась теми, кто считал введение четвертого звена рефлекса не совсем необходимым и законным дополнением учения Павлова.) В конце этой цепочки достигается желаемый результат, что исключает наличие дальнейших эффекторных действий. Если речь идет о процессе компенсации как восстановления ранее нарушенной функции (например, в результате мозговой травмы), то в таком случае желаемая компенсация происходит именно в конце этой цепочки. То же самое можно сказать и о таких нормальных процессах, как, например, действие по поднятию стакана со стола — данная цель достигается именно в конце всей цепочки.
Анохин предостерегает против упрощенного понимания его концепции как убеждения в том, что «конец одного действия служит началом для другого». Подобное неверное понимание можно было бы, считает Анохин, представить следующей схемой (с. 25):

В отличие от этого неверного понимания Анохин утверждает, что конец действия является источником обратной афферентации, которая направляется к центрам только что развившегося рефлекса, и только после этого и в зависимости от того, какие последствия будет иметь в нервных центрах эта обратная афферентация, начинает формироваться следующий этап цепного рефлекса (с. 24). Именно в конце действия и «принимается решение» по поводу того, достигнут ли его желаемый результат. Этот механизм получил у Анохина название «акцептора действия». Этот термин заслуживает специального рассмотрения, поскольку, согласно Анохину, акцептор действия контролирует весь процесс действия.
Анализируя проблему акцептора действия, Анохин попытался тем самым подойти к исследованию таких феноменов, как «намерение» и «воля», с физиологической и детерминистской точки зрения. Для начала он задается вопросом: «Как организм узнает о том, что желаемая цель достигнута?» Отвечая на этот вопрос, он пишет:
«Если стоять на строгих детерминистических позициях, то, по существу, весь имеющийся в арсенале нашей нейрофизиологии материал не может дать нам ответа на этот вопрос. В самом деле, для центральной нервной системы животного все обратные афферентации, в том числе и санкционирующая, есть только комплексы афферентных импульсаций, и нет никаких видимых с обычной точки зрения причин, почему одна из них стимулирует центральную нервную систему на дальнейшую мобилизацию рефлекторных приспособительных актов, а другая, наоборот, останавливает приспособительные действия» (с. 26).
По мысли Анохина, из этого положения есть только один выход — предположить, что в организме существует некий «заготовленный комплекс возбуждений», который может быть сравним с обратной афферентацией. Этот комплекс должен существовать до того, как оформился самый рефлекторный акт. В случае, если информация, поступившая посредством обратной афферентации, соответствует этому заготовленному комплексу возбуждений, то тогда следует «вывод» о том, что желаемая цель достигнута. В противном случае возникает необходимость в дальнейшей эфферентной деятельности. Таким образом, проблему в целом можно сформулировать в виде вопроса: каким образом возникает этот «заготовленный комплекс возбуждений» и каков физиологический механизм, ведущий к его возникновению?
Для того чтобы лучше понять пути, предлагаемые Анохиным для решения этой проблемы, необходимо обратиться к некоторым моментам классической павловской теории рефлекса, особенно к отношениям между условным и безусловным рефлексами. Необходимо будет вспомнить, что, по мнению Павлова, всякий условный рефлекс формируется на основе безусловного. Так, наличие пищи во рту будет являться безусловным стимулом, который автоматически вызовет слюнотечение и сильное возбуждение деятельности мозга. Подобные безусловные стимулы, как правило, сопровождаются другими, которые путем тренировок могут стать условными, — зрительные, обонятельные и другие ощущения. Между ними устанавливаются «временные» связи, и после весьма непродолжительных тренировок можно будет стимулировать секреторные или двигательные центры мозга только условными стимулами[15]. Однако подобные «временные связи» не сохраняются, если не получают подкрепления в виде возбуждения безусловного центра. Другими словами, используя классический пример с собакой, можно сказать, что если периодически не давать ей пищу вместе с сигналом звонка, то только звуком звонка у нее не удастся вызвать слюнотечения.
Анохин попытался включить в эту схему действие обратной афферентации. Он исходит из того, что всякое условное возбуждение направляется через соответствующий анализатор к тому безусловному центру, который в прошлом много раз возбуждался безусловным раздражителем, и что вскоре после такого рода возбуждения этот центр вновь будет раздражаться тем же безусловным раздражителем (с. 29). Схематически это можно представить следующим образом (с. 30): (см. рис. 1).
Три последовательных стадии проявления условной реакции

На первой стадии условный раздражитель действует на, соответствующий орган чувств (рецептор). На второй стадии действие раздражителя вызывает условно-рефлекторный ответ, основанный на «представительстве» безусловного рефлекса, — шаг, который часто возникал в прошлом, но еще не возник в настоящей последовательности. На третьей стадии появляется сам безусловный раздражитель (например, пища во рту); безусловная реакция оказывается «соответствующей» ее условному «представительству», в результате чего происходит подкрепление.
Далее Анохин останавливается на выяснении вопроса о важности «соответствия» условного и безусловного возбуждения или, иначе говоря, о роли «контрольного аппарата» в рефлекторной деятельности. Как показывает один из проведенных им экспериментов, роль этого аппарата весьма велика. Эксперимент был построен следующим образом. У собаки было выработано два условных секреторно-двигательных рефлекса: тон «ля» с подкреплением на правой стороне и тон «фа» с подкреплением на левой стороне станка. Оба рефлекса подкреплялись 20 граммами хлебных сухарей. Очень скоро собака приучилась бросаться на соответствующую сторону станка, где ждала подачи безусловного раздражителя в виде сухарей. В один из дней (и только один раз) Анохин внес изменение условия эксперимента: в одну из тарелок левой стороны вместо сухарей было положено мясо, и собаке был дан соответствующий сигнал — тон «ля». Получив этот сигнал, собака направилась к левой стороне станка и была, естественно, «удивлена», обнаружив там мясо вместо сухарей. После довольно непродолжительного состояния, которое психологи называют «ориентировочно-исследовательской реакцией», собака съела мясо.
Начиная с этого момента и на протяжении 20 последующих дней действия собаки были подчинены этому событию. Теперь собака бросалась к левой стороне станка вне зависимости от того, какой сигнал — «ля» или «фа» — ей подавался. В то же время экспериментаторы продолжали осуществлять опыт так, будто ничего не произошло: если звучал сигнал «ля», то сухари появлялись с левой стороны, а если «фа» — то с правой стороны станка. Собака же, как уже говорилось, бросалась только к левой кормушке и, обнаружив там сухари вместо мяса, отказывалась их есть. Только спустя довольно продолжительное время, в отсутствие соответствующего подкрепления в виде мяса у собаки восстанавливался ранее выработанный рефлекс (с. 31-32).
По мнению Анохина, результаты этого опыта свидетельствовали о наличии в нервной системе аппарата, который он назвал «акцептором действия». Последний основывается на очень сильном, наследственном безусловном рефлексе, который, в свою очередь, может быть связан с условным раздражителем. В только что описанном опыте с собакой в качестве безусловного выступил рефлекс на мясо, свойственный плотоядным животным. Рассуждая далее, Анохин отмечает, что более правильно и более точно этот аппарат — «акцептор действия» — можно было бы назвать «акцептором афферентных результатов совершенного рефлекторного действия», однако для простоты обращения он решил остановиться на сокращенном выражении. Понятие «акцептор», продолжает он, имеет классовое значение, поскольку латинское «asseptare» соединяет в себе два смысла: «принимать» и «одобрять» (с. 34).
Согласно Анохину, если нервная система животного испытывает действие условного раздражителя, который в прошлом подкреплялся мясом, то в этом случае акцептор действия контролирует степень соответствия полученной информации прошлому опыту животного. Анохин предлагает схематичное изображение двух случаев: 1) когда имеет место совпадение вновь полученной информации и прошлого опыта и 2) когда имеет место несовпадение между условным и безусловным раздражителем (см. рис. 2).
Общая архитектура условной реакции

Схематическое изображение действия неадекватного подкрепления

Анохин убежден в том, что его подход может помочь правильно понять те пути, посредством которых нервная система восстанавливает свои ранее нарушенные функции. Предположим, что рефлекторная деятельность, изображенная на рисунке как схема «А», была нарушена в результате хирургического вмешательства или болезни. В заключительной части своей работы Анохин как раз и предлагает объяснение тех путей, посредством которых восстанавливаются ранее нарушенные функции. При этом он опирается на представления о существовании акцептора действия (см. рис. 3).
Последовательные этапы компенсаторных приспособлений

На приведенном выше рисунке под обозначением I дана схема нормального рефлекторного акта. Внешний раздражитель вызывает в коре головного мозга одновременное возбуждение всех частей коркового аппарата данного акта. Акцептор действия, как и на предыдущих рисунках, изображен в виде добавочного аппарата с адекватными связями по отношению к вполне определенной обратной афферентации. Ряд стадий, изображенных под цифрой II, представляет собой постепенную эволюцию приспособительного поведения после нанесения дефекта на функцию «А». В этой схеме, по мнению Анохина, следует обратить внимание на два обстоятельства: 1) конечный приспособительный эффект при компенсации дефекта функции, как правило, осуществляется другой системой центральных эффекторных возбуждений, отличной от нормальной, и 2) акцептор действия, связанный с особенностями эффекта «А», остается одинаковым на всем протяжении компенсаторных приспособлений (с. 37-38).
Таким образом, вводя понятие акцептора действия, Анохин пытался дать физиологическое объяснение целенаправленной деятельности высшей нервной системы. При этом он не смог, разумеется, решить проблему телеологии, представлявшую «мучение» биологии на протяжении всей истории ее развития. Он смог лишь отодвинуть границы этой проблемы немного назад. Более того, несмотря на характерное для Анохина, стремление идентифицировать те или иные физиологические механизмы, он не сделал попыток локализовать или определить место акцептора действия в самом организме. Вместе с тем, допустив на минуту справедливость рассуждений Анохина, можно попытаться ответить на ранее упоминавшийся вопрос: каким образом организм узнает о том, что желаемая цель достигнута? Своими работами Анохин продемонстрировал, что проблемы намерений и целеполагания могут исследоваться также и средствами физиологии. Многие нейрофизиологи начали в его время думать сходным с Анохиным образом. Концепции подкрепления и акцептора действия, выдвинутые Анохиным, напоминали о тех исследованиях, которые были проведены значительно раньше Л. Торндайком и Л. Морганом. В результате опытов, которые он проводил с животными, помещаемыми в лабиринт, Торндайк, в частности, пришел к выводу о том, что успешное движение, направленное на выход из лабиринта, «отпечатывается» у животного в мозгу[16]. Признавая сходство, существующее между «законом эффекта» Торндайка и его собственными взглядами, Анохин все же отмечал, что, в отличие от него самого, Торндайк в меньшей степени интересовался физиологическими механизмами, лежащими в основе наблюдаемых им явлений. Понятие успеха Торндайк связывал с чувствами удовольствия или удовлетворения, а свой закон формулировал в основном с помощью психологической терминологии. В противоположность ему Анохин описывал процессы подкрепления и целеполагания с помощью терминологии физиологии, используя отношения между условными и безусловными раздражителями, представления об аффектной и эффектной информации и т. д.
1. Важнейшие работы П.К. Анохина указаны в библиографии.
2. Философские вопросы... С. 158.
3. Там же.
4. Анохин П.К. Иван Петрович Павлов. Жизнь, деятельность и научная школа. М., 1949. С. 349.
5. См.: Проблема центра и периферии в физиологии нервной деятельности. Под ред. П.К. Анохина. Горький, 1935. С. 52.
6. См.: Анохин П.К. Узловые вопросы в изучении высшей нервной деятельности//Проблемы высшей нервной деятельности. М., 1949. С. 12.
7. См.: Анохин П.К. Иван Петрович Павлов... С. 351.
8. Философские вопросы... С. 716.
9. См.: Анохин П.К. Иван Петрович Павлов... С. 335.
10. См.: Анохин П.К. Узловые вопросы в изучении высшей нервной деятельности//Проблемы высшей нервной деятельности. М., 1949. С 9-128.
11. Там же. С. 9.
12. Анохин П.К. Узловые вопросы... С. 17.
13. Н.А. Бернштейн, подход которого во многом был похож на подход Анохина, говорил о том, что «термин «обратная афферентация», предложенный П.К. Анохиным, мало удачен, так как никакой «необратной» афферентации... вообще не существует» (см.: Философские вопросы... С. 303).
14. Анохин П.К. Особенности афферентного аппарата условного рефлекса и их значение для психологии//Вопросы психологии. 1955. № 6. С. 16-38. В дальнейшем ссылки на эту статью будут даваться в тексте.
15. Краткое описание этих процессов с использованием классической павловской терминологии содержится в: Babkin B.P. Pavlov: A Biography. Chicago, 1949. Р. 311.
16. Boring E.G. A History of Experimental Psychology, N., Y. 1957. Р. 562-563.
А.Н. Леонтьев
Алексей Николаевич Леонтьев (1903-1979) был одним из крупнейших психологов Советского Союза, обладающим огромным влиянием среди специалистов. Он родился в 1903 г. в Москве, где вскоре после большевистской революции закончил университет. В это время он впервые знакомится с марксизмом, интерес к которому останется у Леонтьева неизменным на протяжении всей жизни. В 1941 г. он становится профессором Московского университета, а четырьмя годами позже — деканом университетского факультета психологии, сменив на этом посту одного из своих учителей — Сергея Леонидовича Рубинштейна, взгляды которого обсуждались выше. В 1950 г. Леонтьев становится действительным членом Академии педагогических наук РСФСР, а в 1968 г. — Академии педагогических наук СССР. За время своей долгой жизни Леонтьев получил множество наград, включая присуждение в 1968 г. почетного звания доктора Парижского университета и Ленинскую премию, врученную ему в 1963 г. как автору книги «Проблемы развития психики». После того как в 1978 г. в США был опубликован перевод его книги «Деятельность, сознание, личность» подход Леонтьева к изучению проблем психологии получает известность на Западе[1].
Среди всех известных советских психологов послесталинского периода Леонтьев был одним из наиболее воинственно настроенных в плане идеологии. Множество его публикаций содержит резкую критику взглядов западных психологов, особенно сторонников бихевиоризма, гештальтпсихологии и неофрейдизма. Что касается американской психологии, то ее Леонтьев обвиняет в «фактологизме и сциентизме», которые, по его мнению, «стали барьером на пути исследования капитальных психологических проблем» (с. 4). По мнению Леонтьева, «К. Маркс заложил основы конкретно-психологической теории сознания, которая открыла для психологической науки совершенно новые перспективы» (с. 23). Развивая эту мысль, в другом месте он пишет:
«Особенно же большое значение имеет учение Маркса о тех изменениях сознания, которые оно претерпевает в условиях развития общественного разделения труда, отделения основной массы производителей от средств производства и обособления теоретической деятельности от практической» (с. 32).
И, наконец, он утверждал, что «методологическому плюрализму советские психологи противопоставили единую марксистско-ленинскую методологию, позволяющую проникнуть в действительную природу психики, сознания человека... Мы все понимали, что марксистская психология — это не отдельное направление, не школа, а новый исторический этап, олицетворяющий собой начало подлинно научной, последовательно материалистической психологии» (с. 4-5); напомню в связи с этим, что эти слова были написаны в 1975 г., то есть в то время, когда «идеологический энтузиазм», характерный для советской науки ранее, существенно спал. Существо марксистского подхода к пониманию психологии, по убеждению Леонтьева, сводится к совокупности трех элементов: исторического подхода к пониманию развития психологии человека; собственно психологического подхода, при котором «сознание» рассматривается как высшая форма того, что Ленин называл «отражением действительности», и, наконец, изучения социальной деятельности и ее структуры. Цитируя тезисы о Фейербахе Маркса, Леонтьев пишет, что «главный недостаток всего предшествующего материализма (включая материализм Фейербаха) состоит в том, что предмет, действительность берутся им лишь в форме объекта, в форме созерцания, а не как человеческая деятельность, не субъективно» (с. 20).
Наибольшую известность получила выдвинутая Леонтьевым концепция «деятельности». Именно социальная деятельность, по его мнению, оказывает решающее влияние на формирование личности человека. В связи с этим Леонтьев подчеркивал значение не только роли «труда» (в его марксистском понимании), но также всех видов социальной деятельности. Другими словами, являясь самым важным видом социальной деятельности, труд, по мнению Леонтьева, не является единственным ее видом. В этом вопросе он опирается на работы психолога Н.Н. Ланге, работавшего в дореволюционнрй России. В 1912 г. Ланге ставил вопрос: «Почему ребенок обращается с куклой как с живым человеческим существом?» Многие психологи были убеждены в том, что ответ на этот вопрос должен базироваться на внешнем сходстве, существующем между куклой и человеком. В противоположность этому мнению Ланге считал, что факт внешнего сходства имеет второстепенное значение по сравнению с тем, какую роль играет то, «как ребенок обращается с куклой». При этом Ланге имел в виду то, что когда ребенок увлечен игрой, то простая палочка может выступать для него как лошадь, а горошина — как человек. Другими словами, реально имеет значение не внешняя форма предмета, а те специальные отношения, в которые ребенок помещает этот предмет[2]. Речь идет о том, что в своей игровой деятельности ребенок подражает той деятельности, которую он (или она) наблюдает у взрослых. Таким образом, отмечает по этому поводу Леонтьев, «за восприятием лежит как бы свернутая практика» (с. 36). Отталкиваясь от этого, Леонтьев строит свою схему психологии, основанную на понятии социальной деятельности. Что касается бихевиористов, то по отношению к их взглядам он высказывается крайне пренебрежительно, поскольку они, по его мнению, основывались на упрощенной механистической модели «стимул — реакция». В противоположность им Леонтьев пишет о том, что для того, «чтобы научно объяснить возникновение и особенности субъективного чувственного образа, недостаточно изучить, с одной стороны, устройство и работу органов чувств, а с другой — физическую природу воздействий, оказываемых на них предметом. Нужно еще проникнуть в деятельность субъекта, опосредствующую его связи с предметным миром» (с. 34).
Важность концепции «деятельности» Леонтьев иллюстрирует, объясняя результаты «псевдоскопического» эффекта восприятия, который состоит в том, что при рассматривании объектов через бинокль, составленный из двух призм Дове, происходит закономерное искажение восприятия: более близкие точки объектов кажутся более отдаленными и наоборот. Психологи обнаружили, что псевдоскопический образ возникает только в том случае, если он правдоподобен, то есть тогда, когда воспринимаемый предмет либо является незнакомым, либо воспринимается в обратном виде (например, выпуклый предмет воспринимается как вогнутый). В том случае, если предмет знаком воспринимающему субъекту (например, лицо другого человека), псевдоскопический эффект не возникает. Эти эксперименты, согласно Леонтьеву, являются свидетельством в пользу необходимости включения в процесс познания предыдущего знания, возникшего на основе социальной деятельности субъекта в прошлом (с. 66-67).
Подчеркивая значение социальной деятельности для формирования поведения человека, Леонтьев одновременно отрицал «врожденность личности». В момент рождения, считал Леонтьев, ребенок является «индивидом», а не «личностью». Личностью не рождаются, а «становятся». По мнению Леонтьева, даже двухлетний ребенок еще не обладает всеми чертами личности.
Леонтьев критически относился к взглядам психологов, которые пытались объяснить человеческое поведение с помощью врожденных потребностей или влечений, подобных сексу или голоду.
«...Личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ», — писал он (с. 226).
В развитой человеческой личности животные потребности и влечения «трансформируются» в нечто совершенно отличное. В связи с этим Леонтьев дает очень красочное описание «голода», ссылаясь при этом на Маркса:
«Голод, — замечает Маркс, — есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов»[3].
Позитивистская мысль, конечно, видит в этом не более чем поверхностное отличие. Ведь для того, чтобы обнаружить «глубинную» общность потребности в пище у человека и животного, достаточно взять изголодавшегося человека. Но это не более чем софизм. Для изголодавшегося человека пища действительно перестает существовать в своей человеческой форме, и, соответственно, его потребность в пище «расчеловечивается»; но если это что-нибудь и доказывает, то только то, что человека можно довести голоданием до животного состояния, и ровно ничего не говорит о природе его человеческих потребностей» (с. 194).
Весьма критически Леонтьев относился также и к различного рода тестам на интеллектуальность (особенно к тесту КИ), распространенным на Западе. Именно такое его отношение и является, по-видимому, одной из причин того, что в Советском Союзе до сих пор не используются тесты, оценивающие общее интеллектуальное развитие, а проводятся только экзамены по различным конкретным дисциплинам. Концепция врожденного интеллекта была чужда Леонтьеву, так же как и концепция врожденных, неизменных человеческих потребностей. Он всегда подчеркивал возможности трансформации этих потребностей в известных условиях социального окружения. Совершенно очевидно поэтому, что взгляды Леонтьева вполне совпадали с официально провозглашаемой концепцией воспитания «нового советского человека». Согласно этой концепции, люди развитого коммунистического общества будут обладать потребностями, совершенно отличными от тех, которыми они обладают в более примитивно устроенном обществе.
В 70-х и начале 80-х годов взгляды Леонтьева начали подвергаться в Советском Союзе все возрастающей критике. Многие представители молодого поколения советских психологов рассматривали Леонтьева как марксистского догматика и даже сталиниста. Как будет показано ниже, представители «дифференциальной психологии» — новой школы, возглавляемой Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным, — начали говорить о врожденных типах личности, а также о наличии врожденных способностей, например к математике. Другие психологи начали высказывать соображения относительно возможности существования связи между генотипом и типом личности (например, преступной) — соображения, против которых Леонтьев всегда горячо протестовал. Интерпретация этих проблем Леонтьевым стала одним из вопросов, оказавшимся в центре дискуссии по проблеме «природа — воспитание», которая развернулась на страницах советских журналов по психологии, педагогике и философии в конце 70-х и 80-х годах. Эти дискуссии рассматриваются в 6-й н 7-й главах этой книг.
1. См.: Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться непосредственно в тексте.
2. См.: Ланге Н.Н. Теория В. Вундта о начале мифа. Одесса, 1912. С. 23, а также: Воспитание и деятельность (под ред. А.Н. Леонтьева.). М., 1976. С. 9-10.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 28.
Советский фрейдизм
Советские психологи серьезно недооценивали влияние бессознательного на умственную деятельность. Фрейдизм после довольно непродолжительного периода популярности в Советском Союзе в 20-х годах стал запрещенным направлением исследований. В 60-х годах советские психологи начали осознавать свое отставание в этой области, но это ни в коем случае не означало, что они стали энтузиастами психоанализа. Если судить по литературе, то у многих советских психологов возникло беспокойство по поводу того, что вся область бессознательного оказалась отданной на откуп фрейдизму; в связи с этим они хотели продемонстрировать, что это не так или, по крайней мере, не должно быть так. Как следствие, в советской литературе были предприняты попытки показать, что Фрейд был не первым, кто обратил внимание на роль сферы бессознательного[1]. Эти попытки, без сомнения, были связаны с желанием не связывать исследования сферы бессознательного с именем Фрейда, поскольку за долгие годы непризнания его теорий само имя Фрейда стало в Советском Союзе одиозным. Советские психологи критически отзывались о «монополии» фрейдизма в психологии за рубежом, особенно в США, имея на это, возможно, вполне реальные основания. Среди них развернулась дискуссия (которая носила достаточно подробный и противоречивый характер) по поводу проблемы, которая может быть названа скорее семантической: они обсуждали относительные достоинства понятий «неосознанное», «бессознательное» и «подсознательное» для определения той области исследований, о которой идет речь; при этом некоторые советские психологи предпочитали называть эту сферу «неосознаваемой высшей нервной деятельностью», поскольку, по их мнению, именно это название было ближе всех к сути фрейдизма[2]. В целом же можно констатировать, что постепенно советские психологи все больше и больше начинали осознавать значение взглядов Фрейда. Выступая в 1962 г. на неоднократно упоминавшемся уже совещании по философским вопросам психологии и физиологии и обращаясь к аудитории, состоявшей из психологов, физиологов и философов, А.М. Свядош. из Карагандинского медицинского института говорил:
«3. Фрейд, несомненно, имеет заслуги перед наукой. Он привлек внимание науки к проблеме «бессознательного». Он показал некоторые отдельные конкретные проявления «бессознательного», как, например, влияние его на описки, оговорки. Однако он внес много фантастического в проблему «бессознательного». Сюда относятся его утверждения о сексуальности раннего детского возраста. Он создал ошибочную психоаналитическую теорию, которую мы отрицаем»[3].
Работы грузинского психолога Д.Н. Узнадзе (1886/87-1950)[4] часто характеризуют как своеобразную «советскую альтернативу Фрейду», хотя взгляды Узнадзе также рассматривались в Советском Союзе как довольно сомнительные в идеологическом отношении, за что и подвергались критике. После 1960 г. эта критика носила менее чувствительный характер. Основываясь на теории «установки», выдвинутой Узнадзе, Ф.В. Бассин построил собственную теорию неосознаваемой высшей нервной деятельности, методологическая обоснованность которой рассматривалась им как имеющая преимущество перед теорией Фрейда.
Над своей концепцией «установки» Узнадзе работал с 20-х годов, когда фрейдизм еще был популярен среди советских ученых, и до конца своей жизни. Его работы были продолжены сотрудниками Института психологии Академии наук Грузии. Классический эксперимент, поставленный Узнадзе для демонстрации феномена «установки», заключается в следующем. Испытуемый несколько раз подряд получает в каждую из рук по шару равного веса, но разного объема, причем шар меньшего размера дается всегда в одну и ту же руку. Затем испытуемому даются шары одинакового объема (и веса). На вопрос: «Какой шар больше?» — испытуемый, как правило, отвечает, что больше шар, находящийся в той руке, которая раньше получала шар меньших размеров. В основе появления подобной иллюзии, объясняет Узнадзе, лежит особое «внутреннее состояние». На основе результатов подобных простых опытов он и разработал теорию «установки», согласно которой эта установка формируется прошлым опытом человека.
Некоторые последователи Узнадзе расходились с ним во взглядах на некоторые детали теории «установки». Узнадзе полагал, что «установка остается не осознаваемым человеком явлением или, по крайней мере, она представляла для него интерес именно как таковая. В отличие от него Бассин считал, что достоинство подхода Узнадзе заключается как раз в том, что он позволяет объяснять неосознаваемое с помощью представлений о «функциональном перемещении», то есть открывает эту сферу для экспериментального исследования. В связи с этим Бассин говорит:
«Неосознаваемые установки выполняют, таким образом, ту же роль невидимого «моста» между определенными формами осознаваемых переживаний и объективным поведением, которую, по замыслу Фрейда, должно было выполнять его «бессознательное»[5].
Однако даже в 60-е годы взгляды Узнадзе наталкивались порой на критику, являющуюся отголоском старых советских подходов к этой проблеме. Так, в частности, И.И. Короткин из Ленинградского института физиологии им. И.П. Павлова утверждал, что сама «установка» может быть истолкована либо как эпифеномен — и в этом случае является неприемлемой для науки, — либо как материальное явление, представляющее, по его мнению, не что иное, как выражение «динамической стереотипии», разработанной школой Павлова[6]. М.С. Лебединский из Института психиатрии АМН СССР отметил, что попытки противопоставить концепцию Узнадзе пониманию бессознательного у Фрейда не могут быть признаны успешными, поскольку «любой фрейдист примет концепцию Узнадзе, она ему не будет ни в чем мешать, он ее легко поставит рядом с концепцией Фрейда»[7].
1. См., напр.: Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности... С. 450-451.
2. Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности... С. 456.
3. Там же. С. 685.
4. См., напр.: Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966.
5. Философские вопросы физиологии... С. 471.
6. См.: Там же. С. 650-653.
7. Там же. С. 654.
Советские психологические школы
В 70-х и 80-х годах психологические исследования в Советском Союзе осуществлялись по трем различным направлениям. (1) Проводимые старой марксистской школой Выготского-Лурии-Леонтьева, подчеркивающей значение социального окружения для формирования поведения человека; эта школа по-прежнему доминирует в советской психологии, но существенно ослабла со смертью своих выдающихся лидеров. Одним из наиболее активных направлений исследований в рамках этой школы является сегодня «инженерная психология», изучением которой занимается директор Института психологии АН СССР Б.Ф. Ломов[1]. Усилия исследователей, занимающихся инженерной психологией, направлены на совершенствование продуктивности труда советских рабочих посредством использования психотехнологии. И хотя прежняя цель — воспитание «нового советского человека» — все еще является центральной для представителей этой школы, ее новые лидеры все чаще начинают обращаться к западным идеям относительно психотехнологии. (2) Осуществляемые представителями новой школы, возродившей споры по проблеме «природа-воспитание» и противопоставившей взглядам представителей первой школы подчеркиваниё значения генетических факторов в формировании поведения человека. (3) Ведущиеся в рамках нового для Советского Союза движения за раскрытие потенциальных возможностей человека. Последние из названных направлений (2,3) являются, безусловно, достаточно непривычными для сталинистов и идеологических консерваторов, однако они имеют зачастую поддержку в самых высоких советских сферах.
Взгляды представителей первого из названных направлений уже обсуждались в этой главе. Как показывают материалы «круглого стола» на тему «Философские проблемы деятельности», организованного журналом «Вопросы философии»[2], несмотря на критику, эти взгляды по-прежнему располагают широкой поддержкой со стороны психологов и философов. Взгляды представителей второго направления будут рассмотрены в последующих двух главах. Здесь же я кратко остановлюсь на описании взглядов, характерных для третьего из названных направлений. Я выражаю признательность Шейле Коул — американской исследовательнице советской психологии, которая во время пребывания в Советском Союзе побывала в нескольких «семейных клубах» и привлекла мое внимание к движению за раскрытие потенциальных возможностей человека, существующему в этой стране[3].
Следует отметить, что возникновение названного движения является, пожалуй, самым удивительным событием в развитии советской психологии последних лет. При этом также необходимо сказать и о том, что в своей основе оно имеет множество черт, роднящих его с аналогичными тенденциями, существующими на Западе. Представители официальной советской психологической науки поначалу отрицательно отнеслись к этому движению, оценив его как «ненаучное». В конце 70 — начале 80-х годов это движение набрало такую силу, что, несмотря на то, что официальные психологи по-прежнему сохраняют достаточно негативное отношение к нему, даже среди них начинает возникать более благосклонное отношение к идеям, лежащим в основе этого движения. Однако основную поддержку этому движению в Советском Союзе оказывают образованные и имеющие политическое влияние люди, не принадлежащие к числу представителей профессиональной академической психологии. Наиболее известными представителями названного движения в Советском Союзе являются супруги Никитины — Борис Павлович и Елена Алексеевна. Написанные ими книги, посвященные проблемам воспитания детей, расходятся миллионными тиражами[4]. Сам Борис Никитин является инженером по образованию, и многие из его последователей также являются представителями советской технической интеллигенции — людьми, испытывающими недостаток в личных и семейных связях, полноценных человеческих контактах, которые они не могут установить, работая в различного рода бюрократических учреждениях. Никитин призывает к созданию так называемых «семейных клубов», которые могли бы способствовать удовлетворению потребности людей в более тесных социальных связях и отношениях. Члены этих клубов в основном концентрируют свое внимание на задачах, связанных с воспитанием детей в более свободной обстановке, нежели это рекомендуется официальной советской педагогикой. В основе рекомендаций Никитина лежит убеждение в том, что каждый ребенок обладает такими потенциальными возможностями своего развития, которые способны раскрыться при наличии соответствующих условий окружения. В связи с этим задача заключается в «освобождении природных потенций человека». Эти потенциальные возможности по-разному проявляются у детей в различные периоды их развития; если в определенный момент этого развития не будут созданы правильные условия для раскрытия этих возможностей, то последние могут быть утрачены ребенком навсегда.
Названные семейные клубы различаются по интересам и конкретным формам их деятельности. Члены этих клубов, как правило, часто встречаются между собой, участвуют в совместной работе по устройству площадок для детских игр, которые оборудуются в соответствии с рекомендациями, предложенными Никитиными. К числу наиболее популярных видов деятельности этих клубов можно отнести также восстановление старых крестьянских домов, расположенных в сельской местности. Некоторые из членов этих клубов являются вегетарианцами, другие воздерживаются от употребления всех видов алкогольных напитков, что можно охарактеризовать как достаточно необычное явление для Советского Союза. Как уже отмечалось, интересы членов этих клубов могут быть различными, но все они носят «неофициальный» характер: здесь и стремление рожать в домашних условиях, увлечение лечением травами, биологической обратной связью, йогой, иглоукалыванием, заговорами, восточной медициной, медитацией, различного рода массажами, гипнозом, встречами по интересам и даже шаманством.
Существуют связи между советским движением за раскрытие потенциальных возможностей человека и аналогичными движениями в США, которые осуществляются, в частности, через посредничество Исаленского института в Калифорнии. Советский гражданин Иосиф Гольдин стал одним из членов правления этого института. Институтом разработана программа советско-американского сотрудничества в этой области, связанная с обменом представителей этого движения. Возглавляет эту программу Джеймс Хиккман, который неоднократно посещал в связи с этим Советский Союз и организовал целый ряд встреч, посвященных проблемам биологической обратной связи; некоторые из них состоялись в резиденции посла США в Советском Союзе[5]. В свою очередь некоторые известные советские официальные представители посетили Калифорнию с целью обсуждения аналогичных проблем. Поддержку этим инициативам оказывает советское посольство в Вашингтоне, позитивные оценки их высказывались также и на страницах советских газет, особенно «Комсомольской правды».
Шейла Коул задает вопрос, который должен возникнуть у всякого знающего ситуацию в Советском Союзе человека:
«Почему советское руководство проявляет интерес к тем американцам, которые известны в США как люди, придерживающиеся крайних взглядов в этой области?»
С точки зрения официальной советской идеологии движение за раскрытие потенциальных возможностей человека имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. К отрицательным моментам относятся следующие: движение не имеет ясно выраженных марксистских теоретических оснований; оно существует как самостоятельное и независимое (в социальном и интеллектуальном отношениях) явление, что всегда вызывает подозрение у советских властей; более того, в рамках этого движения существуют ненаучные и антиавторитарные подходы, которые традиционно получают негативную оценку советских властей.
Однако, несмотря на эти недостатки, с точки зрения советских властей, это движение имеет и свои положительные стороны. К ним прежде всего относятся такие моменты, как повышение производительности труда у членов этого движения, воспитание положительных чувств по отношению к работе, стремление к многодетности (что особенно важно, учитывая демографическую ситуацию в стране), упрочение семейных уз, в то время как наблюдается увеличение количества разводов, и т. п.
Уже одно то, что это движение может способствовать росту производительности труда, может являться оправданием его существования в глазах советских официальных властей. Любой, кто читал советские газеты, знает, что наиболее популярным выражением в них является понятие «скрытые резервы», что подразумевает возможность повышения производительности труда в случае их использования. Сторонники это движения на Западе говорят о возможности «трансформировать человеческую личность путем самообразования и самовоспитания». Как видим, эта цель созвучна традиционному стремлению советских властей «воспитать нового советского человека» путем социальных преобразований. Таким образом, можно говорить о том, что представители названого движения на Западе и члены советских семейных клубов разделяют убеждение в том, что индивидуальные инициативы могут быть реализованы в действиях, не направленных против существующих политически экономических структур, а в основном в деятельности по индивидуальному самосовершенствованию. Это стремление устроит любую из существующих структур власти.
1. См., напр.: Ломов Б.Ф. Психологическая служба страны//Вестник АН СССР. 1980. № 1. С. 20-30; Он же. Развитие техники и проблемы психологии//Вестник АН СССР. 1981. № 1. С. 30-40.
2. См.: Вопросы философии. 1985. № 2, 3, 5.
3. Cole S. Soviet Family Clubs and Human Potential. Manuscript, 1984.
4. К сожалению, мне удалось познакомиться только с одной из них: Никитин Б.П. Ступеньки творчества. 1976 (издательство не указано. — Примеч. перев.).
5. Мне довелось участвовать в одной из этих встреч в январе 1983 г., когда с докладом на ней выступал известный специалист в этой области Элмер Грин. См. также: Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975.
Глава VI. Дискуссия по проблеме «природа — воспитание»
Последние годы отмечены наличием в Советском Союзе широкой дискуссии относительно роли «природных» и «воспитательных» факторов в развитии человека — дискуссии по проблеме, получившей название проблемы «соотношения биологического и социального». Дискуссия эта разворачивалась на страницах различных журналов — начиная от узкоспециальных биологических, психологических, юридических, философских и медицинских и кончая популярными литературно-художественными и политическими журналами; более того, названная проблема обсуждалась на страницах изданий так называемого «самиздата», представлявших как правое, так и левое крыло советских диссидентов, а в 1983 г. с высказыванием по этой проблеме выступил лидер Советского государства и партийного аппарата.
В некоторых аспектах дискуссия по названной проблеме, развернувшаяся в Советском Союзе, напоминала аналогичные споры, ведущиеся на Западе, где различные точки зрения высказывались по вопросам, связанным с исследованиями в таких областях, как генетика поведения, генная инженерия, социобиология и т. д., однако в Советском Союзе этим вопросам придавалось фундаментальное значение как в интеллектуальном, научном плане, так и в плане идеологическом. И действительно, в определенные моменты развития этой дискуссии вопросы, обсуждавшиеся в связи с проблемой соотношения биологического и социального, зачастую оказывались очень тесно связанными с идеологическими проблемами. Интересно, что при этом прежние трактовки этих проблем, связанные с официальной идеологией, подвергались критике, а на смену им выдвигались новые взгляды. Другими словами, дискуссия по проблеме соотношения социального и биологического явилась еще одним свидетельством наличия кризиса в официальной советской идеологии, когда старые подходы и взгляды начинают утрачивать свои позиции, а новые вызывают чувство опасения и неуверенности у политических лидеров страны.
Необязательно быть марксистом для того, чтобы понять, что дискуссия по этой проблеме имеет важное значение не только для официальной советской идеологии, но затрагивает также интересы и других, в частности западных, стран; и хотя людям на Западе свойственно отрицание такого положения, когда политические лидеры могут решать судьбу исхода собственно научных споров, они, как правило, отдают себе отчет в том, что выводы и заключения, к которым приходят ученые в результате исследования этих проблем, имеют огромное социально-политическое значение для любого общества. В самом деле, одной из примечательных особенностей советской дискуссии по проблемам соотношения социального и биологического является то, что многие западные либералы, следящие за ее развитием, с симпатией относились к отдельным точкам зрения на эти проблемы, высказываемым советскими марксистами, хотя и не соглашались с подходом диалектического материализма к решению научных проблем.
1. Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 193. Перевод М. Донского.
Немного о происхождении дискуссии
Ирония ситуации заключается в том, что вопреки мнению зарубежных обозревателей, считавших, что в основе споров вокруг генетики (имевших место во времена расцвета лысенкоизма — с 1948 по 1965 г.) лежал интерес к человеку, этот интерес даже не упоминался в советских публикациях того периода; вместе с тем в последние годы (когда на Западе уже думали, что беспокойство по поводу генетики в Советском Союзе уже прошло) развернулось обсуждение проблемы отношения марксизма к генетике человека.
Как уже отмечалось выше, в главе 4, Трофим Лысенко, правивший советской генетикой в 40-х и 50-х годах, в своих работах не касался вопросов роли генетических исследований при изучении человека[1]. Споры вокруг лысенкоизма в Советском Союзе были связаны с проблемами урожая и продуктивности животных, а не с проблемами человека. Сам Лысенко делал упор на совершенствовании методов ведения сельского хозяйства, скрывая свои провалы в этой области за завесой широковещательных заявлений и призывов, а также пользуясь поддержкой со стороны политических лидеров (см. главу 4).
Однако молчание лысенкоистов по поводу проблем генетики человека вовсе не означало, что эти проблемы не имели идеологического значения. На самом деле, сознательное избегание этих проблем являлось достаточно красноречивым свидетельством в пользу их социального и политического значения — достаточно вспомнить о том, что с начала 30-х годов и до момента падения власти Лысенко в генетике в 1965 г. генетика человека была областью исследований, запрещенной в Советском Союзе, что ее возрождение произошло только в начале 70-х годов. Попытки объяснить человеческое поведение, используя представления о врождённых или генетических его характеристиках, рассматривались в Советском Союзе как неправильные начиная с конца 20-х годов, когда под давлением политических властей были свернуты имевшие весьма непродолжительную историю советские исследования по евгенике, в осуществлении которых принимали участие как марксисты, так и немарксисты[2]. Однако даже еще раньше этого времени отдельные представители советских властей обращали внимание на политические аспекты изучения проблемы «природа — воспитание». Так, например, Николай Семашко, бывший с 1918 по 1930 г. народным комиссаром здравоохранения, писал:
«Решение вопроса о взаимоотношении между биологическим и социальным фактором в современной медицине является лакмусовой бумажкой, определяющей марксистскую или буржуазную постановку основных медицинских проблем»[3].
В 30-х годах положение, при котором идеологи нацизма делали упор на евгенические меры и расовые различия, означало, что ни один советский автор не мог поднимать вопросы, связанные с исследованием генетики человека, без того, чтобы не вызвать подозрения по поводу своих политических убеждений.
Во времена Сталина и Лысенко задача по формированию нового советского человека ставилась как задача, стоящая перед психологами, педагогами и политическими лидерами, а не перед генетиками. Господствующей доктриной являлась точка зрения примата «воспитания», которая обычно соединялась с павловским учением об условных рефлексах. Поскольку существовали не только сторонники павловского учения, но и его противники, а также представители других школ и направлений, то нельзя говорить о том, что поголовно все придерживались именно этой доктрины, однако до конца 60-х годов большинство советских психологов и педагогов подчеркивали возможность формирования у детей свойств личности и талантов путем создания соответствующих социальных условий. Особенное влияние взгляды Павлова имели в 40-х и 50-х годах, однако до 1936 г. и после 1956 г. сильное влияние имела и «школа Выготского». Л.С. Выготский и его знаменитые ученики — А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев имели свои пристрастия в исследовании психики, каждый внес в них нечто новое, но все они при этом были едины в подчеркивании решающего значения социальной среды для процессов формирования человеческой психики, связывая этот принцип с марксистским учением (см. главу 5). Выготский подчеркивал, что марксистский подход к изучению проблем психологии заключается в изучении «внешних» или «социальных» истоков происхождения речи и мышления человека[4]. Лурия писал о том, что, изучая явления психики, «необходимо выяснять социальные и классовые факторы, лежащие в их основе»[5]. Леонтьев, чья теория «социальной деятельности» стала доминирующей в советской психологии 70-х годов, писал, что «сознание с самого начала является социальным продуктом»[6]. Все трое были убеждены в том, что свойства и черты человеческой личности должны объясняться в рамках тех социальных отношений, в которых существует человек.
В конце 60-х годов положение, при котором в Советском Союзе существовало единство по вопросу об источниках формирования человеческого поведения, начинает меняться. К числу многообразных и сложных причин, приведших к подобному изменению, можно отнести следующие:
— возрождение в это время всех областей духовной жизни советского общества после периода сталинской ортодоксальности;
— конец господства «лысенкоизма» означал, что сам предмет изучения генетики уже не был связан с теми идеологическими опасностями, которые существовали ранее; возрождение исследований по генетике растений и животных позволяло говорить о распространении генетических исследований и на человека;
— во всем мире в психологии росло понимание значения физиологии, врожденных, генетических факторов на процесс формирования психики человека; к этому времени стали известны сотни болезней человека, связанных с наличием вполне определенных аномалий в генетических его структурах. Более того, в этот период начинают утрачивать почву под ногами теории психологии и лингвистики, согласно которым в момент рождения разум ребенка представляет собой «чистую доску»;
— быстро развивающиеся исследования в таких областях, как психофармакология и психонейрология, давали результаты, ясно свидетельствующие о том, что нельзя объяснить умственную деятельность без обращения к химии, биологии и физиологии; кроме того, возможность создания «искусственного интеллекта» привлекала внимание к различного рода внутренним структурам, а не к социальной среде;
— и наконец, многие предсказания относительно «отмирания пережитков прошлого», сделанные советской марксистской теорией, подчеркивающей примат «воспитания», не сбылись.
Означало ли это, что эта теория была неправильной? Преступность, которую эта теория объявляла «пережитком капитализма», продолжала существовать и спустя 50 лет после революции, не обнаруживая признаков исчезновения. Алкоголизм, проституция и другие отклонения от социальных норм, которые, как считалось, должны были исчезнуть под влиянием правильного воспитания и политического руководства, не только не исчезли, но, как представляется, даже возросли. (В отсутствие официальной советской статистики, отражающей положение в стране с различного рода социальными отклонениями, западным наблюдателям очень трудно судить о действительных тенденциях, имеющих место в этой сфере жизни советского общества.) Перед лицом этих процессов, происходящих в обществе, советские психологи, юристы, генетики и специалисты в области здравоохранения начали искать альтернативные подходы к решению стоящих перед ними проблем.
Истоки обсуждаемой дискуссии поначалу можно было обнаружить лишь в отдельных диссертациях и публикациях, помещаемых в различного рода профессиональных журналах. Такое положение объясняется тем, что именно в такого рода работах можно было тогда высказывать взгляды, не совпадающие с ортодоксальными марксистскими философскими позициями, не опасаясь при этом привлечь к этим взглядам слишком пристальное внимание. Только десятилетие спустя исследования ранее запрещенных проблем попали в поле зрения широкой общественности и периодической печати.
Психологи были одними из первых, кто обратился к исследованиям этих вопросов. В 1961 г. Б.М. Теплов публикует книгу под названием «Проблемы индивидуальных различий», а спустя год еще одну — «Типологические свойства нервной системы и их значение для психологии». Эти работы положили начало новому направлению или школе в советской психологии, которое подчеркивало наличие различных типов людей и соответственно различных типов умственных процессов. Один из учеников Теплова — В.Д. Небылицын продолжил эту работу, став редактором серии работ под общим названием «Типологические особенности высшей нервной деятельности у человека». В 1969 г. Небылицын отказывается от павловской терминологии в названии этой серии работ и дает ей новое название — «Проблемы дифференциальной психофизиологии»[7]. В серии своих работ И.В. Равич-Щербо, принадлежавшая к этой школе исследователей, пришла к выводу о том, что большая часть индивидуальных различий в процессах умственной деятельности, изученных ею, объяснялась генетическими особенностями испытуемых[8]. Приблизительно в то же самое время другой исследователь — В.А. Крутецкий сделал вывод о том, что способности к математике наследуются[9].
Все эти исследования рассматривались как подрывающие основы советской педагогической психологии, поскольку ставили под сомнение идею о способности сформировать талант и личность в человеке, не обращая внимания на его внутренние особенности. Однако в то время эти исследования не наделали большого шума. Вместе с тем можно себе представить, какой шум они могли наделать, если перенестись на мгновение в 1976 г., когда бывший тогда министром просвещения СССР М.А. Прокофьев (заметивший наконец, что делается в подведомственных ему исследовательских учреждениях) говорил с трибуны XXV съезда КПСС о том, что «осуществление всеобщего среднего образования подрастающих поколений на практике доказало антинаучность представлений о наличии якобы наследственных ограничений в развитии интеллекта человека — представлений, взятых на вооружение буржуазным обществом в обоснование классовой образовательной политики в угоду правящей элите. Советская наука противопоставила этому лженаучному утверждению единственно верное материалистическое положение о безграничной возможности развития человека в благоприятных социальных условиях»[10]. В конце 60-х и начале 70-х годов, однако, борьба вокруг этих вопросов еще не развернулась в полном масштабе и психологи продолжали спокойно работать над изучением роли наследственных факторов. В начале 70-х годов некоторые из ведущих советских философов стали замечать работы психологов и генетиков в этом направлении и пытаться осмысливать их значение для марксизма и диалектического материализма. В то время главным редактором ведущего советского философского журнала «Вопросы философии» был И.Т. Фролов — человек, создавший себе репутацию противника Лысенко, опубликовав в 1968 г. книгу о философских проблемах биологии[11]. Фролов стремился к диалогу естествоиспытателей и философов и хотел при этом избежать догматического тона, присущего ранней советской философии; в результате этого дискуссии за «круглым столом», организованные журналом «Вопросы философии» на тему о «соотношении биологического и социального», носили настолько откровенный характер, что их материалы так и не были полностью опубликованы. Тем не менее были опубликованы отдельные материалы этих дискуссий, а также обзор писем, явившихся откликом на нее[12].
В соответствии с атмосферой, царившей в начале послелысенковского периода, участники дискуссий были готовы терпимо отнестись к различным точкам зрения, однако многие философы были при этом шокированы заявлением биолога А.А. Нейфаха по поводу того, что люди не только существенным образом различаются по своим интеллектуальным и артистическим способностям, но что советские власти должны использовать эти научные открытия с целью «создания особо одаренных людей, необходимых для ускорения темпов научно-технического прогресса, развития искусства и т. п.»[13]. Сославшись на преимущества использования методов генетической инженерии, в частности метода клонирования в сельском хозяйстве и животноводстве для улучшения их продуктивности, Нейфах задается вопросом: почему те же самые методы не использовать по отношению к людям с целью повышения их творческих возможностей в таких областях, как наука и искусство? Подумать только, продолжает он, что можно было бы совершить в науке, если бы появилась возможность сохранять и репродуцировать генотип таких людей, как Эйнштейн.
В ходе уже упоминавшихся дискуссий за «круглым столом», состоявшихся в начале 70-х годов, выяснилось, что лишь небольшое число ученых разделяют энтузиазм Нейфаха по поводу применения методов генной инженерии к человеку. В самом деле, ни один из участников дискуссий (из тех, чьи выступления были опубликованы) не высказал прямой поддержки предложения по применению методов клонирования к человеку. Некоторые из участников, правда, согласились с возможностью использования методов генной инженерии применительно к человеку, обусловив это использование наличием жесткого контроля. Так, А.А. Малиновский высказался в том смысле, что не следует «бояться» самого слова «евгеника», поскольку существуют как негуманные, так и гуманные формы ее использования. Известный советский специалист в области медицинской генетики Н.П. Бочков высказал несогласие с теми, кто был склонен преувеличивать роль среды, говоря о формировании поведения человека. Касаясь вопроса о понятии «евгеника», он заметил, что «жизнь покажет, приживется ли этот термин или нет».
В.П. Эфроимсон согласился с Нейфахом в том, что различные таланты человека определяются генами, и призвал к созданию «педагогической генетики», которая бы занималась изучением генетических особенностей одаренных людей[14]. Взгляды Эфроимсона по поводу роли генетики в формировании поведения человека до сих пор не опубликованы в советской печати, с ними можно ознакомиться по публикациям «самиздата», в частности в «Политическом дневнике»[15]. Этот журнал выходил под редакцией Роя Медведева, являющегося марксистом неортодоксальных взглядов, и представлял собой форму критики советского руководства «слева». В ходе дискуссии, организованной журналом «Вопросы философии», Эфроимсон также пытался связать свои взгляды с марксистской теорией. Неправильно, утверждал Эфроимсон, думать, что эти взгляды противоречат марксизму, поскольку одним из лозунгов марксизма является: «От каждого по способностям, каждому — по потребностям»; согласно Эфроимсону, этот лозунг, по крайней мере, исходит из существования различий в способностях людей.
В ходе дискуссии взгляды Эфроимсона подвергались жесткой критике. Так, психолог А.Н. Леонтьев отметил, что подход Нейфаха ведет к возрождению «ложного биологизма» в учении о человеке и творческих силах общества. А.Ф. Шишкин, специалист по вопросам марксистской этики, увидел основную ошибку Нейфаха в уделении слишком большого внимания роли «гениев» в развитии общества, что противоречило, по мнению Шишкина, марксистской концепции о роли личности в истории, утверждающей, что ответственность за прогресс общества лежит на «широких народных массах». В.Н. Кудрявцев заметил, что попытки определить, какой генотип является «желательным», а какой — нет, всегда оказываются связанными с предубеждением по отношению к тем или иным людям или группам людей.
Таков был вкратце круг вопросов, обсуждавшихся в ходе названных дискуссий и ставших позднее предметом более широких дискуссий; однако в то время материалы дискуссии остались известными лишь достаточно узкому кругу людей: участникам закрытых заседаний в Институте философии АН СССР, подписчикам журнала «Вопросы философии», которые пытались прочесть между строк краткого изложения этих дискуссий в этом журнале, а также читателям журнала Р. Медведева. В 1971 г. дискуссия по проблеме «природа — воспитание» выплеснулась на страницы известного советского журнала «Новый мир», что нашло отражение в трех статьях, о которых речь пойдет ниже.
1. Все исследователи, занимающиеся изучением «лысенкоизма», высказывают единодушное согласие по этому вопросу (Joravsky D. The Lysenko Affair; Medvedev J. The Rise and Fall of T.D. Lysenko, а также первое издание этой книги — Graham L. Science and Phylosophy in the Soviet Union). Тем не менее миф о том, что «лысенкоизм» в основе своей был связан с идеей о «создании нового советского человека», присутствует и сегодня во многих публикациях, посвященных исследованиям о Советском Союзе, что свидетельствует о том, что никакое образование не может убить привлекательную идею.
2. Graham L. Science and Values: The Eugenics Movement in Germany and Russia in the 1920's//The American Historical Review (December, 1977), 82 (5): 1133-1164.
3. Семашко Н.А. Избр. произв. М., 1954. С. 312.
4. О политических взглядах Выготского см.: Kozulin A. Psychology in Utopia. Cambridge, Mass., 1984.
5. Cole M., ed. The Selected Writings of A.R. Luria. Р. 6. Коул отмечает, что ни Выготский, ни Лурия не выступали против изучения генетики поведения человека; оба они подвергались критике со стороны марксистов за «дуализм» в этом вопросе. И тем не менее оба они известны именно как ученые, подчеркивающие роль социального.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. С. 31.
7. Объяснение причин, заставивших изменить прежнее название, Небылицын дает в кн.: Проблемы дифференциальной психофизиологии. М., 1969. Т. 6.
8. См., напр.: Равич-Щербо И.В. Оценка силы нервной системы по зависимости времени реакции от интенсивности стимула//Проблемы дифференциальной психофизиологии. М., 1969. Т. 6; Она же. Возможный экспериментальный подход к изучению биологического и социального в человеке//Биологическое и социальное в человеке. М., 1977; Равич-Щербо И.В., Шибаровская Г.А. Структура динамичности нервных процессов у детей школьного возраста//Проблемы дифференциальной психофизиологии. М., 1972. Т. 7.
9. См.: Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. М., 1968. С. 399.
10. XXV съезд КПСС: стенографический отчет. Т. 2. С. 179.
11. Об этой книге речь уже шла в главе 4. Примером нападок на Фролова со стороны людей, симпатизирующих Лысенко, может служить статья В.С. Шайкина «С односторонних позиций» (о книге «Генетика и диалектика», опубликованнои в газете «Сельская жизнь» 17 мая 1969 г. С. 5).
12. См.: Вопросы философии. 1970. № 7, 8; 1973. № 6, 8; Из редакционной почты: по следам дискуссии//Вопросы философии. 1971. № 12.
13. Цит. по: Фролов И.Т. Перспективы человека. М., 1979. С. 209-214.
14. См.: Вопросы философии. 1970. № 8. С. 125.
15. См. статью В.П. Эфроимсона о генезисе этики//Политический дневник. 1969. Февраль. № 53.
Начало публичной дискуссии
Первая из названных статей появилась в сентябрьском номере «Нового мира»[1]. Ее автор Павел Симонов призывал к переориентации советской психологии: от подчеркивания определяющей роли внешних стимулов, характерного для павловского подхода, он предлагал обратиться к изучению других источников формирования человеческого поведения, включая внутренние, врожденные факторы. Симонов подчеркивал, что люди неодинаковы, что каждый из них обладает индивидуальными «потребностями». С биологической и социальной точек зрения, говорил Симонов, наличие таких различий между людьми может быть оценено только положительно, поскольку это полезно для развития «вида в целом». Так, любители приключений, люди авантюрного склада будут рисковать и могут при этом открыть что-нибудь новое, а люди более консервативного склада будут способствовать продолжению жизнедеятельности общества в том случае, если авантюристы потерпят неудачу. Симонов в этой статье выражает несогласие с точкой зрения, согласно которой акцент на наследственных факторах формирования человеческого поведения неизбежно ведет к консервативным политическим выводам. В самом деле, замечает он, само стремление к свободе как таковой, столь характерное для некоторых людей, может оказаться обусловленным наследственными факторами.
Автором другой статьи был В.П. Эфроимсон — биолог, являющийся специалистом в области генетики человека. Эта статья, озаглавленная «Родословная альтруизма», стала одной из наиболее заметных публикаций за все время дискуссии, ведущейся в советской печати по проблеме «природа — воспитание»[2]. Даже сегодня в частных разговорах с советскими гражданами можно услышать ссылки на эту статью как на своеобразный первый «залп», положивший начало публичной дискуссии по проблемам соотношения биологического и социального.
Вслед за Симоновым Эфроимсон высказывает в этой статье сожаление по поводу того, что в советских исследованиях преувеличивается роль социальных факторов в формировании человеческого поведения. По его мнению, в становлении интеллекта человека гены играют не меньшую роль, чем среда[3]. Более того, в полемическом задоре Эфроимсон пишет о том, что именно в ходе естественного отбора у людей выработались такие качества, как альтруизм, героизм, способность к самопожертвованию, стремление к добру, уважение к старшим, родительские чувства (особенно чувство материнской любви), любознательность и т. п.[4] Он утверждает, что все перечисленные выше характеристики имели с точки зрения эволюции человека приспособительный характер, поскольку без этических инстинктов племя также не могло бы существовать, как и в тех случаях, когда у людей этого племени не было бы одной ноги, руки или глаза. Аргументируя эти взгляды, Эфроимсон ссылается на исследования явлений «родственного отбора» и «включенной приспособленности», осуществленные в 60-х годах Уильямом Д. Гамильтоном, на которые, спустя некоторое время, опирался и основатель социобиологии профессор Гарвардского университета Э.О. Уилсон. (Следует отметить, что, в отличие от последнего, Эфроимсон называл большее количество форм поведения, которые, по его мнению, определялись генетическими факторами.) Таково вкратце положительное, по мнению Эфроимсона, влияние генов на поведение человека. Что же в таком случае можно отнести к отрицательным моментам этого влияния? В этом вопросе суждения Эфроимсона носят еще более спорный характер. Он, в частности, задается вопросом о том, почему в Советском Союзе продолжает существовать такое явление, как преступность, несмотря на то, что социальные условия в стране значительно изменились. По его мнению, «с ослаблением острой нужды и других чисто социальных предпосылок преступности начинают яснее выступать предпосылки биологические»[5]. Особое значение, считает он, наследственные факторы имеют при объяснении рецидивной преступности. При этом он ссылался на результаты исследований близнецов, которые показывали, что если один из них оказывался преступником, то и второй становился им, причем в тех случаях, когда близнецы были однояйцовые, эта связь прослеживалась с большей очевидностью[6]. Ссылка именно на эти исследования раскрывала ошибочность тех посылок, на которых Эфроимсон строил свои представления; дело в том, что часть тех исследований, на которые ссылается Эфроимсон, была проведена в Германии и странах Центральной Европы в конце 20-х и 30-х годах, то есть в то время, когда многие исследования в области генетики человека проводились на основе ложных этнических (расовых) и генетических представлений, что указывало на сомнительный характер самих этих исследований. Другими словами, эти исследования, проводимые с близнецами, не всегда выдерживали критического рассмотрения, и именно это обстоятельство и не учитывал Эфроимсон, ссылаясь на них в своих работах[7].
Эфроимсон считал, что преступники-рецидивисты обладают характерными чисто физическими, внешними чертами:
«Предельно упрощенно — это коренастый, большебрюхий и широкогрудый здоровяк с преобладанием физического развития над интеллектуальным»[8].
Означает ли это, задает вопрос Эфроимсон, что известный итальянский криминалист прошлого века Чезаре Ломброзо был прав, когда говорил о существовании людей «преступного типа»? Отвечая на этот вопрос, он предпочитает оградить себя от возможных недоразумений и говорит о том, что люди, принадлежащие к этому типу, необязательно становятся преступниками на самом деле; при этом он также делает уступку советским политическим властям (которые позднее запретят публиковать некоторые его работы), рассуждая о том, что «в специфических условиях США», где существует организованная преступность, культ агрессивности, расизм и социальная несправедливость, принадлежность к «преступному типу» легко приводит людей к совершению преступления. Однако, несмотря на эти оговорки, совершенно ясно, что, излагая свои взгляды на преступность, Эфроимсон имел в виду не только США, но и Советский Союз, поскольку в его статье говорилось о продолжении существования преступности в этой стране, несмотря на «совершенство» ее социальных условий.
В том же номере «Нового мира», где была опубликована статья Эфроимсона, был напечатан и своеобразный ее комментарий, написанный известным советским биологом, президентом Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова академиком Борисом Астауровым[9]. В этом комментарии Астауров, хотя и с небольшими оговорками, одобрил в целом подход, изложенный в статье Эфроимсона. Назвав последнего «одним из лучших в мире знатоков генетики человека», Астауров писал о том, что «мы должны быть очень благодарны ему за то, что, идя своим собственным, независимым и оригинальным путем, он разработал эти издавна реявшие в воздухе идеи во всеоружии современных знаний, со свойственной ему широтой, глубиной, убедительностью и оптимистической верой в человека»[10].
Отдавая отчет в том, что в Советском Союзе Эфроимсона могут обвинить в «неоправданной биологизации социальных явлений» и в «социал-дарвинизме, скатывающемся в расизм» (оба эти обвинения часто высказывались советскими марксистами в адрес ученых, занимающихся генетикой человека), Астауров отверг их, написав: «Нет, переоценки биологических сторон человека и забвения того, что человек — животное прежде всего общественное, здесь нет»[11]. Содержащаяся в этих словах достаточно сильная поддержка довольно спорной статьи Эфроимсона вызывает удивление.
Представляется, что сам факт этой поддержки нельзя понять, если не рассматривать его на фоне политической и интеллектуальной ситуации, сложившейся в Советском Союзе в конце 60 — начале 70-х годов. Как это ни покажется странным западным читателям, в умах которых генетический подход к объяснению поведения человека обычно ассоциируется с политическим консерватизмом, в советском обществе того времени подобные подходы рассматривались как проявление «либерализма», поскольку означали еще один шаг в направлении освобождения от сталинизма, «лысенкоизма» и марксистского догматизма. То обстоятельство, что все три названные статьи появились не в научном, а в литературно-художественном журнале, пользовавшемся в то время репутацией одного из самых либеральных, лишний раз подчеркивает это. Для антисталинистов, каковым и являлся Астауров, либеральный характер подхода Эфроимсона к этой проблеме представлял большее значение, нежели то преувеличение роли генетических факторов, которое он допускал при этом.
Антисталинистски настроенные советские интеллектуалы помнили о том, что гонения на генетику человека и евгенику возникли в Советском Союзе почти одновременно с возникновением «лысенкоизма» — того направления псевдонауки, которое дискредитировало советскую науку, да и сам Советский Союз в глазах ученых и общественности всего мира. Ответственность за это антисталинисты возлагали на идеологов партии и их приспешников. Более того, широко известно было то обстоятельство, что некоторые особенно выдающиеся советские генетики — Н.К. Кольцов, Ю.А. Филипченко, А.С. Серебровский — в период, предшествовавший приходу к власти Лысенко, участвовали в проведении евгенических исследований. Как отмечает американский историк биологии Марк Адамс, такие люди, как Малиновский и Эфроимсон, стоявшие в 70-х и 80-х годах на позициях «природы» в дискуссии по проблеме «природа — воспитание», сотрудничали с Кольцовым задолго до того, как к власти в советской генетике пришел Лысенко[12].
Учитывая сказанное, ожидание того, что и после падения власти Лысенко в генетике партийные идеологи по-прежнему не позволят сделать достоянием общественности значение исследований по генетике человека, представляется вполне естественным. Эти ожидания, разумеется, были оправданы, поскольку идеологические органы партии на самом деле продолжали в высшей степени критически относиться к использованию генетического подхода при объяснении человеческого поведения. В то же время ученые всего мира начинали придавать все большее и большее значение именно такому подходу. Вместе с тем отдельные антисталинистски настроенные интеллектуалы не учитывали того, что концепции генетического детерминизма могут быть легко использованы для обоснования националистических, элитарных теорий; последнее обстоятельство со всей очевидностью проявилось в ходе дальнейшего развертывания дискуссии по проблеме «природа — воспитание».
Для советских независимо мыслящих интеллектуалов характерной была тенденция рассматривать сторонников «природы» в названной дискуссии как «хороших парней» (антисталинистов и антидогматиков), а сторонников «воспитания» — как «плохих парней» (партийных функционеров, пролысенкоистов). Эта тенденция еще более усилилась после того, как представители официального марксизма выступили с критикой взглядов Эфроимсона, Нейфаха и Астаурова. Лидером этой группы критиков был Николай Дубинин — человек, сыгравший сложную и неоднозначную роль в истории советской биологии.
1. См.: Симонов П.В. Искрящие контакты//Новый мир. 1971. № 9. С. 188-205.
2. См.: Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма//Новый мир. 1971. № 10. С. 193-213.
3. О том, что Эфроимсон делал такие заявления, можно прочесть, в частности, и в книге И.Т. Фролова «Перспективы человека» (М., 1979. С. 209). В последующие годы Эфроимсоном была написана большая работа, в которой умственная деятельность гениальных ученых и выдающихся политиков интерпретировалась с точки зрения их генетических особенностей. Эта работа не была опубликована в Советском Союзе.
4. См.: Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма. С. 204.
5. Там же. С. 207.
6. См. там же. С. 210.
7. О недостатках, присущих этим исследованиям, см. в: Gould S.J. The Mismeasure of Man. N. Y. 1981; Lewontin R.C., Rose S., Kamin L.J. Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature. N. Y. 1984.
8. Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма. С. 206. (Грэхэм не указывает при этом, что Эфроимсон опирается на исследования американского антрополога Шельдона. — Прим. пер.).
9. См.: Астауров Б. «Homo sapiens et humanus» — Человек с большой буквы и эволюционная генетика человечности//Новый мир. 1971. № 10. С. 214-224.
10. Там же. С. 223.
11. Там же. С. 220.
12. Я хотел бы выразить признательность М. Адамсу за ту информацию об этом периоде истории советской генетики, которую я почерпнул как в его работах, так и в личных с ним беседах.
Н.П. Дубинин
В дискуссии по проблеме «природа — воспитание» Николай Петрович Дубинин выступил как сторонник «воспитательной» интерпретации, выражая убеждение в неограниченности возможностей развития человека. Думается, что подтверждением (а возможно, и источником) его взглядов явилась история его собственной жизни и деятельности. Родившись в крестьянской семье в 1907 г., в первые годы Советской власти он стал одним из многочисленных беспризорников, ставших сиротами в хаосе того времени. В своей автобиографии, написанной спустя много лет, Дубинин описывает этот период своей жизни как время, когда он ночевал в подвалах домов, воровал съестное и имел дело с социально опасными элементами[1]. Казалось, что сама судьба уготовила ему жизнь среди преступников, в нищете и бедствиях. Шатаясь по Москве со своими друзьями хулиганами, он искал приключений везде, где только можно. Однажды их внимание было привлечено необычайной суетой и волнением на одной из московских улиц; Дубинин и его приятели начали проталкиваться сквозь толпу, чтобы узнать, что там такое случилось, и как раз в тот момент, когда они, протолкавшись вперед, очутились рядом с машиной, в которой, как оказалось, находился Ленин, Дубинин попал в объектив фоторепортера, который и запечатлел его на пленку. В то время это событие мало что означало для Дубинина, однако спустя много лет фотография, на которой он запечатлен вместе с Лениным, попалась ему на глаза и стала предметом его гордости. В конце концов Дубинин оказался в одной из колоний, которые организовывались тогда главой советской тайной полиции Феликсом Дзержинским для перевоспитания беспризорников; во время пребывания в этой колонии Дубинин сам испытал на себе «положительное» социальное влияние и начал проявлять свои способности.
Получив среднее образование, Дубинин занялся изучением биологии. В то время когда он получал образование, советские политические власти всячески поощряли и продвигали студентов, имевших «пролетарское происхождение». Такого рода людей называли тогда «выдвиженцами». Будучи одним из них, Дубинин стал также блестящим молодым генетиком. В 1933 г. Н.К. Кольцов, бывший тогда директором Института экспериментальной биологии, назначает Дубинина заведующим сектором генетики этого института. К тому времени институт уже испытывал на себе суровое политическое давление, включая арест блестящего специалиста в области популяционной генетики Сергея Четверикова, бывшего предшественника Дубинина на посту заведующего сектором генетики. Как указывает Марк Адамс, Кольцов выбрал на этот пост Дубинина не только потому, что он был талантливым молодым ученым, но и потому, что тот обладал безупречными анкетными данными[2]. Четвериков (так же как и сам Кольцов) происходил из привилегированной семьи, а потому Дубинин с его «пролетарским происхождением» мог, по мнению Кольцова, помочь институту иметь «правильное» политическое лицо. Таким образом, родилось мнение (которое сохранилось и в дальнейшем), что Дубинин имел в глазах официальных марксистов преимущество по сравнению с другими людьми именно благодаря своему происхождению; сам Дубинин мало что сделал для того, чтобы опровергнуть это мнение. Думается, что в начальный период жизнедеятельности Дубинина это мнение было не совсем оправданным, поскольку он был талантливым ученым и вполне искренним приверженцем марксизма. В последующие же годы, однако, критикуя взгляды своих «буржуазных» учителей, он слишком явно пытался при этом извлечь для себя выгоду из собственного происхождения. Это, в частности, давало повод к различного рода насмешкам, раздававшимся за его спиной: его критики шутили, что написанную им автобиографию следовало бы назвать не «Вечное движение», а «Вечное самовыдвижение».
Вместе с тем в течение ряда лет Дубинин играл положительную роль в истории развития советской генетики. Он не только являлся автором добротных исследований, но, как уже отмечалось выше, в главе, посвященной генетике, Дубинин в свое время выступил против такого истинного злодея, каковым являлся Трофим Лысенко. После триумфа Лысенко, состоявшегося в 1948 г., Дубинин был вынужден заняться изучением птиц в Сибири, находясь там в научной ссылке. Когда же Лысенко утратил господствующие позиции в советской генетике, то именно Дубинин, став директором Института общей генетики АН СССР, способствовал возрождению этой науки в СССР.
Борис Астауров — один из главных оппонентов Дубинина в дискуссии, развернувшейся в начале 70-х годов по проблеме соотношения социального и биологического, — также был учеником и сотрудником Кольцова. Однако в отличие от Дубинина он никогда не был членом Коммунистической партии и не участвовал в различного рода политических интригах, которые так привлекали Дубинина. Вместо того чтобы критиковать своих учителей за их «буржуазное» происхождение, Астауров всячески подчеркивал их вклад в науку, стремясь к тому, чтобы эта страница истории советской генетики, написанная выдающимися советскими биологами в 20-х годах, не была забыта. Поэтому в глазах многих советских генетиков, испытавших на себе власть Лысенко, Астауров был ученым, не идущим на компромисс, когда речь заходит о принципиальных вопросах, а Дубинин — карьеристом. Таким образом, чисто личные качества Дубинина и Астаурова (которые большинством генетиков характеризовались соответственно как «плохие» и «хорошие») переносились на те позиции, которые они отстаивали в ходе названной дискуссии[3]. И именно такого рода смешение представлений о личных качествах того или иного ученого с их собственно научными взглядами и приводило порой к печальным результатам.
В начале 70-х годов Дубинин пишет статью за статьей, в которых выступает против генетического подхода к проблеме изучения поведения человека и дает анализ этой проблемы, основанный на точке зрения диалектического материализма, согласно которой ни сам человек, ни социальные явления в целом не могут быть сведены к физико-химическим процессам, объясняющим их существование[4]. В этих работах Дубинин утверждал, что эволюция человека характеризуется наличием «диалектических скачков», что, по его мнению, делало невозможным и неправильным утверждение о том, что большую роль в этой эволюции играют генетические факторы. Двумя самыми важными такими «скачками» Дубинин считал те, которые привели к возникновению жизни и сознания. Человеческие существа рассматривались им как социальные организмы, подчиняющиеся в своем развитии законам, отличным от тех, которые управляют движением молекул; эти законы совпадают с теми, которые, согласно марксизму, направляют развитие общества к коммунизму. Именно поэтому, считал Дубинин, «социальное» является определяющим фактором процесса формирования психики человека. На самом деле, утверждал Дубинин, нормальные дети обладают «неограниченными» способностями. Он считал неприемлемой концепцию врожденных способностей.
Однако, хотя Дубинин и продолжал отстаивать подобные взгляды, публикуя статъи и книги по этим проблемам, все же время работало против его взглядов. И.Т. Фролов, возглавлявший тогда журнал «Вопросы философии», продолжал публиковать в нем статьи, направленные против лысенкоизма и ламаркизма, что подчас рассматривалось как критика «социологизаторских» взглядов в целом. В своей статье, опубликованной в 1972 г., Фролов приводит слова Дарвина: «Да сохранит меня небо от ламаркова нелепого «стремления к прогрессу» и напоминает читателям о печальном периоде в истории советской генетики, когда предпринимались «ложные попытки придать некоторым специальным концепциям и теориям широкий мировоззренческий и социально-идеологический характер, что породило миф о «двух генетиках»[5].
В глазах ученых, подобных Фролову, попытки Дубинина связать свои взгляды с диалектическим материализмом представлялись очень похожими на аналогичные попытки, предпринимаемые в свое время лысенкоизмом. Не помогло Дубинину и то, что со временем он стал более авторитарно относиться к своим коллегам, стал устанавливать с ними чисто бюрократические отношения. Он перестал сам заниматься исследовательской деятельностью и начал допускать (возможно, неосознанно) ошибочные суждения по некоторым научным вопросам[6]. Это приводило к тому, что некоторые его недруги стали даже со смехом называть его «Трофим Денисович Дубинин».
Дискуссия по проблеме соотношения биологического и социального продолжалась в течение последующих нескольких лет. Смерть Астаурова в 1974 г. явилась ударом для сторонников «биологического», но борьба тем не менее продолжалась. Причем некоторые из участников этой дискуссии, выступающие с «биологических» позиций, шли в этом гораздо дальше Астаурова. Так, например, Эфроимсон выдвигал теорию, согласно которой интеллектуальная одаренность или гениальность рассматривалась как явление, основанное на чисто генетических особенностях людей. Работа, в которой он излагал эту теорию, не была опубликована и циркулировала только в виде рукописи[7].
В 1976 г. Дубинин принял участие в работе советско-американского симпозиума по теоретическим и практическим проблемам мутагенеза и канцерогенеза окружающей среды, который проходил в Душанбе[8]. В ходе этого симпозиума были приведены данные о мутагенном и канцерогенном влиянии на организмы растений и животных, связанном с применением в сельском хозяйстве (особенно в хлопководстве) различного рода пестицидов и дефолиантов. Тема симпозиума и приведенные в его ходе факты послужили толчком к тому, что Дубинин заинтересовался проблемами, связанными с использованием химикатов; его озабоченность мутагенными последствиями применения различного рода ядохимикатов нашла свое отражение в целом ряде опубликованных им работ. Хотя Дубинин по-прежнему отрицал значение генетического подхода к исследованию поведения нормального (в физиологическом отношении) человека, в этих работах он говорит о важности обращения к генетическим факторам при объяснении возникновения различного рода патологий, подчеркивая, что загрязнение окружающей среды может иметь пагубные последствия для генотипа человека. Говоря о важности изучения этих проблем, Дубинин приводит в подтверждение этой мысли данные, согласно которым 10,5% детей в мире рождается с наследственными заболеваниями, а около 3% детей страдают наследственным слабоумием[9]. Эти врожденные заболевания рассматривались Дубининым как результат или одно из последствий загрязнения окружающей человека среды. Он в равной мере опасался возможного изменения генетических структур человека как путем генетической инженерии, так и в результате загрязнения окружающей среды. Надо сказать, что эти опасения, высказываемые Дубининым в печати, не явились доброй вестью для тех, кто в Советском Союзе руководил химической промышленностью и сельским хозяйством, поскольку их основные задачи были связаны не с охраной окружающей среды, а с повышением продуктивности этих областей хозяйства.
Новый аспект, появившийся в работах Дубинина, явился предлогом для новой критики его взглядов, которую предприняли его оппоненты. Одной из сильных сторон Дубинина всегда было то, что при изложении своих взглядов ему всегда удавалось рядиться в марксистские одежды. Однако если раньше, подчеркивая значение «социального», среды в формировании личности человека, Дубинин представал «истинным марксистом» в глазах советских чиновников, то теперь, когда он начал бить тревогу по поводу тех негативных последствий для окружающей среды, которые имеет практика советского сельского хозяйства и промышленности, советские бюрократы начали косо посматривать на него. Его оппоненты очень скоро почувствовали это и решили использовать ситуацию в своих целях. Один из оппонентов Дубинина — биолог Н.П. Бочков обвинил его в том, что он преувеличивает роль среды не только в тех случаях, когда речь идет о человеке, но и тогда, когда предрекает скорое ее разрушение[10].
По мере развития дискуссии о соотношении социального и биологического ее участники стали все больше разделяться на тех, кто придерживался крайних взглядов, и тех, кто придерживался умеренных позиций. С одной стороны, появились те, кто начал напрямую связывать преступность с генетикой, а также высказывать беспокойство по поводу тех чисто генетических последствий, которые могут явиться результатом роста численности азиатского населения Советского Союза. Другими словами, стало очевидно, что аргументы, подчеркивающие значение различного рода природных факторов, могут быть использованы русскими националистами и представителями нового для советской политической культуры «правого» течения. С другой стороны, крайние позиции занимали сторонники «лысенкоизма», которые предприняли попытки вновь захватить власть в биологии.
В 1975 г. выходит в свет книга «Методологические проблемы советской криминологии», автор которой советский юрист И.С. Ной подчеркивал роль генотипа как источника формирования преступного поведения. В рецензии на эту книгу, опубликованной журналом «Природа», биолог Ю.Я. Керкис поддержал подход, изложенный Ноем, и призвал советских юристов начать изучать биологию, что, по его мнению, совершенно необходимо «им для правильной ориентации в некоторых сложных вопросах их профессиональной деятельности»[11]. Тем временем Министерством внутренних дел СССР был начат ряд исследований, призванных изучить проблему связи между преступностью и генетикой[12]. Нельзя в связи с этим не отметить иронию истории: в 20-х годах именно репрессивные советские органы проявили инициативу по созданию лагерей и колоний по перевоспитанию малолетних преступников (одним из которых был сам Дубинин), а в 70-х и 80-х годах, будучи не в состоянии объяснить сохранение в стране преступности, эти органы обратились за объяснениями к генетике.
К тому времени обсуждение проблемы соотношения социального и биологического приняло очень широкий характер и не только теоретическое, но и практическое звучание. Росло количество публикаций, посвященных этой проблеме: достаточно сказать, что в период с 1970 по 1977 г. только два советских журнала — «Вопросы философии» и «Философские науки» опубликовали свыше 250 статей, обзоров и комментариев на эту тему. В 1975 и 1977 гг. состоялись две Всесоюзные конференции, посвященные обсуждению проблемы соотношения биологического и социального[13].
В 1977 г. в авторитетном партийном журнале «Коммунист» была опубликована статья, которую в свете обсуждаемой дискуссии следует рассматривать как попытку сторонников «социального» перейти в контратаку[14]. Автор статьи известный советский философ Э.В. Ильенков попытался обосновать точку зрения, согласно которой черты человеческой личности, ее способности и таланты не являются врожденными, а формируются социальным окружением, в котором развивается тот или иной человек. При этом он опирался на достижения советских психологов, принадлежавших к школе Леонтьева и занимавшихся исследованиями формирования психики у слепоглухонемых детей. Эти дети были от рождения лишены зрения и слуха. В названной статье Ильенков утверждал, что в тот момент, когда исследователи только приступили к работе, понятие «homo sapiens» вряд ли было применимо к этим детям. У них отсутствовали всякие признаки наличия собственно человеческой психики и даже «самые примитивные проявления целенаправленной деятельности». Мозг каждого из четырех испытуемых, отмечает Ильенков, развивался в соответствии с той программой, «которая была записана в генах, в молекулах ДНК», но это развитие не приводило к появлению хотя бы одной из характеристик того, что принято называть «психической деятельностью». Единственным способом помочь этим детям, продолжает Ильенков, было попытаться «включить их в предметную деятельность», применив тем самым на практике теоретические положения марксистской психологии. В течение целого ряда лет психологи И.А. Соколянский, А.И. Мещеряков и их сотрудники занимались с этими детьми, пытаясь включить их в «социальные отношения», в результате чего им удалось воспитать полноценных людей. Все четыре поступили в МГУ им. М.В. Ломоносова. Один из них даже стал в 1977 г. членом КПСС! Они теперь могли, пишет Ильенков, писать стихи, читать лекции и вести исследовательскую работу. Вполне понятно, что результаты этого эксперимента привлекли к себе внимание ученых во всем мире.
С точки зрения строгой науки этот эксперимент мало что говорил о роли генетических факторов в формировании поведения человека, однако, по мнению Ильенкова, история этих четырех слепоглухонемых детей имела непосредственное отношение к дискуссии по проблеме соотношения социального и биологического. Результаты этого эксперимента, писал Ильенков, следует рассматривать как доказательство того, что талант, способности человека формируются, а не наследуются.
«Талант, — пишет он, — это не количественное различие в уровнях развития людей, а качественно новое свойство психики, связанное с коренным, принципиальным изменением в типе и характере труда, в характере его мотивации»[15]. И добавляет: «Вернемся теперь к ходячему предрассудку, согласно которому лишь меньшинство населения земного шара обладает мозгом, от рождения способным к «творческой» работе. Этот наукообразный предрассудок, обряженный цифрами статистики, разукрашенный терминами генетики и физиологии высшей нервной деятельности и »учеными« рассуждениями о врожденных «церебральных структурах», якобы заранее предопределяющих меру талантливости человека, просто-напросто клеветнически взваливает на природу (на гены) вину за крайне неравное распределение условий развития между людьми в классовом обществе»[16].
Ильенков отмечает также, что в 1975 г. бывший тогда президент Академии педагогических наук СССР В. Н. Столетов назвал этот научный эксперимент «впечатляющим событием». В связи с этим замечу, что в свое время Столетов выступал в поддержку Лысенко[17]. Таким образом, в умах многих советских интеллектуалов позиции, отстаиваемые Ильенковым, связывались с лысенкоизмом, что было несправедливо, поскольку Лысенко никогда не касался в своих публикациях проблемы человека. Тем не менее эта связь возникла в умах советских интеллектуалов не случайно — дело в том, что сторонники Лысенко располагали монополией на власть в биологии как раз в то время, когда аналогичной монополией в советской педагогике располагали сторонники «воспитательных» теорий; кроме того, и те и другие приписывали решающее значение в развитии организма (растения или человека) именно окружающей среде.
1. См.: Дубинин Н.П. Вечное движение. М., 1973.
2. Adams M. Science, Ideology and Stucture: The Kol'tsov Institute, 1900-1970//The Social Context of Soviet Science. Boulder: Westirew Press, 1980. P. 185.
3. Adams M. Op. cit. Среди тех, кто, подобно Дубинину, выступал с критикой взглядов Эфроимсона и Астаурова, можно назвать П.Н. Федосеева (см. его статью в журнале «Вопросы философии». 1976. № 3), Б.Г. Ананьева (см. его книгу «Человек как предмет познания». Л., 1969) и Н.Б. Оконскую (см. ее работу «Диалектика социального и биологического в историческом процессе». Пермь, 1975).
4. См. его статьи в журнале «Вопросы философии». 1971. № 1; 1973. № 4; 1978. № 7, а также в журнале «Вестник АН СССР». 1977. № 1. См. также: Дубинин Н.П., Городецкий С. И. Генетическая инженерия: задачи современных исследований// Вестник АН СССР. 1978. № 3.
5. См.: Фролов И.Т. Загадка жизни, научный поиск и философская борьба// Вопросы философии. 1972. № 3. С. 90, 92.
6. В упоминавшейся уже книге М. Адамса описывается один из самых известных подобных случаев, происшедших в 1972 г. Один из его сотрудников решил подшутить над Дубининым, рассказав ему о том, что ему удалось улучшить вкус огурцов, выведя с помощью методов генной инженерии сорт, обладающий соленым привкусом. Дубинин всерьез воспринял эту шутку, привыкши, подобно многим администраторам от науки, доверять тому, что делают их подчиненные. Этот случай, получивший название «дело с огурцом», сделал Дубинина посмешищем в глазах многих генетиков (Adams M. Op. cit. Р. 192).
7. В этой рукописи Эфроимсон давал описание генетических особенностей выдающихся деятелей истории человечества начиная с Александра Великого и до Эйнштейна. Среди этих гениев человечества он упоминает и небольшое число женщин, включая Жанну д'Арк. Более академическая статья, посвященная этой проблеме, была опубликована Эфроимсоном в журнале «Природа» (1976. № 9. С. 62-72).
8. См.: Керкис Ю.Я. Генетические последствия загрязнений среды//Природа. 1976. № 9.
9. См., напр., выступление Дубинина на сессии общего собрания АН СССР в ноябре 1980 г. (Вестник АН СССР. 1981. № 6. С. 46-47).
10. См., напр.: Бочков Н.П. Генетика человека: наследственность и патология. М., 1978, и он же. Методологические и социальные вопросы современной генетики человека//Вопросы философии. 1981. № 1. С. 51-62.
11. Керкис Ю.Я. Нужна ли криминологам генетика?//Природа. 1976. № 8. С. 150.
12. См. об этом в кн.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982. С. 162.
13. Материалы этих конференций были опубликованы в: Соотношение биологического и социального в человеке. М., 1975, и Биологическое и социальное в развитии человека. М., 1977. См. также: Тарасов К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии человека. М., 1979. С. 21.
14. См.: Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента//Коммунист. 1977. № 2. С. 68-79.
15. Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента// Коммунист. 1977. № 2. С. 79.
16. Там же. С. 77.
17. См., напр., его пролысенковскую статью: Некоторые методологические вопросы генетики//Актуальные вопросы современной генетики. М., 1966. С. 499-539.
Смещение Дубинина
В 1981 г. Дубинин был смещен с поста директора Института общей генетики АН СССР после того, как был публично обвинен в том, что преувеличивал роль среды, объясняя поведение человека; этот момент следует рассматривать как кульминацию кампании критики, направленной против него и отстаиваемых им взглядов. «Дело Дубинина» привлекло к себе внимание буквально всех советских генетиков, а также всех тех, кто внимательно следил за развитием дискуссии по проблеме соотношения биологического и социального. В этой связи факт смещения Дубинина с занимаемого им поста рассматривался как решительное поражение тех, кто отстаивал в названной дискуссии позиции, сходные с позициями Дубинина и на протяжении более 50 лет рассматривавшиеся как позиции официального советского марксизма. Однако, как мы увидим в дальнейшем, сторонники этих позиций не сразу признали свое поражение, сумев обеспечить поддержку своих взглядов высшим руководством страны.
На первый взгляд имя ученого, выступившего с критикой взглядов Дубинина в ходе сессии общего собрания АН СССР в 1980 г. и сыгравшего решающую роль в его смещении, вызывает удивление. Дело в том, что этим ученым был математик А.Д. Александров. Возникает вопрос: каким авторитетом мог обладать математик в решении проблем генетики? Александров был ученым с мировым именем, чья идеологическая приверженность марксизму не вызывала никогда сомнений. На протяжении десятков лет им публиковались работы, в которых он давал марксистскую интерпретацию философских проблем физики и математики, и работы эти привлекали внимание своей научной строгостью и обоснованностью[1]. Александрову удавалось даже в сталинские времена сохранять репутацию антидогматика. Усилия, предпринятые в свое время Александровым и направленные на защиту физики Эйнштейна, осуществленную с позиций марксизма, завоевали ему прочную репутацию как среди ученых, так и среди наиболее просвещенных философов-марксистов. Именно человек, обладавший репутацией Александрова, мог противостоять тем обвинениям в «ревизии» и даже «отказе» от марксизма, которые бросал Дубинин в адрес своих оппонентов со страниц журнала «Коммунист»[2].
Однако у А.Д. Александрова были и чисто личные причины выступить против эгалитаризма Дубинина. Александров был одним из немногих действительных членов АН СССР, происходивших из благородных семей; было известно, что он гордился своим происхождением и подчеркивал его важность. Его дед до революции был капитаном царской яхты «Стандарт». /237/
Сам Александров был лидером тех потомков санкт-петербургской интеллигенции, которые придерживались элитарных взглядов[3].
В своем выступлении в ходе сессии общего собрания АН СССР Александров обвинил Дубинина в том, что, отрицая значение генетики в объяснении нормальных психических явлений, тот впадает в крайность. В своем выступлении он цитирует высказывания Дубинина (сделанные в упомянутой статье в «Коммунисте») о том, что «все нормальные люди способны практически к неограниченному духовному развитию», а также о том, что «одаренность — это эффективное развитие человеческих сущностных качеств при сочетании нормального генотипа с благоприятными условиями его развития (то есть главным образом «приобретённость»)»[4]. Если это так, саркастически замечает Александров, то тогда любой ребенок, не ставший Ломоносовым, Марксом, Ньютоном или Рафаэлем, должен будет, по-видимому, винить в этом только своих родителей, которые не создали для этого соответствующих условий.
Позиция Дубинина, говорил Александров, ошибочна не только в теоретическом, но и в практическом плане, поскольку общество должно ясно представлять себе, каким образом воспитывать детей и что следует ожидать от этого воспитания. Однако вместо того, чтобы способствовать сохранению этих проблем в качестве предмета открытого обсуждения, говорит в заключение Александров, Дубинин предпринимает попытки «закрыть» эти проблемы, пытаясь под видом извращенного марксизма протащить «нечто чуждое науке по самим методам рассуждения и подходу к проблеме»[5].
В своем ответном слове Дубинин утверждал, что он никогда не отрицал важности проблем генетики человека. По его словам, он всегда противостоял попыткам увидеть «фатальную» связь между генетикой и поведением человека. Он отметил также, что некоторые из его оппонентов делают заявления по поводу того, что якобы можно «предвидеть» все потенциальные духовные возможности каждого новорожденного на основе изучения его генов и что будущего писателя или ученого можно будет скоро распознать уже в эмбрионе. Подобные заявления, говорил Дубинин, находятся за пределами науки.
«Я глубоко убежден, — заявлял он в связи с этим, — что моя точка зрения открывает действительные возможности для духовного, социального, трудового развития каждого человека, а точка зрения фатальной генетической предопределенности закрывает эти возможности»[6].
Однако эти обвинения Дубинина, выдвигаемые им в адрес своих оппонентов, были не совсем «по делу». Ни один из них не утверждал, что между генотипом и умственными способностями существует фатальная связь. Вопрос заключался в том, что в своих взглядах Дубинин не оставлял места для возможного влияния генетических факторов на формирование поведения человека. Спустя пять месяцев после публикации выступлений Александрова и Дубинина на сессии общего собрания АН СССР в ноябре 1980 г. Президиум академии сообщил о том, что вместо Дубинина на пост директора Института общей генетики назначен А.А. Созинов — человек, не принимавший участия в дискуссии по проблеме соотношения биологического и социального, а потому считавшийся компромиссной фигурой[7].
1. См. об этих работах в гл. 10, 11 этой книги.
2. См.: Дубинин Н.П. Наследование биологическое и социальное//Коммунист. 1980. № 11.
3. Эта информация основана на моих беседах с Эдвардом Кенаном в Кембридже (Массачусетс) в конце 1984 г.
4. См.: Вестник АН СССР. 1981. № 6. С. 44-45.
5. Там же. С. 46.
6. См. там же. С. 47.
7. См. там же. № 12. С. 123.
Дискуссия по проблеме «природа — воспитание» и семья Черненко
В начале 80-х годов те из участников дискуссии, кто подчеркивал значение «природного» начала в человеке, сумели одержать ряд важных побед над своими оппонентами. Как уже отмечалось, им удалось опубликовать свои взгляды на страницах советской печати, чего не удавалось сделать ранее — с конца 20-х и до 70-х годов. Один из ведущих сторонников противоположного подхода — академик Н.П. Дубинин был смещен со своего поста директора Института общей генетики после того, как его критиковали за преувеличение роли внешних факторов в формировании поведения человека. Еще один из лидеров этого направления — всемирно известный психолог А.Н. Леонтьев к тому времени уже скончался. Точка зрения, подчеркивающая значение «природных» факторов, пользовалась на удивление широкой поддержкой не только среди генетиков, но также представителей литературного авангарда, диссидентов, антимарксистов, специалистов-этнографов, консервативно настроенных националистов и представителей милицейского руководства. Высшие политические руководители предпочитали воздерживаться от высказываний по этим вопросам, позволяя дискуссии развиваться на удивление свободно. В 1981-1982 гг. отказ советского марксизма от оппозиции попыткам объяснить (хотя бы частично) поведение человека с помощью представлений генетики казался вполне возможным.
Однако, как выяснилось в дальнейшем, еще в 70-х годах зрел новый поворот в этой дискуссии. Предметом дискуссии заинтересовалась дочь одного из высших руководителей КПСС Елена Константиновна Черненко. Как и ее отец, она закончила педагогический институт. Педагоги всегда были склонны придерживаться взглядов, подчеркивающих значение воспитания, что вполне понятно, поскольку сами они по определению являются воспитателями. В 1974 г. Елена Черненко защитила кандидатскую диссертацию по философии на тему: «Методологические проблемы социальной детерминированности биологии человека». Само название этой работы указывает на позиции, отстаиваемые ее автором. В 1979 г. Е. Черненко совместно с К.Е. Тарасовым публикует книгу, основанную на материалах диссертации и озаглавленную «Социальная детерминированность биологии человека»[1]; в этой книге, ссылаясь на работы классиков марксизма, авторы отстаивали точку зрения примата «социального» в формировании поведения человека.
Во введении к своей книге Тарасов и Черненко пишут о том, что их целью было продемонстрировать «социальную детерминированность биологии человека и раскрытие значения единственно правильного, марксистского его решения» (с. 5). Надо сказать, что в целом вся книга представляла собой попытку обосновать вывод о том, что с точки зрения марксизма решение проблемы соотношения социального и биологического видится в подчеркивании роли и значения именно «социального». Анализ этой проблемы, предпринятый авторами книги, носил весьма детальный характер как с философской, так и с логической точки зрения, однако основывался на очень небольшом количестве экспериментальных данных. Тарасов и Черненко выделяли ни много ни мало, как 60 вариантов решения проблемы соотношения биологического и социального, представляя эти варианты и всевозможные их модификации в виде схем и рисунков. По их мнению, «единственно верной с точки зрения марксизма является решение типа VI, вариант 13, модификация В» (с. 71). Что же это за позиция? Графически они изображают ее следующим образом (с. 64-65):
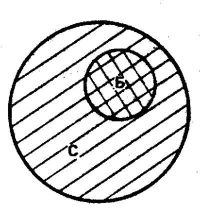
Этот рисунок показывает, что понятие «социальное» (обозначенное как «С») не только шире понятия «биологическое» («Б» на рисунке), но что «социальное» определяет «биологическое», поскольку линии, проведенные через «С», «проходят также и через «Б». Авторы книги утверждают, что не существует чисто биологических факторов, влияющих на формирование поведения человека, поскольку даже «биологические особенности людей являются результатом социального прогресса», а потому не могут рассматриваться как чисто биологические (с. 84). На этом основании они отвергают как ошибочную такую модель соотношения социального и биологического, которая, признавая большее значение «социального», все же исходит из автономии биологических факторов (с. 71):
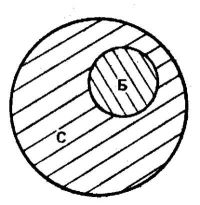
Несмотря на приблизительный и весьма схематический характер модели соотношения биологического и социального, предлагаемой Тарасовым и Черненко (см. рис. 1), она все же может служить известным основанием для дискуссии. То обстоятельство, что область «С» (социальное) изображена на этой схеме большим, нежели область «Б» (биологическое), кругом, не вызовет возражений у большинства западных специалистов. Вместе с тем ответ на действительно трудный вопррс об отношении размеров области «С» и области «Б» невозможно дать, ограничившись только философским и логическим его анализом, — ответ на него (если таковой вообще существует) может быть дан только в результате научных исследований, то есть того, чему Тарасов и Черненко уделяют весьма скудное внимание в своей книге. Говоря о том, что ответ на этот вопрос может быть дан только на основе представлений диалектического материализма, авторы книги тем самым ставили под вопрос относительную независимость, с трудом завоеванную советскими учеными. Говоря о том, что редколлегия и руководство журнала «Вопросы философии» ошибаются, когда утверждают, что диалектический материализм может включать в себя различные трактовки проблемы соотношения биологического и социального, Тарасов и Черненко демонстрируют нетерпимое отношение к такого рода различным трактовкам (с. 75). По их мнению, диалектический материализм предполагает наличие «единственно верного» решения этой проблемы, то есть такого, которое предлагается ими самими.
Еще более спорным представляется утверждение Тарасова и Черненко, что не существует автономной сферы («Б» на рис. 2) влияния биологических факторов. Тезис о том, что «биологическое» является «социально обусловленным» можно интерпретировать двояким образом. Первая — более простодушная — интерпретация будет соответствовать распространенным во всем мире представлениям о том, что наука — это «социальный институт», а потому даже собственно научные теории и открытия являются «социально обусловленными». Вторая же, носящая более зловещий характер, связана с условиями, характерными только для Советского Союза, и заключается в том, что научные открытия рассматриваются не просто как социально обусловленные, но как то, что в конечном итоге должно подчиняться приказам, исходящим от политического руководства.
В то время, когда была опубликована эта книга, Константин Черненко — отец Елены Черненко — являлся секретарем ЦК КПСС, членом Политбюро со специфическими интересами к идеологическим вопросам. Мы не знаем, какое внимание он уделял взглядам своей дочери, но знаем, что проблема соотношения биологического и социального привлекла его внимание. При этом можно предположить, что Константин Черненко имел представление о взглядах своей дочери по поводу этой проблемы особенно после того, как ею была опубликована названная книга.
В июне 1983 г. Константин Черненко выступил на Пленуме ЦК КПСС с речью «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии». Именно это выступление дало основание заключить, что Черненко занял в идеологии позиции, которые до него занимал борец за чистоту партийной идеологии Михаил Суслов. В своей речи Черненко поднял вопрос о дискуссии по проблеме социального и биологического, возродив тем самым сталинскую традицию, согласно которой партийные лидеры высказывались по научным вопросам. Признав, что в науке «новые факты могут вести к необходимости дополнить, уточнить сложившиеся взгляды», он подчеркнул, что «есть истины, не подлежащие пересмотру, проблемы, решенные давно и однозначно». Одной из таких «основополагающих истин материалистической диалектики», продолжил Черненко, является принцип, согласно которому определяющим фактором в формировании личности человека является «социальное». Он замечает:
«Вряд ли можно признать научными концепции, которые объясняют такие, например, качества человека, как честность, смелость, порядочность, наличием »положительных« генов и фактически отрицают, что эти качества формируются социальной средой»[2].
Самым важным здесь является не само по себе мнение, а то, кем оно было высказано. В нем не содержится прямого отрицания противоположного мнения, поскольку никто из тех, кто выступал с противоположных позиций, не говорил в действительности о «положительных» генах. Вместе с тем, поскольку Черненко выступал как главный партийный идеолог, положения его речи рассматривались партийными функционерами как руководство к действию. Еще большее значение высказывания Черненко приобрели после того, как в феврале 1984 г. он сменил Юрия Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС.
Нет сомнения в том, что многим на Западе покажется симпатичной мысль, содержащаяся в приведенном выше отрывке из речи Черненко, поскольку людям, чьи политические убеждения основываются на идее равенства, всегда неприемлемыми представляются взгляды, связанные с противоположными представлениями. Однако в условиях Советского Союза, история интеллектуальной жизни которого знает множество примеров вмешательства партии в ход научных дискуссий, речь Черненко явилась иллюстрацией того, что было совсем нехарактерно для дискуссий по проблеме «природа — воспитание», ведущихся на Западе. Эта речь продемонстрировала, что советские партийные руководители так и не извлекли уроков из того периода жизни советского общества, который был связан с именем Лысенко. И вопрос здесь вовсе не в том, являются ли теории генетического детерминизма истинными или ложными, а в том, кто должен решать вопрос об их истинности — Коммунистическая партия или же исследователи, являющиеся специалистами в той или иной области науки? В своей речи Черненко продемонстрировал убеждение, что именно партия может судить об истинности той или иной научной теории; этот вывод вытекает из его слов о том, что есть «проблемы, решенные давно и однозначно» на основе теории «материалистической диалектики», а потому не требующие обращения к ним с целью повторного решения.
Следуя положениям, содержащимся в речи Черненко, характер советских статей, посвященных проблемам соотношения социального и биологического, а также науки и идеологии, вообще становится более воинственным. При этом многие авторы прямо ссылаются на высказывания Черненко по поводу проблем генетики и поведения человека[3]. Что представляется особенно удивительным западному наблюдателю, так это то, что сам тон, которым написаны советские статьи, в которых анализируются проблемы связи науки и идеологии, становится в середине 80-х годов более агрессивным, чем это было на протяжении многих предыдущих лет. Ведущие научные журналы публикуют статьи с весьма характерными в этом отношении названиями: «Медицина в фокусе идеологической борьбы», «Идеология и медицина» и т. п.[4].
Смерть Константина Черненко, последовавшая в 1985 г., и приход ему на смену в качестве главы Коммунистической партии Михаила Горбачева означают, что взгляды Константина и Елены Черненко на проблему соотношения социального и биологического уже не являются решающими. Тем не менее в 1985 г. позиция тех, кто склонен был в решении этой проблемы отдавать преимущество биологическому, природному, была гораздо более трудной, нежели в 70-х годах, когда споры по этой проблеме еще только начинались.
В развитии дискуссии по проблеме соотношения социального и биологического как в зеркале отражались те изменения, которые происходили в советской идеологии и политике того времени. Если сравнить последние советские публикации, анализирующие эту проблему, с советскими работами, посвященными аналогичной проблематике и опубликованными в 30-х и 40-х годах, то сразу же бросится в глаза потеря их авторами убежденности в эффективности воспитательных методов. Рассуждения человека, говорящего сегодня в Советском Союзе о возможности «отмирания» преступности и других форм социально опасного поведения под влиянием развития социалистического общества, в лучшем случае получат, в ответ зевки слушателей, как это случилось с Дубининым, когда он попытался высказаться в поддержку этих старых взглядов. Многие из представителей предыдущего поколения советских людей верили в конечную победу именно воспитательного подхода, сегодня в это верят лишь немногие. На смену стремлению к позитивным методам воздействия на человека путем воспитания и образования сегодня приходит тоска по жесткой дисциплине и строгому наказанию, то есть методам негативного воздействия.
За этой сменой настроений скрывается нечто большее, чем смена теорий, господствующих в педагогике и криминалистике, — эта смена настроений является лишь частью общего процесса ослабления оптимистических настроений в советском обществе. Люди, участвовавшие в революционном преобразовании общества, были убеждены в том, что у них есть лекарство от множества (если не от всех) социальных недугов. Спустя определенное время (период жизни одного-двух поколений) стало очевидным, что многие из этих социальных недугов остаются по-прежнему неизлеченными, и тогда следующие поколения людей — дети тех революционеров — начинают искать другие объяснения существованию этих болезней. И то обстоятельство, что в течение долгого времени генетические исследования были просто запрещены, делает генетические объяснения только еще более привлекательными для людей, разочаровавшихся в старой идеологии.
Роль, сыгранную во всей этой истории академиком Дубининым, нельзя оценить однозначно. Его нельзя назвать просто тираном в науке, поскольку в начале своей карьеры он был одной из первых жертв административного произвола и лишь спустя годы сам стал его проводником. Следует ли его рассматривать как просто неперестроившегося догматика, или, быть может, некоторые почувствуют симпатию к нему как к человеку, который вышел из самых низов общества и опасался того, что это общество откажется от тех принципов, которые спасли и дали возможность реализоваться как личности не только самому Дубинину, но и многим из представителей его поколения? И если это так, то нельзя ли сказать и о том, что есть доля истины и в позиции Константина Черненко по этому вопросу, высказанной им в упоминавшейся речи на Пленуме ЦК КПСС?
Возможно, самым печальным во всей этой истории с дискуссией по проблеме соотношения биологического и социального было то, что по мере ее развития происходил процесс поляризации мнений, в ходе которого сторонников примата «социального» поддержали марксисты-догматики, а более свободно мыслящие интеллектуалы поддержали сторонников «биологического»; к сожалению, на протяжении всей истории дискуссии эти «связки» так ни разу и не были нарушены, хотя в конце 70-х годов казалось, что это произойдет. Речь, произнесенная Константином Черненко на Пленуме ЦК КПСС в 1983 г., лишь еще более укрепила эти «связки». Сегодня, когда еще слишком мало времени прошло со дня смерти Черненко и прихода на его место Михаила Горбачева, трудно судить о том, будет ли новое советское руководство продолжать настаивать на догматических подходах к решению крайне сложных проблем, связанных с поведением человека.
1. См.: Тарасов К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии человека. М., 1979. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться непосредственно в тексте.
2. Материалы Пленума ЦК КПСС, 14-15 июня 1983 г. М., 1983. С. 34. Я выражаю признательность Эрику Гондхагену, указавшему мне на это место в речи Черненко.
3. См., напр.: Царегородцев Г.И. Медицина в фокусе идеологической борьбы//Вестник АМН СССР. 1984. № 1. С. 3-10.
4. Помимо этих названий можно привести также и другие: Бошняков Д.М. Мировоззрение и медицина//Вестник АМН СССР. 1983. № 7. С. 54-62; Он же. О некоторых методологических проблемах соотношения социального и биологического//Здравоохранение Российской Федерации. 1982. № 9. С. 9-13; Сердюк А.М. Здоровье человека, научно-технический прогресс и окружающая среда//Вопросы философии. 1983. № 6. С. 107-114.
Глава VII. Биология человека: специальные вопросы
В конце 70-х и 80-х годах в советской литературе, включая популярные и академические издания, появляется множество статей и книг, в которых так или иначе рассматриваются проблемы биологии человека. В данной главе я попытаюсь познакомить читателей с наиболее интересными из этих публикаций, организовав изложение вокруг обсуждения отдельных проблем, связанных с изучением биологии человека — социобиологии, преступности и других форм отклонения от социальных норм, этических отношений и, наконец, проблем биомедицинской этики.
Социобиология
В 1975 г., то есть в тот момент, когда в Советском Союзе вовсю разворачивалась дискуссия по проблеме соотношения социального и биологического, вышла в свет книга профессора Гарвардского университета, известного энтомолога Э.О. Уилсона «Социобиология: новый синтез»[1]. Публикация этой книги привлекла внимание советских исследователей.
В этой работе Уилсон, в частности, утверждал, что такие формы человеческого поведения, как «альтруизм», являются результатом естественного отбора в ходе эволюции человека. Однако такого рода поведение не является результатом «прямого отбора», поскольку человек, жертвующий собой ради другого, уменьшает тем самым вклад собственных генов в генофонд следующего поколения. Другими словами, на первый взгляд может показаться, что предпочтительным с точки зрения эволюции является эгоистическое поведение, а не альтруизм. Объясняя свое утверждение обратного, Уилсон использует явления «родственного отбора» и «включенной приспособленности». Речь идет о том, что если тот или иной человек приносит себя в жертву во имя близкого родственника (например, брата), то тем самым он не только не уменьшает, но, наоборот, увеличивает вклад собственных генов в жизнь следующего поколения.
Идеи Уилсона относительно эволюции человеческого поведения привлекли внимание советских исследователей по следующим причинам: во-первых, эти идеи представлялись отличными от обычных представлений «социал-дарвинизма», поскольку были связаны с поисками биологических основ привлекательных черт, а не тех, которые обычно ассоциируются с выражением «выживание наиболее приспособленных»; во-вторых, эти идеи появились вскоре после упоминавшейся в предыдущей главе статьи Эфроимсона в «Новом мире», содержащей сходные представления, и, наконец, в-третьих, идеи Уилсона были созвучны традиции, которая существовала в России и начало которой было положено Петром Кропоткиным, опубликовавшим в XIX в. книгу, в которой утверждалось, что Дарвин преувеличивал значение борьбы за существование в ходе эволюции и недооценивал явления сотрудничества и взаимопомощи. То обстоятельство, что Кропоткин был социалистом (хотя и небольшевистского, анархистского толка), делало его идеи более привлекательными в глазах русских социалистов.
Названные обстоятельства, в свою очередь, явились причиной того, что поначалу советские исследователи встретили идеи Уилсона с известной симпатией, что не могло не удивить западных наблюдателей, знавших о тех резких нападках на эти идеи, которые содержались в работах радикально настроенных западных авторов[2]. Нет сомнения в том, что этому способствовало осознание советскими исследователями того, что генетический подход к проблеме объяснения человеческого поведения может помочь в борьбе со сталинским догматизмом. Н.X. Сатдинова в своей статье, опубликованной в ведущем советском философском журнале, дала на удивление позитивное изложение основных положений концепции социобиологии[3]. В.Т. Ефимов, отметив, что такие конкретные «науки о человеке», как биология, генетика, физиология, этология и психология, вносят вклад в понимание проблемы человека, призвал к развитию этих исследований в Советском Союзе[4]. В.Н. Игнатьев, критически отнесясь к тому, что он посчитал идеологической позицией Уилсона, выразил убеждение в том, что сама по себе концепция социобиологии представляет известный интерес[5].
Вскоре, однако, стало ясно, что идеи Уилсона встречают отрицательную реакцию со стороны более ортодоксальных марксистских авторов. Для Дубинина и его друзей идеи о биологических основах положительных качеств человека представлялись не более приемлемыми, чем представления тех, кто рисовал образ «оскала» природы. Попытки объяснения «альтруистического» поведения человека влиянием генетических факторов являются не менее ошибочными, писал Дубинин, чем попытки обнаружить «врожденную агрессивность», свойственную якобы человеку. Обе эти точки зрения, отмечает Дубинин, повторяют старую ошибку, «биологизируя» человека, рассматривая его как животное, а не как социальное явление[6].
После того как Уилсон (на этот раз в соавторстве с Чарльзом Ламсденом) опубликовал очередную книгу[7], в которой выступил с открытой критикой марксизма, реакция советских марксистов на развиваемые им идеи стала более ясной и определенной. По мнению Ламсдена и Уилсона, марксистская интерпретация истории человечества сходна с интерпретацией процесса биологической эволюции, предложенной ламаркизмом, поскольку обе эти интерпретации предлагают «неправильное описание механизмов, лежащих в основе изучаемых процессов». Сравнив марксизм с ламаркизмом, авторы книги задели советских авторов за живое, поскольку, как об этом уже упоминалось выше, отношение марксизма к ламаркизму было той темой, которая носила достаточно болезненный характер для советских исследователей (см. главу 4).
Теперь к бичеванию концепции социобиологии, начатому Дубининым, присоединяются и другие советские авторы. А.М. Каримский связывает ее идеи с идеями «буржуазной философии», «социального бихевиоризма», «неомальтузианства», а также тем, что он называет «антирабочей, антипрофсоюзной политикой капитализма», с расизмом, манипулированием сознанием и поведением людей. Все эти явления, по мнению Каримского, являются следствием существования в мире напряженности, гонки вооружений и характерны только для Запада[8].
И.Т. Фролов — лидер реформаторов советской философии — был более сдержан в своих оценках концепции социобиологии. В своих работах он говорит о «слабости и бесперспективности социобиологического подхода», отмечая одновременно наличие в нем «интересных частных наблюдений и выводов». Главный недостаток этого подхода, пишет Фролов, заключается в том, что представители социобиологии не понимают, что специфика человека как биосоциального существа состоит в том, что его превращение в существо «сверхбиологическое» в основном высвободило его из-под власти эволюционных механизмов[9]. Во время беседы, состоявшейся у меня с И.Т. Фроловым в марте 1985 г. в г. Бостоне, он с известной симпатией отозвался о взглядах Уилсона. Несколько ранее, полемизируя в одной из своих статей с теми советскими философами, кто критически относился к сравнению человека с животными, Фролов отмечал, что, по данным науки, различие между информацией, содержащейся в генах человека и шимпанзе, составляет лишь около 1%, и призвал советских биологов заняться (вслед за представителями социобиологии) изучением значения этого небольшого различия[10].
1. Wilson E.O. Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge (Mass), 1975.
2. Caplan A., ed., The Sociobiology Debate: Readings on Ethical and Scientific Issues Concerning Sociobiology. N. Y., 1978; Lewontin R.S., Rose S., Kamin L. Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature. N. Y., 1984; M. Barker M. Racism: The New Inheritors//Radical Philosophy. 1979. № 21. P. 2-17.
3. См.: Сатдинова Н.X. Социобиология — «за» и «против»//Вопросы философии. 1982. № 3.
4. См.: Ефимов В.Т. Этика и моралеведение//Вопросы философии. 1982 № 2. С. 67-75.
5. См.: Игнатьев В. Н. Социобиология человека: «теория генно-культурной коэволюции»//Вопросы философии. 1982. № 9. С. 134-141.
6. См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение ответственность. М., 1982. С. 196.
7. Lamsden Ch. J., Wilson E.O. Genes, Mind and Culture. The coevolutionary process, 1981.
8. См.: Каримский А.М. Социальный биологизм: природа и идеологическая направленность. М., 1984.
9. См.: Фролов И.Т. Перспективы человека. М., 1983. С. 58-84.
10. См.: Фролов И.Т. Человек как комплексная проблема//Вопросы философии. 1983. № 10. С. 37-48.
Проблема преступности и других видов отклонений от социальных норм
Из всех вопросов, обсуждавшихся в связи с дискуссией о соотношении биологического и социального, проблема преступности и других видов отклонений от существующих норм была одной из наиболее животрепещущих и имеющих большое практическое значение. В ранних советских работах эта проблема получала вполне определенное решение: преступность рассматривалась как преходящее явление, вызванное бесправием, эксплуатацией и несправедливостью, характерными для жизни капиталистического общества. Так, в первом издании Большой Советской Энциклопедии, вышедшем в 1940 г., в статье «Преступление» говорилось о том, что «в действительности преступление возникло только на том этапе развития общества, когда появилась частная собственность, классы и государство, и имеет определенный классовый характер»[1]. При этом предполагалось, что с победой социализма исчезнут и те социальные причины, которые вызывают различного рода социальные отклонения, включая преступность.
Однако и в 70-х годах было по-прежнему очевидно, что преступность в Советском Союзе не исчезла. Представители старшего, консервативно настроенного поколения советских людей были обескуражены буйным, а зачастую носящим и преступный характер поведением советской молодежи, а также некоторых из числа их собственных ровесников. Разочарование в прежних объяснениях существования преступности вело к поискам альтернативных объяснений, что нашло отражение и на страницах художественной литературы. Так, например, один из героев романа известного советского писателя Ю. Семенова — работник уголовного розыска — следующим образом рассуждает на тему о борьбе с преступностью:
«Хочу теоретически разобраться в тезисе, который давно уже сформулирован: «Причины преступности, ее базис ликвидированы». В чем же тогда дело, если социальной подоплеки нет? Почему грабители? Хулиганы? Насильники? В чем дело?.. Такой ли уж реакционер Ломброзо? И нужно ли постоянно атаковать Фрейда? Что есть причина той или иной человеческой аномалии? Как можно рассчитать на компьютере генетический код того или иного преступника? Можно ли это вообще делать? Нет ли в этом нарушения нашей морали?»[2]
Советские юристы, генетики и другие специалисты начали обнаруживать возрастающий интерес к генетическим трактовкам поведения человека, результатом чего явились первые советские публикации на эту тему, появившиеся в 70-х годах. Среди этих публикаций были и такие, в которых утверждалось, что у мужчин была обнаружена связь (получившая название «синдром XYY») между набором хромосом и преступным поведением; следует отметить, что аналогичные исследования, проводимые в Бостоне (Массачусетс), были запрещены под давлением общественного мнения[3].
Обратившись к советским работам по криминологии, нельзя не заметить в них возрастающую тенденцию отдавать предпочтение врожденным факторам при объяснении причин, вызывающих преступное поведение у человека. В своей статье, опубликованной в 1966 г., юрист Н.А. Стручков отрицал наличие биологических «причин», вызывающих преступное поведение, замечая тем не менее, что, по его мнению, можно говорить о наследовании человеком некоторых черт личности[4]. Подобные заявления рассматривались как подрывающие основы той позиции, которую отстаивал ведущий советский психолог А.Н. Леонтьев, настаивавший на том, что «личность» является продуктом среды. Еще более определенно, чем Стручков, по этому вопросу высказался С.А. Пастушный, написавший в 1973 г. о том, что данные науки свидетельствуют в пользу существования предрасположенности отдельных людей к совершению преступлений, слабоумию и тому подобным проявлениям[5]. В работе, опубликованной в 1975 г., юрист Г.А. Аванесов уже не стесняется употреблять слово «причина», говоря о врожденных свойствах людей, совершающих преступные действия[6]. Еще один юрист — Б.С. Волков в работе, написанной в 1975 г. и носящей название «Детерминистическая природа преступного поведения», утверждал, что «биология, биологические свойства и особенности того или иного человека оказывают огромное влияние на процесс формирования социальной направленности его личности»[7]. Авторы учебника по криминологии, опубликованного в 1979 г., придерживались более осторожного взгляда на этот вопрос, отмечая, что биологические особенности могут влиять на формирование поведения человека (включая преступное поведение), но не могут рассматриваться как его причины[8]. Как видим, среди советских авторов по-прежнему нет согласия по вопросу о роли биологических факторов в формировании преступного поведения. Авторы, разделявшие точку зрения философии диалектического материализма, продолжали утверждать, что преступление — это явление социальное, а не биологическое. В то же время эти же самые авторы стали обращать все большее внимание на роль генетических факторов в формировании «физиологических основ» личности преступника[9].
Ученым, который наиболее активно защищал ортодоксальные позиции в этом вопросе, был, как нетрудно догадаться, академик Николай Дубинин, считавший преступное поведение «пережитком капитализма». В книге, написанной им в соавторстве с двумя советскими юристами и опубликованной в 1982 г., утверждается, что широкое распространение преступности в Советском Союзе объясняется тем, что еще не закончено построение коммунистического общества в этой стране[10]. В этой книге мы вновь сталкиваемся с парадоксальным характером позиции, занимаемой Дубининым, на этот раз по вопросу о причинах преступности. Пытаясь отстаивать позиции ортодоксального марксизма в этом вопросе (что должно было понравиться идеологическим лидерам страны), Дубинин был вынужден вновь и вновь указывать на экономическое неравенство, существующее между гражданами страны, что, в свою очередь, не могло быть воспринято с восторгом политическим руководством. Указание на факт существования неравенства в советском обществе, могущего явиться причиной сохранения преступности, вызывало столь же неблагоприятную реакцию со стороны официальных властей, как и те работы Дубинина, в которых он говорил о возможных неблагоприятных последствиях для человека, которые может иметь промышленное производство и использование ядохимикатов в сельском хозяйстве. Другими словами, будучи применен к анализу причин различного рода социальных недугов, характерных для советского общества, ортодоксальный марксизм становился «палкой о двух концах»: если Дубинин хотел отстаивать ортодоксальные позиции в вопросе о преступности, ему ничего не оставалось делать, кроме как указывать на недостатки, присущие советскому обществу. Таким образом, попытки генетической интерпретации проблемы преступности (как ни далеки они были от традиций ортодоксального марксизма) обладали известной привлекательностью в глазах советских властей, поскольку такого рода интерпретации позволяли избегать необходимости критического рассмотрения того состояния советского общества, в котором оно находилось в 80-х годах. Книга, о которой идет речь, написана Дубининым скорее в патетическом, нежели в догматическом тоне. Это, по-видимому, объясняется тем, что ко времени выхода ее в свет он уже был понижен в должности и подвергся критике со стороны официальных властей за преувеличение роли среды в формировании поведения человека. Тем не менее в этой своей работе он продолжает настаивать на ортодоксальном марксистском подходе к проблеме преступности. Не забывайте о том, обращается он к своим читателям, что нам еще предстоит долгий путь к коммунизму, что в нашем обществе существует еще немало экономических проблем, что мы не можем еще обеспечить каждого «в соответствии с его потребностями», что еще существует различие в уровне жизни между городом и деревней, что у нас еще очень многие заняты очень тяжелым ручным трудом, что многие этнические группы людей по-прежнему отсталы. Однако не стоит отчаиваться, уговаривает он читателей, преступление — это «социальное, исторически обусловленное явление классового общества», и как «массовое явление» оно исчезнет с построением коммунизма. Сохранятся только «межличностные конфликты», да и то на гораздо менее низком уровне.
Сравнивая различные социальные системы, а также состояние советского общества в различные периоды его существования, Дубинин пытается обосновать свой тезис о социальных истоках преступности. Люди, живущие сегодня в Восточной и Западной Германии, пишет он, обладают «одним и тем же генофондом», однако различные социально-экономические условия обусловили и различный характер преступности, существующей в этих странах[11]. В свою очередь, в Советском Союзе, отмечает Дубинин, преступность была распространена в начале 20-х годов, когда экономика молодого Советского государства испытывала на себе сильное влияние капитализма, когда «обычным явлением были эксплуатация, нищета и беспризорность»[12]. (Упоминание беспризорности носило, безусловно, автобиографический характер.)
Несмотря на то что рассуждения Дубинина казались привлекательными для марксистов старой школы и гуманитариев, обстоятельства жизни советского общества в начале 80-х годов делали их достаточно неприемлемыми с точки зрения не только многих интеллектуалов, уставших от рецептов, предлагаемых марксизмом, но также и тех советских управленцев и администраторов, которые были призваны бороться со все возрастающим числом беспорядков и преступлений. /249/
1. Большая Советская Энциклопедия. М., 1940. Т. 46. С. 764.
2. Цит. по: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. С. 59-60.
3. Советские публикации на эту тему см.: Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1976. №№ 3, 12; Шестой Всесоюзный съезд невропатологов и психиатров: тезисы докладов. М., 1975. Т. 3. С. 505-524; Эфроимсон В.П., Калмыкова Л.Г. Успехи неврологической и психиатрической генетики//Генетика психических болезней. М., 1970. С. 250; Кузнецова Н.Ф., Лейкина Н.С. Криминологический аспект соотношения социального и биологического//Советское государство и право. 1977. № 9. С. 102-110; О спорах вокруг исследований в Бостоне см.: Culliton B.I. XYZ: Harvard Reseacher Under Fire Slops Newborn Screening//Science. 1975. 27, June 188: 1284-85; Roblin R. The Boston XYY Case//The Hastings Center Report. 1975. August. 1975. 5(4):5-8.
4. См.: Стручков Н.А. О механизме взаимного влияния обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений//Советское государство и право. 1986. № 10 С. 113-115.
5. См.: Пастушный С.А. Философия и современная биология. М., 1973. С. 195.
6. См.: Аванесов Г.А. Криминология, прогностика, управление. Горький, 1975. С. 91.
7. Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. Казань, 1975..С. 80, 85-86.
8. См.: Криминология. М., 1979. С. 108.
9. См., напр.: Бочков Н.П. Методологические и социальные вопросы современной генетики человека//Вопросы философии. 1981. № 1. С. 51-62. Бочков является автором первой советской монографии по генетике человека «Генетика человека: наследственность и патология». М., 1978.
10. См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. С. 59-64.
11. См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Геиетика, поведение, ответственность. С. 113.
12. Там же. С. 109
Л.Н. Гумилев и проблема этнических отношений
В Советском Союзе конца 70-х годов биологические интерпретации исторического процесса и поведения человека все чаще и чаще начинают выступать как основа политического консерватизма. Некоторые из работ, в которых эта точка зрения была представлена особенно ярко, не могли быть опубликованы в официальной печати, а потому циркулировали в форме публикаций «самиздата». Сам по себе поворот к консерватизму не был случайным, поскольку именно консерватизм был характерен для «подпольной» советской политической культуры того времени. Говоря об истоках движения «новых правых» в Советском Союзе, западные аналитики отмечали, что консервативные настроения получили особенное распространение после того, как были подавлены движения в защиту прав человека и за политические и социальные реформы, появившиеся в Советском Союзе в 60-х и начале 70-х годов[1]. К концу 70-х годов можно было уже говорить о том, что либеральные течения в Советском Союзе уже отошли в прошлое и новую силу набирали течения консервативные. Органы милиции, как казалось, проявляли большую терпимость к этому новому консервативному течению, нежели до этого к движению либералов, хотя время от времени обрушивались и на представителей этого движения.
Одним из наиболее интересных эпизодов, связанным с распространением консерватизма, является публикация работ, авторами которых стали Гумилев и Бородай (соответственно в 1979 и 1982 гг.). Следует отметить, что история этих публикаций остается до сих пор не вполне ясной.
Лев Николаевич Гумилев является сыном двух знаменитых советских поэтов — Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Как известно, Н. Гумилев был репрессирован советскими властями в 1921 г. по подозрению в участии в антиправительственном заговоре. Мать Л.Н. Гумилева — А. Ахматова умерла в 1966 г.; ее судьба также связана со сталинскими репрессиями — ее стихи были запрещены постановлением ЦК ВКП(б) 1946 г. и начали публиковаться только после смерти Сталина.
Сам Л.Н. Гумилев — историк, специализирующийся на проблемах восточной культуры, — также провел много лет в сталинских лагерях и в последние годы являлся сотрудником Ленинградского университета. Работая на географическом факультете университета, он занимался вопросами влияния географической среды на формирование поведения человека. В начале 70-х годов им было опубликовано несколько работ по проблемам этнической истории Китая в III в. Постепенно его интересы расширялись, и к концу 70-х годов он написал большую работу, в которой предпринял попытку анализа контактов между различными этническими группами, имевших место на протяжении истории человечества, а также тех последствий, которые имели эти контакты. Получив отказ советских издательств опубликовать эту работу, Гумилев депонирует свою трехтомную рукопись в ВИНИТИ, перехитрив тем самым издательских деятелей, поскольку в таком виде рукопись оказывалась доступной читателям (хотя их круг и был ограничен). Доступ к депонированным рукописям имели сотрудники академических институтов и лица, имеющие специальное разрешение. Нет сомнения в том, что ему не удалось бы осуществить этот маневр без поддержки достаточно влиятельных людей (возможно, из числа сотрудников ВИНИТИ). Кроме того, ксерокопии рукописи Гумилева распространялись географическим факультетом Ленинградского университета. Это можно было делать, не опасаясь обвинений в распространении изданий «самиздата», поскольку сам факт депонирования рукописи придавал ей официальный статус. Другими словами, рукопись была просто не опубликована, а не запрещена цензурой.
Идеи Гумилева, его интерпретация истории человечества вскоре начали распространяться в среде интеллектуалов Москвы и Ленинграда. Сам факт ограниченности доступа к рукописи привлекал к ней внимание и придавал ей значение «секретного знания». При этом мало кто отдавал себе отчет (и, как представляется, не придавал этому особого значения) в политической направленности идей, содержащихся в рукописи Гумилева. В своих мемуарах, опубликованных за границей, Раиса Берг вспоминает о популярности идей Гумилева среди молодых советских студентов 70-х годов. Вспоминая атмосферу дискуссии на факультете прикладной математики университета, в которой она принимала участие вместе с Гумилевым, Берг пишет о том, что они чувствовали себя как в «оазисе среди пустыни декретированной науки». Вместе с тем она пишет и о том, что в интерпретациях Гумилева было «нечто от астрологии, нечто совершенно неприемлемое» для нее как биолога[2].
То обстоятельство, что Л. Гумилев был сыном известной поэтессы Ахматовой, пострадавшей от преследований со стороны сталинских прихвостней, заставляло многих людей предполагать, что сам он также принадлежит к числу «антисталинистов и либералов»; однако вскоре некоторые из числа его читателей начали осознавать, что излагаемые Гумилевым взгляды могут явиться привлекательными и для вновь появившихся защитников так называемых «русских национальных традиций». Другие пытались рассмотреть содержание рукописи Гумилева и выдвигаемые им идеи в свете дискуссии по вопросу соотношения социального и биологического и в связи с этим характеризовали взгляды автора рукописи как «биологизаторские»[3].
Парадокс, связанный с книгой Гумилева, носящей название «Этногенез и биосфера Земли», заключается в том, что обзоры и отзывы на нее были опубликованы в советской печати, а сама она так и не издана до сих пор. (Замечу в скобках, что такое случалось иногда с работами зарубежных, но не советских авторов.) В связи с этим хочу подчеркнуть, что мои представления о содержании этой рукописи (или книги) основываются на двух публикациях о ней в советских журналах: весьма положительном отзыве об этой работе, содержащемся в статье Бородая[4], и отзыве сокрушительно критическом, подписанном Кедровым, Григулевичем и Крывелевым[5]. Таким образом, поскольку сам я лишен был возможности прочесть эту работу Гумилева, а вынужден излагать ее основные идеи, опираясь на отзывы защитников и противников этих идей, очевидно, что при этом могут быть допущены известные искажения собственных взглядов Гумилева. Вместе с тем хочу отметить, что за последние 25 лет Гумилевым было опубликовано множество работ по истории этносов, в которых обсуждались многие из тех идей и концепций, которые позднее вошли в содержание рассматриваемой неопубликованной рукописи[6].
Как уже отмечалось, Ю.М. Бородай (являющийся сотрудником Института философии АН СССР) в своей работе, опубликованной в научно-популярном журнале АН СССР «Природа», познакомил широкие круги советских читателей с основными положениями рукописи Гумилева, сделав это с очевидной симпатией по отношению к взглядам последнего. Как отмечает Бородай, строя свою схему развития мировой истории, описывая подъемы и падения цивилизаций, Гумилев широко использует такие биологические термины, как «этнос», «мутация», «химера», «симбиоз», «геобиценоз», «экосистема», «экзогамия», «раковая опухоль» и др.
Согласно Гумилеву, важнейшей единицей в истории человеческой цивилизации является «этнос», который определяется им как «замкнутая система дискретного типа»[7]. Каждый этнос, живя сам по себе, способен к значительным достижениям в области культуры, искусства и философии, поскольку обладает собственным «органичным и оригинальным мироощущением». Вместе с тем если происходит смешение этнических групп и, как следствие этого, наложение друг на друга «несовместимых» мироощущений различных этносов, то возникает такое крайне негативное явление, как «химера», являющаяся «негармоничным сочетанием двух-трех элементарных этносов», — сочетанием, порождающим «мироотрицающий настрой» и соответствующую деструктивную практику и идеологию. (В ботанике химера — это особая форма клеток, возникающая в результате прививок растений.) Идеологические концепции, порождаемые химерами, наподобие вампиров «сосут кровь» из здоровых этносов. По образному выражению Гумилева, соотношение между этносом и химерой можно сравнить с соотношением между «здоровой тканью» и «раковой опухолью».
Когда Гумилев говорит о «смешении» этнических групп, совершенно ясно, что он имеет при этом в виду смешанные браки между представителями этих групп; он говорит о том, что в рамках одной семьи это смешение реально воплощается в детях, «ассимилирующих разнохарактерные, несовместимые поведенческие стереотипы и ценностные установки родителей».
Хотя Гумилев нигде особо не оговаривает конкретный механизм, приводящий к появлению негативных идеологий (возникающих в результате смешения этносов), можно быть уверенным в том, что он был убежден в генетической природе этого механизма. Он пишет о том, что «нельзя сказать, что к принятию негативного взгляда на мир людей побуждает ухудшение бытовых условий или экономические затруднения. Нет, их не больше, чем было до этого, а иной раз и меньше, ибо в зонах контакта (этносов. — Пер.) обычно начинается интенсивный обмен вещей (промышленность и торговля), людей (работорговля) и идей (торговля верой)». По мнению Гумилева, рассматривать исторический процесс в категориях экономики означает впадать в «иллюзии вульгарного социологизма, стремящегося всюду увидеть классовую борьбу». Учитывая это, неудивительно, что позиции Гумилева были критически оценены марксистами.
После знакомства с довольно мрачной картиной развития мировой истории, рисуемой Гумилевым, возникает естественный вопрос о том, видит ли он что-нибудь положительное в ней, особенно учитывая то обстоятельство, что нигде в мире не существует этнически чистых групп людей. История цивилизации — это история контактов между различными этническими группами. Почему в таком случае «концепции-вампиры» не всегда одерживают победу? Отвечая на этот вопрос, Гумилев выдвигает несколько возможных вариантов развития контактов между этносами: по его мнению, возможен вариант, когда различные этносы могут быть «совмещены в одном ареале» и это их совмещение может не иметь негативных последствий, если будут соблюдаться определенные условия; кроме того, даже в том случае, если происходит худшее и результатом контакта оказывается химера, существует (правда, в редких случаях) возможность сохранения нормальных отношений между этносами. В схематичном виде описанные возможности можно представить следующим образом.
Если две этнические группы (этносы) живут рядом, не вмешиваясь в быт друг друга, то эту форму сосуществования можно, по мнению Гумилева, сравнить с «симбиозом» в биологии. Другим примером гармоничного сосуществования может служить случай, когда группа «иноземцев-специалистов», приглашенных для оказания помощи в выполнении каких-то работ, селится в чужой для них стране, но не вступает с местным населением в контакты, не связанные с выполнением этих работ. Такого рода отношения Гумилев называет «этнической ксенией», опять-таки используя биологическое понятие.
Что же происходит в случае, если в результате контакта между этносами возникает химера? Тогда, как считает Гумилев, вся надежда на то, что в результате некой «мутации» у отдельных индивидов или их группы может возникнуть «повышенная активность» или, как еще ее называет Гумилев, «пассионарность». Согласно Гумилеву, появление такого рода мутаций характеризует моменты наивысшего подъема истории цивилизации, а потому, считает он, можно говорить о том, что именно тот механизм взаимодействия этносов, который, как правило, приводит к катастрофам, способен иногда порождать и «жизнеутверждающие этносы».
Возникновение христианства Гумилев рассматривает как одну из величайших подобного рода мутаций в истории человечества. По его мнению, христианство явилось реакцией на ту химеру, которая возникла в результате слияния «греческого» и «израилитского» этносов. Вместе с тем Гумилев не считает, что подобные позитивные мутации неизбежны, равно как он не убежден и в неизбежности самосохранения этих позитивных мутаций. Так, например, считает Гумилев, такая позитивная мутация, как ислам, явившаяся результатом подавления «гностицизма», не смогла сохранить себя как здоровый этнос, причиной чего явилась «экзогамия», осуществлявшаяся через гаремы. Внедрение в исламский этнос «персов, грузин, армян, сирийцев, греков, турок и берберов» привело в результате к появлению новой «химерной целостности», породившей новую негативную идеологию — «исмаилизм». Капитализм и протестантизм также являются, по мнению Гумилева, не до конца еще побежденными негативными идеологиями. возникшими как порождение химерной целостности, сложившейся в Европе в результате торговли между расположенными здесь странами, особенно между Англией и Голландией. У Гумилева не находится хороших слов и о Реформации или каких-либо религиозных ересях, которые он также считает порождениями химерных целостностей. Так, например, учение альбигойцев, живших в Лангедоке (Франция), Гумилев считал продуктом химеры, возникшей от смешения местного населения с арабами.
Почему же столь умозрительная и лишенная научного обоснования концепция, каковой является концепция истории цивилизации, выдвинутая Гумилевым, наделала столько шума и вызвала такой переполох среди советских интеллектуалов? Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что большинство тех, кто обсуждал рукопись Гумилева, никогда не читали ее, а были знакомы с ней лишь понаслышке. Во-вторых, идеи, изложенные Гумилевым, представлялись привлекательными для различных групп людей, поскольку отражали их групповые интересы. Так, участники дискуссии по проблеме соотношения социального и биологического, подчеркивающие роль и значение именно природных факторов, по крайней мере, на первых порах с симпатией отнеслись к идеям Гумилева, рассматривая его рукопись как еще один «залп», направленный против их оппонентов. Кроме того, как уже отмечалось, среди советских интеллектуалов в то время было распространено мнение, что всякие попытки биологических объяснений проблемы человеческого поведения автоматически означали их антисталинскую направленность, а в случае с Гумилевым эта связь еще более усиливалась, поскольку в глазах советских либералов (особенно представлявших литературные круги) он был прежде всего сыном своих репрессированных родителей. В-третьих, концепция Гумилева отвечала различным политическим интересам и способна была привлечь внимание как либералов-диссидентов 60-х годов, так и диссидентов-консерваторов 70-80-х годов. Вся история России представлялась иллюстрацией доктрины Гумилева: повторяемые вновь и вновь попытки иностранного завоевания России, подавления ее национальных особенностей, ее этноса в конце концов оказывались безуспешными.
Наиболее драматичные события связаны с монгольским нашествием. Советские генетики обнаружили, что если пересечь Евразию с востока на запад, то можно отметить следующее обстоятельство: с продвижением на запад существенно сокращается число людей с группой крови «Б». При этом известно, что наличие той или иной группы крови определяется генетическими факторами. В связи с этим еще до начала второй мировой войны на страницах публикаций, выходящих на Западе, можно было встретить гипотезы, согласно которым гены, определяющие наличие группы крови «Б», были «занесены» в Европу в результате монгольского нашествия. Степень смешения монголов со славянами была очень высока. Существуют свидетельства, говорящие о том, что наибольшее распространение это смешение получило в среде русской знати, многие представители которой позднее даже хвастались своими монгольскими предками. Таким образом, славянское крестьянство обеспечивало генетический резерв этноса. Затем произошла «мутация», выдвинувшая такого лидера, как Дмитрий Донской — человека, обладавшего «повышенной активностью» (пассионарностью), и монгольское иго было сброшено. По мнению Гумилева, монголы утратили свое могущество в результате столкновения с другими «доминантными» этносами.
Всякий, кто знаком с работами русских консервативно настроенных диссидентов, опубликованными за последние 15 лет, воспримет отдельные мысли Гумилева как уже известные. В этих работах среди героев, боровшихся с иностранными завоевателями, упоминаются Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Кутузов, а иногда даже и Сталин; как видим, перечисленные имена лишний раз свидетельствуют об идеологической разнородности нового русского консерватизма. Концепция Гумилева, изложенная Бородаем, носит достаточно общий характер, а потому каждый может увидеть в ней то, что хочет. Так, представители Русской Православной церкви могут найти в рукописи Гумилева выражение почтения по отношению к ортодоксальному христианству и одновременно презрения к западноевропейским ересям и религиозным сектам; сторонники защиты окружающей среды будут привлечены тезисом Гумилева о том, что этносу аборигенов свойственно уважительное отношение к природе, а этносу мигрантов — пренебрежительное отношение, приводящее к разрушительным последствиям; антиамерикански настроенные читатели могут испытывать чувство удовлетворения от того описания отношения американцев к индейцам, которые дает Гумилев, и, наконец, социалисты будут ободрены, прочтя, что капитализм является порождением химеры.
Однако серьезные советские марксисты не в состоянии принять интерпретацию истории, предлагаемую Гумилевым, поскольку она полностью игнорирует или, по крайней мере, подрывает основы марксистской интерпретации, основывающейся на экономических подходах, недооценке роли отдельных индивидов и критическом отношении к религии. Интересным в этом отношении является то, что основная атака на Гумилева и Бородая была осуществлена не представителями официальных партийных органов, а группой ученых, возглавляемых академиком Б.М. Кедровым. Сам Кедров был крупным ученым, искренне убежденным марксистом. Его отец был другом и соратником Ленина, и до самой своей смерти в 1985 г. Б.М. Кедров любил вспоминать, как, будучи ребенком, он играл на коленях у Ленина. Отец Б.М. Кедрова был расстрелян по приказу Сталина, о чем упоминал в своем известном «секретном докладе» на XX съезде КПСС Хрущев. Б.М. Кедров, будучи убежденным марксистом, всегда выступал против догматического подхода к этому учению. В период после окончания второй мировой войны он возглавлял журнал «Вопросы философии» и пытался в своей деятельности избежать следования сталинским догмам, за что и поплатился (см. об этом главу 10 настоящей книги).
Кедрова и его соавторов прежде всего беспокоила не позиция Гумилева и Бородая в вопросе о соотношении биологического и социального (для Кедрова было типичным оставлять решение конкретных вопросов за специалистами в области конкретных наук), а тот факт, что оба они практически полностью игнорировали концепцию исторического материализма, а также их предубеждение по отношению к некоторым национальностям. Оценивая подход Гумилева и Бородая к вопросу о смешении рас, Кедров с соавторами пишет:
«Такие утверждения неверны и прямо и непосредственно противостоят линии нашей партии и социалистического государства на всемерное сближение наций и на перспективу (хотя и отдаленную) их слияния в едином социалистическом человечестве»[8].
Далее в статье отмечается отказ Гумилева и Бородая использовать классовый подход к анализу истории религиозных ересей, хотя, по мнению Кедрова и его соавторов, «еретические движения западноевропейского средневековья были формой революционной борьбы угнетенных народных масс против феодализма и феодальной церкви»[9]. В заключение они пишут о том, что публикацию такого рода материала, дающего неправильное антинаучное освещение ряда важнейших проблем, следует решительно признать ошибочной.
Как видим, критика была уничтожающей. Однако, как ни странно, Кедров и его соавторы нигде прямо не обвиняли Гумилева и Бородая в «расизме», то есть в том, что сразу же могло прийти на ум при прочтении их статьи. Во время беседы, состоявшейся у меня с академиком Кедровым вскоре после публикации этой статьи, он объяснил, что не назвал Гумилева и Бородая «расистами» потому, что те не утверждали превосходство одной расы над другими, они просто высказывались против смешанных браков между представителями различных этнических групп; более того, Кедров сказал, что он и его коллеги сознательно избегали тех эпитетов, которые ранее употреблялись в ходе философских дискуссий в Советском Союзе с целью дискредитации оппонентов, а не с целью изучения предмета спора. Этот ответ представляется типичным для Кедрова. Хотя в некоторых работах западных авторов его и называли «либералом»[10], сам он возражал против этого и на самом деле никогда не был либералом в том смысле, как это понимают на Западе; он был убежден в том, что статьи, подобные статье Бородая, действительно не следует публиковать. Понятие свободы печати, в том смысле, как ее понимают на Западе не входило в его словарь. Кедров был сторонником того направления советского марксизма, представители которого выступали за то, чтобы рассуждения о философии и обществе велись в рамках представлений аутентичного марксизма.
1. Dunlop J.B. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton, 1983; Yanov A. The New Russian Right. Berkeley, 1978.
2. Berg R. Sukhovei. N. V. 1983. P. 289-291.
3. См., напр.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. С. 101-102.
4. См.: Бородай Ю.М. Этнические контакты и окружающая среда//Природа. 1981. № 9. С. 82-85.
5. См.: Кедров Б.М., Григулевич И.Р., Крывелев И.А. По поводу статьи Ю.М. Бородая//Природа. 1982. № 3. С. 88-91.
6. Ссылки на некоторые из этих работ содержатся в упомянутых статьях Бородая и Кедрова, Григулевича, Крывелева.
7. Другие советские этнографы и географы также используют термин «этнос», но в другом значении. См., напр.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
8. Кедров Б.М., Григулевич И.Р., Крывелев И.А. По поводу статьи Ю.М. Бородая... С. 89.
9. Там же. С. 90.
10. Hahn W. B.M. Kedrov — A Soviet «Liberal»//Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation. 1946-53. Ithaca, N.Y., 1982. P. 161-181.
Биомедицинская этика
Вопросы биомедицинской этики довольно часто поднимаются в последнее время на страницах советской печати. При всех различиях, которые наблюдаются между обсуждением этих вопросов и спорами по проблеме соотношения социального и биологического, можно констатировать, что в каждом случае спор, по существу, идет о том, в каком смысле можно говорить, что люди — это биологические существа или, иначе говоря, можно ли «социальное» свести к «биологическому».
В последние годы научно-технический прогресс, бурно развивающийся во многих странах мира, позволил осуществить пересадку многих органов человека, использовать искусственные аппараты в целях поддержания жизни человека, осуществлять манипуляции с генотипом человека, что, в свою очередь, породило множество дискуссий среди философов, политиков, этиков, естествоиспытателей и юристов по поводу тех ограничений, которые должны существовать в области использования этих новых возможностей, открывающихся перед человечеством. Как и в других странах, в Советском Союзе дискуссии по этим проблемам имеют как собственно научный, так и политический аспекты. В связи с этим можно говорить о том, что дискуссии по этим проблемам, ведущиеся в Советском Союзе, имеют как сходство, так и отличие от аналогичных дискуссий, ведущихся на Западе.
Проблема определения понятия «смерть» может быть отнесена к числу тех, споры вокруг которых, ведущиеся в разных странах, имеют много общего. Поскольку врачи во многих странах владеют теперь методикой реанимации, восстановления функций сердца, то на сегодняшний день представления о смерти как о моменте остановки сердца можно характеризовать как устаревшие. В самом деле, сегодня во многих странах понятие смерти связывается не со «смертью сердца», а со «смертью мозга»[1].
Однако даже при обсуждении такой, казалось бы, достаточно технической проблемы, каковой является проблема определения момента смерти, подход советских авторов отличается своей спецификой. Специфика эта связана с теми представлениями о «личности», которые характерны для советского марксизма. Последний определяет «личность» как индивида, способного вступать в социальные отношения. Согласно представлениям советского марксизма, человек качественно отличается от животного не тем, что обладает «душой», а тем, что является социальным существом, чья сущность определяется производственными отношениями. Таким образом, в конечном итоге статус личности определяется обществом, а не теми врожденными свойствами и особенностями, которыми обладает тот или иной человек. В рамках такого понимания вопрос о «сохранении жизни» не получает того звучания, как на Западе.
Означает ли это, что тело человека, деятельность мозга которого уже не может быть восстановлена, может служить в качестве своеобразного «банка органов», необходимых для пересадки другому человеку с целью сохранения жизни последнего? По крайней мере, один советский ученый — Н. Амосов утверждает, что пересадка, например, сердца возможна, если оно извлекается у человека, чья смерть констатируется в результате прекращения мозговой деятельности[2]. Другие советские ученые резко выступали против подобных предположений, хотя (подобно их западным коллегам) испытывали затруднения при формулировании философских посылок, лежащих в основании их позиций. В отличие от работ по проблемам биоэтики, выходящих на Западе, в советской литературе (как философской, так и естественнонаучной), рассматривающей эти проблемы, практически не рассматриваются различного рода религиозные соображения.
Еще более остро этические вопросы встают в связи с возможностями использования методов генетической инженерии. Речь идет о технике рекомбинантной ДНК, которая позволяет «пересаживать» ДНК от одного вида другому. В связи с этим возникает вопрос об ограничениях этих исследований по этическим соображениям. Допустим, ученый хочет узнать, возможно ли дальнейшее развитие эмбриона обезьяны, в который с помощью методов генетической инженерии была «внедрена» молекула ДНК человека, в организме самой обезьяны? В одной из своих книг Джун Гудфилд пишет о том, что д-р Дж. Бурн, работавший в Центре по изучению приматов (штат Джорджия, США), получил в свое время два письма от сотрудников Дарвиновского музея в Москве, в которых высказывалось одобрение идеи создания гибрида человека и обезьяны[3]. Следует ли сначала осуществить подобный эксперимент, а потом уже беспокоиться по поводу этических вопросов, возникающих в связи с его осуществлением, или же эти вопросы должны обсуждаться в самом начале, оказывая тем самым влияние на решение вопроса о проведении подобного эксперимента? Один из американских ученых — Джозеф Флетчер попытался в свое время обосновать необходимость создания «человеко-животных гибридов» нуждой в получении «банков органов», необходимых для трансплантации[4]. Следует отметить, что советские философы энергично высказывались против подобных «негуманных» предложений, однако при этом неясными оставались те философские посылки, которые лежали в основе их возражений; неясным оставался также и вопрос о том, являются ли советские биологи «менее агрессивными» в своих исследованиях, чем их коллеги на Западе[5].
Проблемами биоэтики заинтересовались советские философы науки и партийные активисты, претендующие на то, чтобы был услышан и марксистский анализ этих проблем. Р.С. Карпинская — специалист в области философии биологии — писала, что «общественная опасность нерегулируемой «генно-инженерной» эволюции столь высока, что не только теоретическое, но и экспериментальное знание уже сейчас должно направляться истинно научным и гуманистическим мировоззрением. Чувство социальной ответственности ученых уже не может быть интуитивным, оно требует обоснования в научных мировоззренческих формах. Философское осмысление перспектив биологии становится неотъемлемой частью научного исследования, и чем глубже осознают этот факт создатели блестящих экспериментов в области генетической инженерии, тем надежнее возможность обратить ее неодолимое развитие исключительно на пользу человечества»[6].
Наибольший интерес в приведенном высказывании Карпинской представляют слова о том, что «философское осмысление» действительности является «неотъемлемой частью научного исследования» как в теоретическом, так и в практическом плане. В своей статье Карпинская утверждает, что союз между марксистской философией и наукой необходим в целях рассмотрения моральных проблем, возникающих в ходе развития естествознания; подобного рода утверждения отличаются от распространенного понимания необходимости этого союза в связи с тем, что в своей деятельности ученые зачастую сталкиваются с познавательными проблемами, имеющими философское значение. Большинство советских биологов, однако, без энтузиазма встретили призыв Карпинской к «единству» философов и естествоиспытателей; последние с возмущением вспоминали вмешательство философии в решение собственно научных проблем, имевшее место во времена Лысенко, и опасались, что и теперь, в 80-е годы, философы могут использовать обсуждение проблем биоэтики как новый предлог для вмешательства в научные вопросы. Поэтому, в то время как советские философы утверждали, что сам процесс научного поиска обладает ценностной нагрузкой и должен в связи с этим оцениваться с этической точки зрения, ученые-практики, подобные академику А.А. Баеву, стояли на той точке зрения, что наука сама по себе не является ни «плохой», ни «хорошей»[7]. Согласно позиции этих ученых, вопрос об этической оценке науки может обсуждаться только в связи с ее практическим применением, а потому нет необходимости и в новом «союзе» естествоиспытателей и философов.
В 80-х годах советские философы начинают уделять гораздо большее, нежели ранее, внимание проблемам биомедицинской этики и генетической инженерии. Наибольший вклад в изучение этих проблем внес И.Т. Фролов[8]. Его интерпретация проблем генетической инженерии отличается от интерпретаций советских естествоиспытателей и представляет известный интерес. Как можно было предположить, Фролов соглашается с Баевым в том, что основная проблема заключается в возможности использования методов генной инженерии реакционными силами на Западе; вместе с тем он не соглашается с Баевым по вопросу о том, что методы генной инженерии — это всего лишь еще одна технология, которую можно использовать как во благо, так и во зло. Развитие молекулярной биологии, отмечает Фролов, порождает столь серьезные социально-этические проблемы, что это позволяет говорить о «новом этапе в развитии науки»[9]. Этот период характеризуется осознанием того, что «наука и научно-технический прогресс не являются панацеей от всех бед», что «возникла опасность развития таких направлений научно-технического прогресса, которые прямо и непосредственно угрожают человеку и человечеству»[10]. Как видим, Фролов отходит от позиций оптимистического сциентизма, которые были характерны для советских работ по философии науки более раннего периода.
Согласно Фролову, развитие современного биологического познания ставит целый ряд вопросов и проблем, затрагивающих как самые основы человеческого существования, так и основы развития науки в целом. Идеологические вопросы уже не являются чем-то «внешним» для науки, поскольку переплетаются с самим ее «телом». Именно поэтому проблемы генетики человека нельзя рассматривать как чисто научные проблемы, поскольку сама генетика человека «неизбежно включается в острую философскую, идеологическую борьбу»[11]. Таким образом, хотя ученые, подобные Баеву, и настаивали на том, что советские молекулярные биологи могут продолжать свои исследования по-старому, Фролов отмечал новизну сложившейся ситуации и говорил о необходимости новых подходов к изучаемым в биологии явлениям.
До этого момента анализ этих проблем, предпринимаемый Фроловым, вполне согласуется с позицией более ортодоксальных марксистов, подобных, например, Дубинину, которые также высказывали опасения по поводу генетической инженерии. Однако точка зрения Дубинина, считавшего, что методы генетической инженерии ни в коем случае не должны применяться к человеку с целью формирования его эволюционного будущего, рассматривается Фроловым как слишком упрощенный подход к решению этой проблемы. В своем анализе Фролов исходит из того, что марксизм основывается на релятивистском понимании истории цивилизации, в ходе которой моральные нормы и представления эволюционируют в соответствии с развитием материальной культуры. Другими словами, Фролов не исключает возможности сознательного использования методов генетической инженерии применительно к человеку (даже в тех формах, которые сегодня получают негативную оценку с точки зрения морали) в будущем. С другой стороны, подчеркивает Фролов, было бы большой ошибкой пытаться осуществить подобные манипуляции сегодня. Он считает, что, по состоянию на сегодняшний день, всякие евгенические проекты по улучшению человека как вида должны быть отвергнуты по двум причинам: из-за неполноты и несовершенства самой генетики как науки, а также из-за неравенства живущих в мире людей по отношению к власти. Даже если бы генетика как наука и была близка к совершенству, продолжает Фролов, то до тех пор, пока в мире существуют классы людей, обладающих известными преимуществами и привилегиями по отношению к другим людям, широкое использование методов генной инженерии будет неизбежно вести лишь к увеличению различий между общественной элитой и классами неимущих. В неком весьма отдаленном будущем, однако, станет возможным вновь обратиться к вопросу о совершенствовании человека как вида; именно будущие поколения людей, считает Фролов, смогут решить этот вопрос, полагаясь на более совершенный характер как собственно генетических знаний, так и на более совершенный характер будущего — коммунистического общества[12].
Позиция Фролова в этом вопросе представляется весьма разумной и тщательно обоснованной. То, что в своем анализе проблем биомедицинской этики ему удается синтезировать как собственно научный, так и социальный аспекты этих проблем, отличает позицию Фролова от взглядов Баева, Бочкова и Энгельгардта, которым была присуща большая ориентированность на собственно научные аспекты проблем биоэтики. В то же время позиция Фролова, основанная на представлениях этического релятивизма и утонченного марксизма, отличалась и от позиций таких ученых, как Дубинин и Шишкин, основывающих свои взгляды на упрощенных представлениях советского марксизма. Вместе с тем слабость подхода Фролова к решению проблем биоэтики заключается в ограниченных возможностях его использования в решении неотложных практических вопросов. Как уже говорилось, Фролов считает, что решение трудных проблем биоэтики — дело далекого будущего, однако уже сегодня врачам и ученым в разных странах мира приходится решать такого рода проблемы, связанные с использованием методов искусственного оплодотворения, с вопросами лечения смертельно больных людей или новорожденных уродов, с исследованиями рекомбинантной ДНК, пересадкой органов, эмбриональными исследованиями и исследованиями в области генной терапии. Абстрактные формулировки, предлагаемые Фроловым, хотя и заслуживают всяческого одобрения в теоретическом плане, все же не представляют большого интереса с точки зрения тех ученых-экспериментаторов и врачей, которые в своей повседневной практике сталкиваются с необходимостью решения проблем биоэтики.
1. Подробнее об этом см.: Царегородцев Г.И., Иванюшкин А.Я. Медицина и этика//Вопросы философии. 1983. № 9. С. 147-152; Фролов И.Т. О жизни, смерти и бессмертии//Вопросы философии. 1983. № 1. С. 82-98, и № 2. С. 52-64. В статьях Фролова приводятся многочисленные ссылки на советские работы, посвященные этой проблеме.
2. Цит. по: Малейн Н.С. Право на медицинский эксперимент//Советское государство и право. 1975. № 11. С. 35-41. См. также: Горелик И.И. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. Минск, 1971; Богомолова Л.Г. Донорство Л., 1977.
3. Goodfield J. Playing God: Genetic Engineering ant the Manipulation of Life. N.Y., 1977. P. 6.
4. Fletcher J. The Etnics of Genetic Control: Ending Reproductive Poulette. N.Y., 1974. P. 172-173.
5. О. Десятчикова в статье, опубликованной в журнале «Коммунист Узбекистана» (1974 г.), писала о том, что советские генетики ведут «бескомпромиссную борьбу» за сохранение существующего генотипа человека. И.Т. Фролов в статье «Наука — ценности — гуманизм» критически отзывается о позиции Флетчера (Вопросы философии. 1981. № 3. С. 39-40).
6. Карпинская Р.С. Мировоззренческое значение современной биологии//Вопросы философии. 1978. № 4. С. 101.
7. Игнорируя попытки марксизма объединить фактуальное и нормативное знание, Баев вслед за Юмом настаивал на их разделении, говоря о том, что «категории добра и зла неприменимы к природе» (см.: Баев А.А. Социальные аспекты генетической инженерии//Философская борьба идей в современном естествознании. М., 1977. С. 145).
8. См., напр.: Фролов И.Т. Человек — наука — техника. М., 1973; Наука и нравственность. М., 1971; Жизнь и познание. М., 1981; Перспективы человека. М., 1983, и др.
9. См.: Фролов И.Т. О диалектике и этике биологического познания//Вопросы философии. 1978. № 7. С. 39, 41; Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: сфера исследования, проблемы и дискуссии//Вопросы философии 1985 К., 2 С. 62-78.
10. Фролов И.Т. Актуальные философские и социальные проблемы науки и техники//Вопросы философии. 1983. № 6. С. 18-19.
11. Фролов И.Т., Пастушный С.А. Менделизм и философские проблемы современной генетики. М., 1976. С. 4. Среди других работ Фролова, в которых он анализирует проблемы генетики человека, можно также назвать его книгу «Перспективы человека» (М.; 1983) и статью «Человек сегодня и завтра»//Наука и жизнь 1976. № 9. С. 16-17.
12. См.: Фролов И.Т. Прогресс науки и будущее человека. М., 1975. С. 160- 175.
Вопросы контроля при решении проблем биоэтики
За всеми философскими и медицинскими вопросами, обсуждавшимися в связи с проблемами биоэтики, стоит один практический и политический вопрос: кто должен решить, что можно, а что нельзя делать при проведении биомедицинских исследований? Следует сказать, что аналогичным вопросом задавались в свое время и в Соединенных Штатах, и тот ответ, который был дан на него в США, не прозвучал достаточно убедительно для тех советских ученых, которые хранили в памяти полную боли историю развития советской биологии.
В США широкое распространение получила практика включения философов и специалистов в области этики в состав различного рода консультативных комиссий, призванных наблюдать за проведением научных исследований. В 1976 г., создавая Консультативный совет по вопросам этики при Министерстве здравоохранения, образования и социального обеспечения (Ethical Advisory Board, Dept. of Health, Education and Welfare), тогдашний его глава Дэвид Мэтьюз распорядился, чтобы в состав этого совета были включены не только ученые, представляющие различные области естествознания. В число первых членов этого совета входили, например, католический священник и лидер организации филантропов. В состав комиссии при президенте США по изучению этических проблем медицины (President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research), возглавляемой президентом Рейганом, кроме представителей естествознания входили также специалисты в области этики, социологии, экономики и права[1]. В сотнях американских университетов существуют советы, комиссии и другие организации, в чью задачу входит определение степени дозволенности тех или иных исследований на человеке с точки зрения этики. В положении об этих организациях, как правило, подчеркивается, что их состав должен включать «представителей самых различных областей деятельности»[2].
Высказываясь по вопросу о деятельности подобного рода организаций, призванных принимать решения в связи с этическими проблемами науки, политические лидеры очень часто говорят о том, что эти решения должны отражать господствующую в том или ином обществе систему ценностей. Так, например, в США логичным выглядит представительство в этих органах различного рода религиозных деятелей и философов, специализирующихся в области исследования морали; в Советском Союзе с этой точки зрения логичным бы выглядело представительство в них философов-марксистов и партийных функционеров. Здесь-то как раз и возникает заминка: дело в том, что если бы в Советском Союзе были созданы организации, призванные осуществлять этическую экспертизу биологических исследований, и в состав этих органов были бы включены философы-марксисты, то это могло бы привести к возрождению старой проблемы соотношения марксистской идеологии и науки[3].
В середине 80-х годов в Советском Союзе все, кто не представлял естественные науки, были исключены из различного рода комитетов и комиссий, имевших отношение к биологической науке. В это время председателем Межведомственной комиссии по разработке Правил безопасности работы с рекомбинантными ДНК был академик А.А. Баев[4]. Во время моего пребывания в Москве, в январе 1983 г., мне рассказывали, что членами этой комиссии были исключительно ученые-естественники. В 1978 г. комиссией были разработаны Временные правила безопасности работ с рекомбинантными ДНК, которые походили на аналогичные правила, принятые в то время в США[5]. Позднее академик Баев возглавил Межведомственный научно-технический совет по проблемам молекулярной биологии и молекулярной генетики при ГКНТ и президиуме АН СССР[6] — организацию, имевшую сходные задачи с упомянутой выше комиссией, но обладавшую большими правами. В состав этого совета также входили только представители естественных наук.
Представители других областей науки, а также люди, не занимающиеся научными исследованиями, неоднократно поднимали вопрос об их включении в состав тех органов, которые принимали решения по проблемам биомедицинской этики, но безуспешно. Так, о необходимости введения «социально-этических и гуманистических регулятивов» научного исследования неоднократно писал в своих работах И.Т. Фролов[7]. Сам Фролов возглавлял в то время научный совет при президиуме АН СССР по философским и социальным проблемам науки и техники — организацию, включающую в свой состав представителей различных научных дисциплин (в том числе философов и историков), однако в отличие от совета, возглавляемого Баевым, не обладающего правом непосредственно влиять на процесс принятия решений в этой области[8].
Попытки оказать влияние на ход обсуждения проблем биоэтики были предприняты также и представителями общественности. Так, на страницах «Литературной газеты», пользующейся популярностью у представителей литературной интеллигенции, было опубликовано несколько материалов, в которых выражалась озабоченность по поводу возможного вмешательства в генотип человека с помощью методов молекулярной биологии[9]. В 1974 г. к дискуссии по проблемам биоэтики подключилась и Русская Православная церковь[10]. В редакционной статье, озаглавленной «Христианский взгляд на экологическую проблему», выражалось согласие с позицией философов-марксистов, призывавших к этическому контролю науки; вместе с тем в статье выражалось пожелание учитывать и религиозные соображения при обсуждений проблем биоэтики. В статье отмечалось, что этический контроль необходим не над «наукой как таковой», а над практическим применением ее достижений[11].
Философы-марксисты отказались от участия в предложенной им представителями церкви дискуссии, мотивируя этот отказ тем, что последние (вслед за учеными, возглавляемыми Баевым) утверждали ценностную нейтральность науки и настаивали на том, что контроль над наукой должен основываться на религиозных соображениях. В противоположность этому взгляду философы-марксисты утверждали, что наука не является ценностно нейтральной. Философы — специалисты в области, связанной с «ценностями» и этикой, — считали себя учеными в не меньшей степени, чем биологи, и стремились поэтому быть включенными в экспертные научные комитеты, призванные давать оценку тем или иным научным достижениям. При этом они выступали против включения в состав этих органов представителей церкви на том основании, что последние не являлись учеными. Тем не менее, насколько мне известно, ни философы-марксисты, ни представители церкви не были включены в состав подобных комиссий или комитетов.
Обмен мнениями по вопросам регулирования биологических исследований, состоявшийся между представителями естествознания, философии и церкви, много дает для понимания положения науки в Советском Союзе. На первый взгляд то обстоятельство, что в ходе этого обмена мнениями совпали взгляды на науку у представителей естествознания и церкви, может показаться парадоксом, однако в этом нет ничего парадоксального. Дело в том, что представители обеих названных групп выражали присущие им интересы и следовали своим традициям. Естествоиспытатели выступали за признание ценностной нейтральности науки, поскольку не желали включения в состав научных комитетов официальных советских экспертов в вопросах ценностей - философов-марксистов. Священнослужители также выступали за признание ценностной нейтральности науки, следуя в этом религиозной традиции дуализма; кроме того, представители церкви отдавали себе отчет в том, что, придерживаясь именно таких взглядов на науку, они тем самым сводят к минимуму риск быть обвиненными во «вмешательстве не в свое дело». Считая марксизм (включающий в себя и систему ценностей) такой же «наукой», как и другие, философы-марксисты хотели участвовать в обсуждении проблем биоэтики на равных правах с представителями естествознания; ссылаясь на Маркса, они также говорили о том, что в будущем все науки сольются в «одну науку — науку о человеке», которая объединит в себе нормативные и фактологические подходы. Исходя из этого понимания науки, философы-марксисты не могли, естественно, принять позицию дуализма в этом вопросе, с которой выступали представители церкви. В основе названных различных точек зрения на проблему отношения «наука — ценности» лежит, как видим, различное понимание отношений между наукой и обществом; следует при этом отметить, что до сих пор в Советском Союзе не обнаружено путей, которые бы вели либо к победе одной из существующих точек зрения, либо к их объединению и выработке единой позиции по вопросу об отношении «наука — ценности».
Одним из удивительных моментов советской дискуссии по проблемам биологии человека является то обстоятельство, что в ходе этой дискуссии происходило размывание традиционных идеологических различий между «либералами» и «консерваторами». Дело в том, что и «либерально настроенные» интеллектуалы, и консервативно мыслящие националисты заигрывали с концепциями, в основе которых лежали представления о решающей роли наследственных факторов; либеральные интеллектуалы делали это, поскольку точка зрения биологического детерминизма была направлена против сталинского контроля над наукой, а консервативные националисты — поскольку в их представлении биологический детерминизм способствовал росту этнического, национального сознания, служил своеобразной теоретической опорой шовинизма. Более того, к 70-м годам обнаружилось, что советские философы, отстаивавшие позиции догматического марксизма, уже не могли рассчитывать на поддержку со стороны таких представителей естествознания, как, например, Дубинин.
Те в Советском Союзе, кто пытается сегодня выступать с объяснением таких явлений, как преступность, коррупция, другие формы отклонений от социальных норм, выбирают для этого один из следующих путей: либо, сохраняя лояльность по отношению к оригинальной концепции марксизма, выдвинутой его классиками, рассматривают эти негативные явления как продукт социальных условий советского общества, либо объясняют эти явления причинами, лежащими «вне социально-экономической сферы жизни», например генетическими факторами, отбрасывая тем самым марксистские представления. Стремление к генетическим объяснениям этих явлений особенно сильно среди прагматично мыслящих советских руководителей, стремящихся к сохранению существующего порядка вещей, а главное — к сохранению своего места в существующих структурах. Если к этой группе людей добавить представителей интеллигенции, для которых привлекательность генетических объяснений заключается прежде всего в их направленности против сталинской версии марксизма, а также тех националистов, которые видят в подобных объяснениях теоретическое обоснование своих консервативных — а иногда и носящих расистский характер — взглядов, то перед нами будет полная картина политических и идеологических взглядов и представлений, характерных для тех, кто составляет лагерь сторонников концепций биологического детерминизма.
Думается, однако, что западные наблюдатели вряд ли могут найти своеобразное утешение в факте существования среди советских авторов идеологической путаницы в вопросах, связанных с биологией человека. Что поразительно, так это то, что наличие этой путаницы, характерной для советских авторов, ведет к той же самой путанице, но уже на Западе, поскольку ход обсуждения названных проблем в советской печати противоречит зачастую тем представлениям о жизни советского общества, которые складываются на Западе. Среди советских участников дискуссии по проблемам биологии человека, позиции которых были наиболее близки к позициям тех, кого на Западе считают «гуманистами» (то есть тех, кто выступает против сциентизма, манипуляций с психикой и генотипом человека, концепций биологического детерминизма, расизма и неограниченного применения методов генной инженерии), можно в первую очередь назвать представителей официального и неофициального марксизма, являющихся сторонниками диалектического материализма. Следует отметить, что большинство западных советологов оказались неготовыми к тому, что советские идеологи будут выступать с гуманистических позиций. Не меньшее беспокойство среди определенной части западных наблюдателей вызывает и тот факт, что некоторые советские диссиденты, которыми особенно восхищались на Западе, оказались сторонниками концепций генетического детерминизма.
Названные моменты отличают дискуссию по проблемам биологии человека от других споров, которые велись в Советском Союзе по вопросам, связанным, например, с литературой и политикой. Большинство позиций и взглядов, высказываемых в ходе дискуссий по вопросам литературы и политики и имеющих антисталинскую направленность, вызывали сочувствие у западных сторонников борьбы за демократию и права человека; в то же время взгляды сторонников концепций генетического детерминизма, которые начали распространяться в Советском Союзе в послесталинский период, содержали в себе антидемократические элементы и ценности — элементы расизма, шовинизма и неистового национализма. В силу этого, а также других уже упомянутых причин дискуссия по проблемам биологии человека может рассматриваться как своеобразное лекарство от тех неверных представлений о положении дел в Советском Союзе, которые распространены на Западе.
1. Hastings Center Report. 1979. October. P. 2-3; 1980. February. P. 2-3; 1981. February. P. 2.
2. Federal Register (January 26, 1981), 46(16):8376.
3. Graham L.R. Science, Citizens and Policy-Making Process: Comparing U. S. and Soviet Experiences//Environment (September, 1984), 26(7): 6-37. Среди советских работ, в которых затрагивается эта проблема, можно назвать: Турбин Н.В. Генетика и общество//Вопросы философии. 1974. № 2; Он же. Генетическая инженерия: реальность, перспективы и опасения//Вопросы философии. 1975. № 1; Тимаков В.Д., Бочков Н.П. Социальные проблемы генетики человека//Вопросы философии. 1973. № 6; Смирнов И.Н. Методология и мировоззрение: некоторые философские проблемы биологического познания//Вопросы философии. 1978. № 7.
4. См.: Вельков В.В. Опасны ли опыты с рекомбинантными ДНК//Природа. 1982. № 4. Сам Вельков был членом этой комиссии и называет Баева ее председателем.
5. NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules. U. S. Dept. of Health, Education and Welfare, June 23, 1976. Среди публикаций на эту тему, вышедших на русском языке, кроме упомянутой статьи Велькова можно назвать: Баев А.А. Современная биология как социальное явление//Вопросы философии. 1981. № 3; Шивцов 0.В. Проблемы риска при генно-инженерных исследованиях//Вестник АМН СССР. 1981. № 2.
6. На самом деле этот совет возглавлял академик Ю.А. Овчинников. — Прим. пер.
7. См., напр.: Фролов И.Т. Наука — ценности — гуманизм//Вопросы философии. 1981. № 3; Он же. Перспективы человека. М., 1983; Он же. О диалектике и этике биологического познания//Вопросы философии. 1978. № 7, а также: Юдин Б.Г. Этика научного исследования//Природа. 1980. № 10.
8. Graham L.R. Reasons for Studying Soviet Science: The Example of Genetic Engineering//Lubrano L.L., Solomon S.G., eds. The Social Context of Soviet Science. Boulder, 1980. P. 205-240.
9. См., напр.: Дыбан А. Счастливый запрет природы//Литературная газета. 1978. 23 августа. Другим советским ученым, который был буквально в ужасе от самой идеи использования методов генной инженерии, являлся Шишкин А.Ф. (см. его книгу «Человеческая природа и нравственность». М., 1979).
10. См.: Журнал Московской патриархии. 1974. № 4.
11. См.: Журнал Московской патриархии. 1974. № 4. С. 35-39. См. также статью Соловьева Э.Ю. в журнале «Вопросы философии». 1973. № 8. С. 105.
Глава VIII. Кибернетика и компьютеры
Статус кибернетики как дисциплины изменялся в Советском Союзе от одной крайности к другой[1]. До середины 50-х годов она оценивалась в некоторых идеологических статьях как «буржуазная наука». В 60-х и начале 70-х годов кибернетика заняла в Советском Союзе намного более престижное положение, чем где-либо еще в мире. В конце 70-х и в 80-х годах ее статус значительно понизился, хотя она и продолжала сохранять определенную популярность.
Наиболее необычным периодом были 60-е и начало 70-х годов. В эти годы кибернетика была предметом всеобщего увлечения в СССР, даже несмотря на то что производство компьютеров намного отставало от производства их в США как в качественном, так и в количественном отношении. Как же можно объяснить это явление? Как могли советские авторы постоянно говорить об уникальной роли, которую, по их мнению, кибернетика сыграет в их обществе, если советские компьютеры были явно на низкой ступени развития? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, мы должны начать с анализа основных понятий кибернетики в сопоставлении с традиционными советскими социальными стремлениями и философскими рамками диалектического материализма. Для советских сторонников кибернетики она была новым разделом истории материалистических подходов к природе, обещающим как лучшие возможности концептуализации мира, так и достижение социальных целей.
Советское стремление к рациональности
Первоначальное обещание русской революции для тех, кто ее поддерживал, заключалось в рациональном руководстве обществом. Марксизм, как интеллектуальная система, был наследником оптимизма французского Просвещения и сциентизма XIX в.; одним из его основных положений была вера в то, что проблемы общества могут быть разрешены человеком. Природа не рассматривалась столь же сложной, и из этого вытекала возможность ее контроля при условии уничтожения препятствующих этому искусственных экономических барьеров, созданных капитализмом.
Марксисты утверждали, что ключом к прогрессу в то время было социальное преобразование. Большевики рассматривали революцию 1917 г. как решающий прорыв в сторону такой реорганизации. Они признавали, конечно, что, учитывая отсталость России, будет очень трудно достичь прогресса в отношении действительного управления. Однако даже в первые годы Советской России было, по крайней мере, много теоретиков, надеявшихся достичь централизованного рационального управления. Первая попытка достичь этой цели была сделана в период военного коммунизма (1918-1921). Как ни ответственна была гражданская война в форсировании командной экономики, абсолютно ясно, что идеологическое понуждение к созданию планового коммунистического общества также сыграло важную роль. С этой точки зрения новая экономическая политика (1921-1927), одновременно с ослаблением экономического контроля, была определенным отступлением. Быстрая индустриализация, сменившая нэп, могла бы выполняться в соответствии с любым из нескольких различных вариантов, но все они предполагали большую плановость и централизацию.
После 30-х годов, однако, цель рационально управляемого общества стала более отдаленной. Наиболее обескураживающим для советских плановиков фактом стало то, что чем быстрее преодолевались трудности слабого развития промышленности, тем отдаленнее казалось достижение рационального централизованного контроля. Ко времени смерти Сталина в 1953 г. экономика стала такой запутанной, что казалось, она бросила вызов человеческим возможностям управления и планирования. Было бы удобным объяснить все эти неприятности скорее личной иррациональностью Сталина, чем неспособностью советского человека контролировать свои дела. Однако к 1957 г., через четыре года после смерти Сталина, стало ясно, что неприятности объясняются не заблуждениями одного человека, а самим понятием централизованного планирования.
К концу 50-х и началу 60-х годов даже советские экономисты начали ставить вопрос о том, можно ли сложной современной промышленной экономикой управлять из центра. Любое изменение количества одного товара, запланированного к выпуску, вызывало бесконечное изменение количества других. Было похоже, что даже относительно децентрализованная экономика испытывает ненасытную потребность в бухгалтерах и администраторах. Академик Глушков заявил, что если все будет развиваться таким же образом, то скоро все советское трудоспособное население будет занято в процессе планирования и руководства. Говоря языком кибернетики, энтропия системы возрастала с ужасающей скоростью.
Кибернетика появилась как раз в этот период истории Советского Союза. Оставив на время изначальную советскую враждебность к кибернетике (которая была преувеличена за пределами СССР), советские администраторы и экономисты стали рассматривать ее обещания как многообещающие, так как, во-первых, она давала надежду рационального планирования процессов, ранее с сожалением признаваемых неконтролируемыми по причине высокой сложности; во-вторых, она позволяла иначе определить саму рациональность, во всяком случае, применительно к управлению сложными процессами.
Достаточно очевидной была надежда на достижение рациональности с помощью кибернетики. Основание кибернетики — контроль протекающих процессов и предотвращение увеличивающегося беспорядка в них — точно соответствовало желанию советских администраторов. Они думали, что, возможно, с помощью кибернетики удастся добиться действительного контроля над исключительно сложными советской экономикой и управлением.
Второй результат кибернетики — переопределение рациональности в контролировании сложных механизмов — вытекал из самой природы кибернетики. Поэтому необходимо кратко остановиться на определении этого предмета.
1. Первая часть этой главы основана во многом на двух моих уже опубликованных статьях: «Кибернетика» и «Кибернетика в Советском Союзе». См.: Science and Ideology in Soviet Society. N.Y., 1965. P. 3-18.
Наука рационального контроля
Термин «кибернетика» иногда неправильно понимается как синоним «автоматизации». Он напоминает об обсуждениях проблем безработицы и впечатляющей статистике о количестве операций, выполняемых компьютером в сотую долю секунды. Изначально же кибернетика означала нечто совершенно другое. Основатели кибернетики — Норберт Винер, Артур Розенблют, Юлиан Бигелоу, Уолтер Б. Кэннон, Уоррен С. Маккаллох, Уолтер Питтс, У. Росс Эшби, Клод Шенон и Джон фон Нейман — верили, что они разрабатывали общую теорию процессов управления[1]. Для них процесс управления был средством поддержания порядка в любой среде, как органической, так и неорганической. Исходя из этого представления кибернетики, компьютер как таковой не является кибернетическим изобретением. Он может стать частью кибернетической системы при объединении с другими компонентами этой системы в соответствии с теорией управления.
Развивающаяся кибернетика как научная дисциплина не основывалась на технических новшествах, позволяющих создавать современные компьютеры. Вместо этого она опиралась на понятие энтропии, взятое из термодинамики и после расширения смысла обозначающее количество беспорядка в любой динамической системе. Согласно этому подходу, всем сложным организмам постоянно угрожает возрастание беспорядка, с переходом в конце концов к полному хаосу. Однако определенные организмы устроены настолько тонким и эффективным образом, что они в состоянии противостоять, по крайней мере временно, тенденции к беспорядку. Кибернетика изучает общие свойства этих организмов, особенно использование ими информации для противодействия беспорядку. Более восторженные сторонники кибернетики рассматривают человеческое общество, которое также явно поощряет порядок, как особый вид кибернетического организма. В общем, кибернетика — это наука об управлении и связи, направленная на отражение возрастающей энтропии, или беспорядка.
Кибернетика хорошо соотносится с материалистическими положениями. Один из ее постулатов гласит, что управляющие характеристики всех сложных процессов могут быть сведены к определенным общим принципам. Однако ее способ действия четко отличался от науки XVIII и XIX вв., из которой проистекал научный оптимизм марксизма. В представлении Просвещения, рациональность достигалась посредством знания количественных законов, которые делали возможным предсказание будущего. Такая рациональность, возможно, лучше всего была представлена небесной механикой Лапласа. Управление процессом, согласно этому раннему взгляду, основывалось на знании всех физических законов и переменных, а также способности изменять величину переменных. Даже недетерминистская сущность современной физической теории, приводящая к трудностям, не разрушила веру в то, что рациональность есть, по существу, теоретический, а не эмпирический подход. В экономике эта концепция рациональности привела к вере в то, что если централизованная экономика функционирует неэффективно, то трудность здесь должна заключаться либо в неадекватности власти, либо в недостаточном знании в центре местных условий и необходимых экономических законов для изменения этих условий.
Кибернетика — основанная на аналогичности всех сложных самовоспроизводящихся процессов, с живыми организмами как решающим примером успеха в самовоспроизведении — не придает особого значения точному предсказанию будущих состояний или свойств. Не требует она и строгого централизованного контроля. Исполнительные или командные органы во всех действительно сложных кибернетических механизмах представлены в иерархиях власти с полуавтономными областями. Более того, кибернетическая система скорее не пытается неопределенно предсказать результаты своих исполнительных действий, а осуществляет постоянную эмпирическую проверку этих результатов посредством обратной связи и подстраивает свои команды на этой основе. Как сказал Н. Винер, кибернетика вырастает из управления скорее на основе действительного, чем ожидаемого, исполнения. Кибернетика, таким образом, поощряет соединение таких, казалось бы, противоречивых принципов, как местный контроль на основе эмпирических фактов и непризнание централизованных целей.
Было бы ошибкой верить, что кибернетика позволяет контролировать наиболее сложные процессы посредством накопления в центре огромных массивов информации. В самом деле, согласно кибернетике, информационные барьеры имеют для управления процессами не меньшее значение, чем свободные потоки информации. Лучшим примером такого парадокса может служить человеческое тело, во многом являющееся образцом кибернетического механизма. Если бы мы осмысливали все, что происходит у нас в желудке, или хотя бы некоторую информацию, необходимую для нормального функционирования наших пищеварительных органов, мы стали бы, наверное, очень нервными. Однако человеческий организм демонстрирует величайшую победу контроля над сложными процессами, на которые может нацеливать кибернетика; характерные черты строения этого организма могут быть основой понимания кибернетических систем.
1. Для описания интеллектуального возбуждения раннего этапа развития кибернетики, особенно времени собрания «Iosiah Macy Foundation» в 1946 и 1947 гг., см.: Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в живом и машине. М., 1968.
Возрождение надежд
Урок кибернетики для Советского Союза и особенно для его экономики казался ясным. Если бы Москва знала все происходящее на ее фабриках в Омске, она стала бы «нервной», какой, впрочем, она и стала, когда попыталась это узнать. Кибернетика учит выборочности информации и сравнительной децентрализации контроля. Посредством принятия этих принципов советские последователи кибернетики надеялись направить советскую экономику к нескольким насущным центральным целям, в то же время гарантируя определенную местную автономию.
Кибернетика оживила, хотя бы временно, уверенность советских лидеров в том, что советская система способна рационально управлять экономикой. Это оживление произошло в тот самый момент, когда возможность/269/ представлялась безвозвратно потерянной[1]. Это возрождение надежд было объяснением того поголовного «заболевания» кибернетикой, которое имело место в Советском Союзе в конце 50 — начале 60-х годов; после 1958 г. в СССР были изданы тысячи статей, брошюр и книг по кибернетике[2]. В более популярных статьях полное применение кибернетики отождествлялось с торжеством коммунизма и полным осуществлением революции[3]. Если странная смесь идеологии и политики в Советском Союзе может иногда оказываться для некоторых дисциплин роковой (как в случае с генетикой), то она также может катапультировать другие науки на необычайную высоту.
Невозможно найти другой период советской истории, когда какая-нибудь наука привлекала бы советских авторов настолько, насколько это сделала кибернетика. Сравнить это, наверное, можно лишь с 20-ми годами, когда ГОЭЛРО, государственная комиссия по электрификации, стала темой поэтов[4]. Более того, в то время исследование нормирования и организации труда Ф.У. Тейлора применялось широко и в какой-то мере беспорядочно и восторженное отношение к индустриализации выражалось иногда в таких необычных формах, как концерт для рабочих с применением фабричных гудков в качестве музыкальных инструментов[5]. Но и 20-е годы не могут служить полной аналогией, так как кибернетика рассматривалась ее наиболее пылкими защитниками как подход намного более универсальный, чем любая из разнообразных теорий 20-х годов.
В начале 60-х годов в Советском Союзе обычными были статьи о применении кибернетики в таких неожиданных областях, как музыковедение или рыболовство, хотя такое применение часто извращало значение термина «кибернетика». Некоторые обычно бесстрастные и осторожные академики из АН СССР стали наиболее восторженными приверженцами новой области знания. В 1961 г. кибернетика была определена КПСС одним из основных средств созидания коммунистического общества[6].
Даже до официального одобрения движение за кибернетику приобрело лавинообразный характер. В апреле 1958 г. в АН СССР был создан Научный совет по кибернетике во главе с академиком А.И. Бергом; в состав этого Совета вошли математики, физики, химики, биологи, физиологи, лингвисты и юристы. Институт автоматики и телемеханики АН СССР сосредоточил большую часть своих исследований на проблемах применения кибернетики. Московский энергетический институт, один из крупнейших и старейших технических институтов в стране, обучающий ежегодно 17 тысяч студентов, посвятил кибернетике примерно треть своих учебных программ и исследований[7]. У советских студентов стимулировали интерес к кибернетике; научная фантастика была полна описаний «искусственного кибермозга» и «киберинтернатов» будущего. АПН РСФСР основала такой интернат в Москве для подготовки будущих программистов с детского возраста[8].
В 1961 г. под редакцией А.И. Берга вышла книга «Кибернетика на службе коммунизма», в которой советские ученые описывали возможное приложение кибернетики к национальной экономике[9]. Во введении этой книги А. И. Берг утверждал, что ни одна другая страна не сможет использовать кибернетику так же эффективно, как Советский Союз, поскольку кибернетика, главным образом, сводится к выбору оптимальных методов выполнения операций и только социалистическая экономика может универсально использовать эти методы.
«В социалистическом плановом хозяйстве, — писал А.И. Берг, — имеются все условия для наилучшего использования достижений науки и техники на благо всех членов общества, а не отдельных соперничающих групп и привилегированного меньшинства»[10].
Сочетание централизованных целей с децентрализованной организацией в национальной экономике, естественно, создавало противоречия. Некоторые зарубежные обозреватели замечали, что до какой степени Советский Союз добивается успеха в одном направлении, в такой же степени он терпит поражение в другом. Дальнейшее развитие показало, что в этом есть доля правды. Спад в советской экономике в конце 70-х годов показал, что кибернетика не оправдывает надежд по управлению советской экономикой, хотя компьютеры и были совершенно необходимы в любой развитой системе промышленного производства и вооруженных сил.
1. Первая глава советской брошюры о теории информации и управления называлась «Пути преодоления сложности»//Берг А.И., Черняк. Ю.И. Информация и управление. М., 1966. С. 6-22. Авторы утверждали, что сложность национальной экономики в предыдущие годы претерпела качественный скачок, но верили, что кибернетика поможет справиться с этими новыми сложностями. В.М. Глушков, А.А. Дородницын и Н.П. Федоренко писали, что применение кибернетики в планировании экономики приведет к огромному национальному эффекту и, по меньшей мере, удвоит темп развития национальной экономики. См. их статью «О некоторых проблемах кибернетики»//Известия. 1964. 5 сентября.
2. Удивительно большое число важных советских публикаций по кибернетике было переведено на английский язык Объединенной издательско-исследовательской службой министерства торговли США. Однако качество перевода было очень низким. Можно привести две библиографии, имеющие значение для вышеуказанного обсуждения: Comey O.O. Soviey Publication on Cybernetics; Kerschner L.R. Western Translations of Soviet Publications on Cybernetics//Studies in Soviet Thought (Febrary, 1964, 4(2), Р. 142-177). См. также: Программа КПСС. М., 1961. С. 71-73.
3. Сходные взгляды также часто выражались философами. Э. Колъман, например, заметил, что цель нашего развития — коммунистическое общество — сложная с точки зрения кибернетики открытая, динамическая система с идеальной авторегуляцией (см.: Вопросы философии. 1965. № 10. С. 147).
4. См.: Некрасова И.М. Ленинский план электрификации страны и его осуществление в 1921-1931 гг. М., 1960; см. также: Dobb M. Soviet Economic Development Science 1917. N.Y., 1966.
5. Интересным человеком в этой области деятельности был Алексей Гастев, последователь Тейлора, который сочетал декламацию «поэзии ударного труда» с заинтересованностью в эффективности труда. В ходе чисток Гастев исчез; в 1962 г. он был официально реабилитирован А.И. Бергом, председателем Научного совета по кибернетике АН СССР. Юрий А. Гастев, сын А. Гастева, активно работал в области кибернетики в 60-е годы, особенно в области образования. См.: Гастев Ю.А. О методологических вопросах рационализации обучения//Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964. С. 466-467. Ю. Гастев впоследствии эмигрировал в США, где в середине 80-х годов писал биографию своего отца. Кендэл Е. Бэйлз из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провел несколько исследований советского отношения к труду в эти годы.
6. См.: Программа КПСС. С. 71-73.
7. Описание моего визита в МЭИ в мае 1963 г. и кибернетических исследований проректора Д.В. Разевич даны в работе: Caldwell O.J., Craham L.R. Moscow in May 1963: Education and Cybernetics//D.C., U. S. Office of Education Bulletin. Washington, 1964. P. 39-42.
8. Такая школа была мне описана в Москве в 1963 г. См. там же. С. 20.
9. Кибернетика на службе коммунизма. Ред. А.И. Берг. М.; Л. 1961.
10. Там же. С. 8.
Философские дискуссии
Кибернетика соответствовала материализму и оптимизму марксизма, но способствовала также постановке ряда серьезных философских и социологических проблем. Она имела ряд очевидных приложений в нескольких областях: психологии, эконометрии, педагогической теории, логике, физиологии и биологии — дисциплинах, испытавших ограничения при Сталине. Эти связи a priori подтвердили уязвимость предмета. В начале 50-х годов советские идеологи были определенно враждебными по отношению к кибернетике, несмотря на то что общее число статей, прямо направленных против кибернетики, не превышало, кажется, трех или четырех[1]. Это число было намного меньше, чем число идеологически воинствующих публикаций, появившихся в других спорах, описываемых в этой книге, что объясняется, без сомнения, обстоятельствами того времени: к моменту, когда кибернетика стала широко известной, худшие времена идеологического вторжения в советскую науку прошли. С другой стороны, советские ученые и инженеры в течение многих лет работали над математическими и физиологическими основаниями кибернетики. Такие советские ученые, как И.П. Павлов, А.Н. Колмогоров, Н.М. Крылов и Н.Н. Боголюбов, должны быть включены в число тех, кто подготовил почву для развития кибернетики, хотя они не выдвинули обобщенной теории процессов управления.
До начала 50-х годов кибернетику в Советском Союзе обходили молчанием; и она не испытывала открытых нападок до 1952 г., за год до смерти Сталина, хотя несколько ранних статей, ставивших под вопрос математическую логику, могут рассматриваться как скрытая критика кибернетики[2]. В 1953 г. в статье «Литературной газеты» кибернетике приклеивался ярлык «наука обскурантов» и осмеивалось мнение, что машина может мыслить или копировать органическую жизнь. Автор особенно критиковал усилия кибернетиков по расширению их обобщений на объяснение коллективных действий человека. В дополнение к этому он приписывал кибернетикам капиталистических стран надежды на то, что их новые машины будут выполнять мерзкие задания их общества: бастующий и неудобный пролетариат будет заменен роботами, а пилотов бомбардировщиков, не желающих убивать беспомощных мирных жителей, заменят «бесчувственные металлические чудища»[3]. В октябре 1953 г. сугубо критическая статья под заголовком «Кому служит кибернетика?» появилась в, главном советском философском журнале; в последующие годы советские сторонники кибернетики будут часто приводить эту статью как наиболее типичное представление противников кибернетики начала 50-х годов. Автор статьи, скрывавшийся под псевдонимом «Материалист», критиковал кибернетику при помощи диалектико-материалистического положения о качественном различии материи, находящейся на разных уровнях развития; таким образом, существует принципиальная разница между человеческим мозгом и даже наиболее сложным компьютером. Такие авторы, как Клод, Шеннон и Грей Уолтер, пытавшиеся создать механические устройства, проявляющие «социальное поведение», заблуждаются точно так же, что и такие материалисты XVIII в., как Ламетри и Гольбах[4]. Но если взгляды последних были прогрессивными в XVIII веке, в силу их направленности против религиозных верований, продолжал советский критик, то такие же суждения в XX в. явно реакционны. И наконец, «Материалист» возвращался к ранее выраженному мнению, что кибернетика — это особо пагубное средство западных капиталистов для извлечения большей прибыли из промышленного производства путем устранения необходимости выплачивать деньги пролетариату.
Точно так же как первоначальная враждебность советских авторов к кибернетике может быть связана со специфическими интеллектуальными условиями сталинизма, так и начало обсуждений достоинств кибернетики можно объяснить изменением позиции Коммунистической партии к естественным наукам, происшедшим после смерти Сталина. Влияние позиции партии не должно, однако, затмевать тот факт, что многие ученые и инженеры в Советском Союзе относились скептически к утверждениям кибернетиков США на том основании, что эти взгляды часто не были специфически марксистскими.
Весной 1954 г. ЦК КПСС выдвинул политику наибольшей терпимости к идеологическим проблемам в науке; главным критерием оценки были объявлены эмпирические результаты применения научных теорий[5]. Эта позиция, не будучи полностью новой, была, возможно, связана с критикой теории Лысенко в генетике; она также допускала более либеральную дискуссию по проблемам кибернетики.
Первым, кто поддержал позитивный взгляд на кибернетику, похоже, был чешский философ и математик Эрнст Кольман, который подолгу жил в Москве и в своих работах часто касался вопросов философии естествознания. В то время имя Кольмана было довольно известным: более 30 лет он принимал участие в дискуссиях по проблемам науки, в молодости он был строгим идеологом, в различных спорах часто защищал более либеральные позиции. 19 ноября 1954 г. Кольман читал очень важную лекцию в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в которой он особо критиковал статью «Материалиста» 1953 г.[6] Лишь позже стала ясной вся комичность ситуации: Кольмана, который претендовал на роль лидера кибернетики, позднее превзошли в приверженности к новой области знания многие другие советские ученые и он в последующих публикациях призывал к сдержанности в оценке возможностей кибернетики[7]. Главной мыслью доклада Кольмана в АОН было его утверждение о том, что Советский Союз может проглядеть техническую революцию, если будет игнорировать кибернетику. Новые вычислительные машины по значению сравнимы, по словам Кольмана, с введением десятичной системы исчисления или с изобретением книгопечатания. Советский Союз должен овладеть новыми процессами, продолжал он, и использовать их для достижения своих целей.
Речь Кольмана, позже опубликованная в «Вопросах философии», была началом обсуждения в Советском Союзе научного статуса кибернетики, которое продолжалось с 1954 по 1958 г. Первым шагом этого обсуждения было выяснение причин изначально холодного отношения советских марксистов к кибернетике. Группа авторов стремилась найти этому объяснение в середине 1955 г.:
«Некоторые наши философы допустили серьезную ошибку: не разобравшись в существе вопросов, они стали отрицать значение нового направления в науке в основном из-за того, что вокруг этого направления была поднята за рубежом сенсационная шумиха, из-за того, что некоторые невежественные буржуазные журналисты занялись рекламой и дешевыми спекуляциями вокруг кибернетики...»[8].
Обсуждение проблем кибернетики вскоре вылилось в попытки определения области ее применения и таких ее понятий, как «информация», «количество Информации», «шум», «управление», «обратная связь», «негоэнтропия», «гомеостаз», «память», «сознание» и даже «жизнь». Появилось множество статей, посвященных поискам таких определений. Однако принятие кибернетических методов не могло тотчас же привести к формулированию идеологически правильных определений; особая настойчивость современной технологии способствовала проникновению компьютеров во многие области советской экономики, включая оборону и исследование космоса. Таким образом, Советский Союз достаточно быстро изменил отношение к кибернетике, несмотря на то что в новой области содержалось много новых понятий, не получивших еще философских интерпретаций. Это движение возглавляли естествоиспытатели и инженеры вместе с теми философами, которые, как Кольман, разделяли их энтузиазм относительно введения наиболее современных методов в советскую экономику и которые вполне правильно не усматривали каких-либо противоречий кибернетики с марксизмом.
Таким образом, поддержка кибернетики неуклонно усиливалась. Известные ученые, такие, как академик С.Л. Соболев, представили философам и обществоведам элементарные и позитивные объяснения кибернетики. Другие ученые публично и явно искренне заявили об изменениях своих прежних взглядов на кибернетику. Так, еще в октябре 1956 г. академик А.Н. Колмогоров, работа которого по теории автоматического регулирования была подлинным вкладом в кибернетику, отказался признать ценность кибернетики как отдельной дисциплины; в апреле 1957 г., однако, он заявил на заседании Московского математического общества об ошибочности своего раннего скептицизма в отношении кибернетики, а в 1963 г. писал, что теоретически кибернетические автоматы могут воспроизвести все виды человеческой активности, включая эмоции[9].
Тремя важными вопросами, которые поставила кибернетика перед философами, были: 1. Что есть кибернетика и насколько общим является ее применение? 2. Можно ли воспроизвести жизненные процессы? 3. Что есть «информация» и как она связана с термодинамикой? На ранних стадиях дискуссии по кибернетике в Советском Союзе наибольшее внимание привлекали первые два взаимосвязанных вопроса. Однако по достижении определенного уровня осмысления наиболее обсуждаемым стал вопрос об информации. В самом деле, проблема информации, которая может показаться достаточно узкой с первого взгляда, была основной для обсуждения в целом; ответы на этот вопрос неожиданным образом повлияли на первые два ответа.
1. Это были статьи: Тугаринов В.П., Майстров Л.Е. Против идеализма в математической логике//Вопросы философии. 1950. № 3. С. 331-339; Ярошевский М.Г. Кибернетика — «наука» мракобесов// Литературная газета. 1952. 5 апреля; «Материалист» (псевдоним). Кому служит кибернетика//Вопросы философии. 1953. № 5. С. 210-219. В первой из них делались лишь косвенные нападки на кибернетику.
2. Примером была статья В.П. Тугаринова и Л.Е. Майстрова.
3. Ярошевский М. Кибернетика — «наука» мракобесов//Там же.
4. Свести все сложные формы движения материи к комбинации простых форм значило бы присоединиться, по словам многих советских авторов, к вульгарному, а не диалектическому материализму. См., напр.: Андрющенко М.Н. Ответ товарищам В.Б. Борщеву, В.В. Ильину, Ф.З. Рохлину//Философские науки. 1960. № 4. С. 108-110. Ясно, однако, что основные «законы», обусловившие этот аргумент — переход количества в качество, — могут быть использованы за и против понятия думающих машин. Достаточно сложное построение из компьютерных компонентов и, возможно, даже объединение с органическим материалом, как предлагали некоторые советские ученые, может привести к «качественным» отношениям.
5. См.: Наука и жизнь//Коммунист. 1954. № 5. С. 3-13.
6. См.: Кольман Э. Что такое кибернетика?//Вопросы философии. 1955. № 4. С. 148-159.
7. Кольман Э. Чувство меры//Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1964. С. 52-64. См. также: Кольман Э. Кибернетика ставит вопросы//Наука и жизнь. 1961. № 5. С. 43-45.
8. Соболев С.Л., Китов А.И., Ляпунов А.А. Основные черты кибернетики// Вопросы философии. 1955. № 4. С. 147.
9. См.: Кольман Э. О философских и социальных проблемах кибернетики// Философские вопросы кибернетики. М., 1961. С. 90-91; Колмогоров А. Автоматы и жизнь//Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1964. С. 10.
Что такое кибернетика?
Изначальный вопрос относительно универсальности применения кибернетики был одним из первых аспектов новой области знания, занимавшим советских марксистов. В дискуссии был представлен спектр представлений: от понимания кибернетики лишь как расплывчатого слова для обозначения процесса организации и до рассмотрения ее как новой науки, дающей ключ буквально к любой форме существования материи. У наиболее восторженных сторонников кибернетика становилась всеобъемлющей системой, включавшей даже человеческое общество. Зарубежные кибернетики, исследования которых основывались на математике и технике, такие, как Н. Винер и У. Р. Эшби, часто говорили о гомеостатических свойствах общества. Гомеостат — это вероятностный механизм, способный адаптироваться так, что он достигает равновесия и оказывается «целенаправленным»[1]. Винер верил, что управляющий механизм общества — это его правовая система и что общество постоянно корректирует свои законы на основе информации, получаемой при помощи обратной связи об уровне беспорядка в обществе[2]. Американские политологи, такие, как Карл Дойч, быстро выдвинули модели политического поведения, взятые из кибернетики[3]. Другие начали применять кибернетический подход к социологии, истории и социальному управлению[4]. Диапазон кибернетики принял такие размеры, что некоторые советские ученые стали рассматривать ее как возможного соперника марксизма, который продвигает вперед философию как естественных, так и общественных наук; появление этой новой дисциплины встревожило наиболее консервативных советских философов. По словам одного автора, «предметом изучения кибернетики является живая и неживая природа (и техника), общественные процессы и явления, относящиеся к сфере сознания... Не означает ли это, что кибернетика противостоит диалектике, пытается заменить ее в качестве нового мировоззрения? Если бы дело обстояло так... то вопрос стоял бы так: либо диалектика, либо кибернетика... Таким образом, попытки превратить кибернетику в некую всеобщую философскую науку совершенно беспочвенны. Марксизм отбрасывает их с порога»[5]. Но скоро стало ясно, что, вместо того чтобы делать выбор между кибернетикой и марксизмом, ряд советских авторов предпочел объединить их. Например, Л.А. Петрушенко определял производительный труд как серию процессов, совершаемых на основе обратной связи[6]. Два других автора определяли сменяющиеся этапы истории, согласно марксизму, как эпохи с прогрессирующим уменьшением энтропии[7]. В.Н. Колбановский критиковал такие расширения кибернетики, но даже он относился к марксистскому «отмиранию государства», когда общество начинает саморегулироваться, как к кибернетическому явлению[8]. Многие советские ученые, однако, постарались определить кибернетику таким образом, чтобы она даже не покушалась на статус марксизма как общего подхода к явлениям. Эти ученые, пытавшиеся определить кибернетику (Берг, Кольман, Новик, Шалютин, Колмогоров), подчеркивали, что она есть наука об управлении и связи в сложных системах, тогда как марксизм является наукой о наиболее общих законах природы, общества и мышления. Согласно этому подходу, марксизм является настолько более общей интеллектуальной системой, что между ним и кибернетикой не существует конфликта. Решение проблемы взаимоотношения кибернетики и марксизма путем расположения их на совершенно разных уровнях было достигнуто в 1961 и 1962 гг., когда появилось несколько важных исследований по кибернетике[9]. Однако «двухуровневое» решение не было принято всеми авторами. Некоторые авторы советских философских журналов продолжали утверждать, что кибернетический анализ мог быть применен практически ко всем явлениям и что «информация» — это неотъемлемое свойство материи. Эта попытка экспансии кибернетики подчас содержала критицизм (иногда открыто выражаемый) по отношению к естественнонаучным разработкам Ф. Энгельса; другие писали, что работы К. Маркса обнаруживают понимание «кибернетической организации материи», хотя этот термин, конечно, не был известен Марксу.
1. См.: Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959; Колбановский В.Н. О некоторых спорных вопросах кибернетики//Философские вопросы кибернетики. М., 1961. С. 257-258.
2. См.: Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 112-118.
3. Deutch K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control N.Y., 1963.
4. Общее критическое отношение в Советском Союзе к использованию кибернетики зарубежными социологами было выражено в работе: Араб-Оглы Э.А. Социология и кибернетика//Вопросы философии. 1958. № 5. С. 138-:151; иной, более специфический критицизм по отношению к кибернетической интерпретации истории был дан в работе: Аксенов И.Я. О втором международном конгрессе по кибернетике//Философские вопросы кибернетики. С. 367.
5. Шалютин С.М. О кибернетике и сфере ее применения//Философские вопросы кибернетики. С. 25-27.
6. См.: Петрушенко Л.А. Философское значение понятия «обратная связь» в кибернетике//Вестник Ленинградского университета: серия экономики, философии и права. 1960. Т. 17. С. 76-86.
7. См.: Ахлибинский Б.В., Храленко Н.И. Чудо нашего времени: кибернетика и проблемы развития. Л., 1963.
8. См.: Колбановский В.Н. О некоторых спорных вопросах кибернетики//Там же. С. 248.
9. См.: Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964; Философские вопросы кибернетики. М., 1961.
Могут ли быть воспроизведены жизненные процессы?
Многие из тех, кто начинал заниматься кибернетикой как в Советском Союзе, так и за рубежом, видели суть спора в двух вопросах: «Может ли машина мыслить?» и «Можно ли рассматривать кибернетические механизмы как живые?» Сводить все споры кибернетики к этим двум вопросам значило бы обеднить интеллектуальное содержание дискуссий, тем не менее эти вопросы серьезно обсуждались большинством кибернетиков и сыграли важную роль в советских дискуссиях на эту тему. Сам Винер был достаточно осторожным в этих вопросах, но даже он чувствовал, что в свете кибернетических исследований могут стать необходимыми некоторые новые определения «жизни». Он отметил, что живые организмы и неорганические кибернетические системы подобны, так как и те и другие являются островками уменьшающейся энтропии в мире, где беспорядок имеет тенденцию возрастать. Он заметил, что «проблема, является машина живой или нет, в данном случае представляет собой семантическую проблему, и мы вправе разрешить ее то так, то иначе, в зависимости от того, как нам будет удобнее»[1]. Вопрос о том, являются ли машины «живыми», конечно же не идентичен вопросу о том, могут ли они «мыслить», но ответы Винера были сходными; он отмечал, что вопрос о том, могут ли машины мыслить, зависит от определения этого понятия. Будучи более точно выраженной, проблема мышления машин обычно ставится так: «Выполняют ли компьютеры функции, лишь аналогичные мышлению, или эти функции структурно идентичны мышлению?» Формулируя этот вопрос таким образом, английский логик А.М. Тьюринг был готов признать возможность думающих машин. Он верил, что машину можно рассматривать как мыслящую, если человек, отделенный от нее непрозрачной перегородкой, будет задавать ей вопросы и не сможет по полученным ответам определить, имеет ли он дело с машиной или с другим человеком[2].
Некоторые из советских ученых, которые первыми поддержали кибернетику, такие, как Кольман и Берг, позже предупреждали против представления о мыслящих машинах; они признавали лишь некоторое сходство по аналогии между функциями машины и мышлением. Таким образом, отмечал Кольман: «Кибернетические машины, даже самые совершенные, моделирующие сложнейшие логические процессы, не думают, не образуют понятий»[3]. Берг выражался еще более недвусмысленно: «“Мыслят” ли электронные машины? Я уверен, что нет. Машины не мыслят и не будут мыслить»[4]. Эти взгляды поддержал Тодор Павлов, почетный президент Академии наук Болгарии, который писал: «И самая сложная машина-автомат не ассимилирует, не ощущает, не помнит, на мыслит, не фантазирует, не мечтает, не ищет и т. д.» [5].
Теоретическое объяснение невозможности наличия сознания у компьютеров было тем же, что и у «Материалиста» в 1953 г. Материя на разных уровнях развития имеет качественные различия; придавать интеллектуальную силу механической совокупности транзисторов и контактов значило бы совершать механистическую ошибку, указывали критики, уверовав в то, что весь комплекс действий может быть редуцирован к комбинациям простейших элементов, — подобные представления отрицались их интерпретацией диалектического материализма. Они утверждали, что сложные организмы качественно отличаются от менее сложных и не могут быть сведены к одним и тем же составляющим.
Как в случае с проблемой определения кибернетики, к 1961 г. оказалось, что значительное согласие удалось достигнуть в том случае, когда решительно отвергалась возможность мыслящих машин, после чего энтузиасты кибернетики вновь вернулись к своим наиболее эффективным положениям. В одной из статей 1964 г., предваряемой лозунгом «Всего лишь автомат? Нет, мыслящее существо!», академик Колмогоров отмечал, что «точное определение таких понятий, как воля, мышление, эмоции, еще не удалось сформулировать. Но на естественнонаучном уровне строгости такое определение возможно... Принципиальная возможность создания полноценных живых существ, построенных полностью на дискретных (цифровых) механизмах переработки информации и управления, не противоречит принципам материалистической диалектики»[6]. Такие статьи встревожили некоторых гуманитариев, один из которых, Б. Бялик, написал статью под названием «Товарищи, вы это серьезно?», в которой он отказывался поверить тому, что машина может испытывать эмоции, оценивать искусство или обладать настоящим сознанием. Академик С.Л. Соболев, директор Института математики и Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР, ответил Бялику статьей под названием «Да, это вполне серьезно!». Это, наверное, была самая благосклонная статья советского ответственного автора, появившаяся в прессе Советского Союза. Соболев прямо называл человека кибернетической машиной и признавал возможность создания человеком других машин, которые были бы живыми, способными на эмоции и, возможно, совершеннее человека[7].
Хотя вопрос о возможности кибернетических устройств воспроизводить живые организмы остался спорным в Советском Союзе, положительный ответ на него не получил большой поддержки со стороны философов. Диалектический материализм мог и не отрицать специально возможность мыслящих машин, но антропоцентрическая или гуманистическая природа исторического материализма была настоящим препятствием для таких мнений. Согласно некоторым советским авторам, главное различие между человеком и машиной не техническое, а социальное. Как отметил Кольман, «те, кто утверждает, что человек — машина и что кибернетические устройства мыслят, чувствуют, имеют волю и т. п., упускают из виду прежде всего одну «мелочь» — исторический подход. Машины — это продукт общественно-трудовой деятельности человека»[8]. Это мнение было еще сильнее выражено Н.П. Антоновым и А.Н. Кочергиным: «Необходимо подчеркнуть, что трудится человек, а не машина. Можно сказать, что машина работает, но нельзя говорить, что она трудится... Она не может стать субъектом трудовой деятельности, потому что у нее нет и не может быть необходимости в труде, нет социальных потребностей, для удовлетворения которых надо трудиться. Это главное и принципиальное различие между машиной и человеком»[9]. Вопросом более важным, чем способность машины воспроизводить функции человека, был вопрос о моральной ответственности человека за действия его машины. Западные кибернетики в целом больше, чем советские коллеги, были озабочены возможными последствиями использования компьютеров. Когда Норберт Винер посетил в 1960 г. редакцию главного советского философского журнала «Вопросы философии» (где ему был оказан очень теплый прием), он заметил:
«Если мы создадим машину... которая настолькр умна, что в какой-то мере превосходит человека, то мы не сможем сделать ее полностью «послушной». Контроль над такими машинами может оказаться очень несовершенным... Подобные машины могут даже стать опасными, так как было бы иллюзией полагать, будто опасность устраняется просто в силу того, что это мы нажимаем кнопки. Человек, конечно, может нажать кнопку и остановить машину. Но, поскольку мы полностью не владеем всеми процессами, происходящими в машине, мы легко можем оказаться в неведении относительно того, когда следует нажать кнопку.
Программирование «думающих» машин ставит перед нами, таким образом, моральную проблему...»[10].
Беспокойство Винера было по-разному выражено другими кибернетиками, которые говорили о возможности диктаторского управления обществом посредством использования кибернетических машин, в то время как другие относились к компьютерам как к демону, который поработит своего хозяина[11].
Эти пессимистические взгляды авторов из Западной Европы и Северной Америки в большинстве своем отвергались советскими исследователями. Как и философы, советские естествоиспытатели выражали, за редким исключением, оптимистические взгляды на науку. Если кто-нибудь из них, говоря словами Оппенгеймера, «познает грех» в результате своих исследований, они держат его при себе. Действительно, некоторые советские ученые говорили, что основная разница между человеком и машиной заключается в том, что человек ставит собственные цели, в то время как машина стремится лишь к тем, которые в нее закладываются. Если общество поощряет позитивные цели, говорили советские авторы, то и машинам этого общества будут задаваться достойные функции. Эти писатели предполагали, что кибернетики на Западе не уверены в капиталистическом обществе, а поэтому они не уверены в том, какие роли будут призваны играть их компьютеры.
1. Винер Н. Кибернетика и общество. С. 44.
2. Turing A.M. Computing Machnery and Intelligence//Mind. 1950. Oct. Vol. 56. P. 434.
3. Кольман Э. Кибернетика ставит вопросы//Наука и жизнь. 1961. № 5. С. 44.
4. Берг А.И. Наука величайших возможностей//Природа. 1962. № 7. С. 21.
5. Павлов Т. Автоматы, жизнь, сознание//Философские науки. 1963. № 1. С. 5З.
6. Колмогоров А. Автоматы и жизнь//Возможное и невозможное в кибернетике. М., 1964. С. 14, 22-23.
7. См.: Бялик Б. Товарищи, вы это серьезно?; Соболев С. Да, это вполне серьезно!//Возможное и невозможное в кибернетике.
8. Кольман Э. Чувство меры//Там же. С. 53.
9. Антонов Н.П., Кочергин А.Н. Природа мышления и проблема его моделирования//Вопросы философии. 1963. № 2. С. 42.
10. Норберт Винер в редакции нашего журнала//Вопросы философии. 1960. № 9. С. 164-165.
11. Эшби, как и Винер, однажды сказал, что компьютеры в конце концов могут стать настолько сложными, что ни их конструктор, ни оператор не будут понимать, почему они выполняют те операции, которые они выполняют. См.: Ashby W.R. Design for a Brain. Эти взгляды остро критиковались советским автором: Араб-Оглы Э.А. Социология и кибернетика//Вопросы философии. 1958. № 5. С. 138-151.
Что такое «информация»?
Кибернетические системы действуют на базе сбора, переработки и передачи информации. Развитие все более совершенных средств оценки измерения информации было одним из важных факторов, определяющих прогресс кибернетики. Однако, что интересно, никто не выдвинул достаточно удовлетворительного определения информации. Норберт Винер однажды заметил, возможно без особого намерения, что «информация — это не материя или энергия», это просто «информация»[1]. У.Р. Эшби также предостерегал против попыток рассматривать информацию как материальную или индивидуальную «вещь»: «Всякая попытка трактовать информацию как вещь, которая может содержаться в другой вещи, обычно ведет к трудным «проблемам», которые никогда не должны были бы возникать»[2].
Диалектический материализм утверждает, что объективная реальность состоит из материи и энергии в различных формах. Если информация не есть материя или энергия, тогда что же это? В начале 60-х годов внимание советских философов переместилось, пусть относительно, с более широких вопросов природы кибернетики и жизни к более узким проблемам природы информации. Они выдвигали несколько причин этого переноса внимания. Во-первых, более ограниченный вопрос о природе информации можно рассматривать более строго, чем вопрос «Могут ли машины мыслить?». Во-вторых, исследования проблемы информации есть ключ ко многим более общим вопросам, поставленным ранее.
Проблема философской интерпретации понятия информации была подлинной и трудной. Если информацию можно измерять, считали некоторые советские ученые, тогда она должна обладать объективной реальностью. Еще в 1927 г. Р. В. Л. Хартли отмечал, что количество информации, заключенной в любом сообщении, тесно связано с количеством возможностей, сообщением исключающихся. Таким образом, фраза «яблоки красные» несет намного больше информации, чем фразы «фрукты красные» или «яблоки цветные», так как первая фраза исключает все фрукты, кроме яблок, и все цвета, кроме красного. Это исключение других возможностей повышает информационное содержание[3]. Позднее основной принцип, предложенный Хартли, был улучшен и разработан на математической основе. В 1949 г, в фундаментально важном труде «Математическая теория связи» Клод Шеннон и Уоррен Уивер представили формулу вычисления количества информации, в которой информация возрастала с уменьшением вероятности отдельного сообщения. В этом методе информация определяется как мера свободы чьего-либо (или какой-либо системы) выбора в выделении сообщения. Таким образом, в ситуации, когда количество возможных сообщений, из которых можно выбирать, большое, количество информации, производимое этой системой, тоже большое, Если быть более точными, количество информации определяется (в простых ситуациях) как логарифм доступных выборов. Формула Шеннона и Уивера 1949 г. имела следующий вид:

где Н — количество информации в системе с выбором сообщений, с вероятностями (Р1, Р2... Рn), К — константа, зависимая от единицы измерения[4]. Эта формула функционально эквивалентна формуле, разработанной М. Планком для термодинамической энтропии в начале века; S = k • log W, где S равно энтропии системы, W — термодинамической вероятности состояния системы, k — константа Больцмана[5].
Некоторые ученые считали возможные применения этого совпадения огромными. Возможность какой-либо аналогии или даже структурного совпадения энтропии и информации вызвало оживленные обсуждения среди физиков, философов и инженеров многих стран. Уивер комментировал: «Встречая понятие энтропии в теории связи, человек имеет право волноваться, подозревая, что он обладает чем-то основополагающим и важным». Луи де Бройль считал вывод о глубокой аналогии между энтропией и информацией «самой важной и привлекательной из идей, выдвинутых кибернетикой»[6].
Если будет доказано, что связь между негоэнтропией и информацией — это больше, чем функциональное сходство или, более того, идентичность, то конструкция общей теории материи, согласно которой все сложные системы — неорганические и органические, включая человека, — могут быть математически описаны, становится, по меньшей мере, возможной. Диалектические материалисты начали более смело приветствовать такую возможность, так как она казалась им оправданием материалистического монизма. Попытка четко изложить три основных закона диалектики в терминах кибернетики была предпринята автором неопубликованной докторской диссертации в Московском университете[7]. Более ортодоксальное большинство, однако, было обеспокоено трудностями подгонки такой честолюбивой теории к принципам диалектического материализма.
Дополнительная проблема интерпретации теорий информации в терминах диалектического материализма была связана с предполагаемой «субъективной» природой количества информации. Сторонники субъективного подхода (Эшби и Л. Бриллюэн в том числе) указывали на то, что едва ли можно твердо говорить в абсолютных терминах о количестве информации в любом сообщении, так как отдельное сообщение будет нести намного больше информации для одного наблюдателя, чем для другого, в зависимости от исходного знания наблюдателя. Следуя этому подходу, некоторые западные авторы призывали присоединять качественные коэффициенты к вычислениям количества информации, основываясь на ценности информации, степени достоверности и значимости. Но если информация (разнообразие) должна количественно измеряться, настаивали советские философы, то она должна быть частью объективной реальности и не должна обусловливаться субъективными соображениями. Соответствующим было замечание А.Д. Урсула по этому поводу: «Прежде всего отметим, что для конечного объекта (системы) количество разнообразия, внутренне ему присущее, не зависит от наблюдателя и всегда ограничено...»[8]
Не только в Советском Союзе ученые были осторожными в отношении теории информации: любому энтузиасту, который пытался бы отождествить информацию и негоэнтропию, другой трезвомыслящий коллега адресовал бы предостерегающее замечание. Эшби, например, заметил: «Движение в этих областях напоминает движение в джунглях, полных ловушек. Наиболее знакомые с этим предметом обычно наиболее осторожны в разговорах о нем»[9]. И однако, несмотря на предупреждения, основным движением среди кибернетиков начала 60-х годов было более широкое признание концепции о наличии некоторой существенной связи между энтропией и информацией.
И.Б. Новик был одним из самых активных советских философов, пытавшихся определить информацию в терминах диалектического материализма. В своей книге «Кибернетика: философские и социологические проблемы» Новик попытался представить систематическое рассмотрение кибернетики с точки зрения просвещенного марксизма[10]. С самого начала он поставил себя в один ряд с самыми яростными приверженцами кибернетики, он настаивал, что не существует противоречия между новой дисциплиной и диалектическим материализмом. Винер был для него стихийным диалектиком. Новик объяснял, что кибернетическая информация есть свойство материи, свойство, прямо связанное с ленинской версией теории познания. В работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин писал, что материализм основан на признании «объектов в себе» и что объекты существуют «независимо от сознания». Согласно Ленину, понятия и ощущения есть отражения этих объектов; вся материя обладает этим свойством «отражения». Далее Новик утверждал, что «количество информации» есть мера порядка отражения материи. Новик призывал к созданию науки «физики отражения» и для ускорения развития этой новой дисциплины предложил закон сохранения информации основываясь на законе сохранения энергии, так как информация «неотделимо связана» с материей[11].
Другие авторы, следуя примеру философов, которые в 1961 и 1962 гг. попытались разделить область применения кибернетики и область диалектического материализма, отрицали, что понятие информации может быть связано с энтропией или с состояниями материи вне узко определенных систем управления. Так, Н.И. Жуков замечал: «Некоторые авторы считают, что информационные явления присущи всем процессам неорганической природы... Такая неоднозначность понимания этой категории создает известные трудности в развитии теории информации, кибернетики... Информация, на наш взгляд, может быть более точно определена как упорядоченное изменение, используемое в целях управления»[12].
Тем не менее воодушевленные сторонники кибернетики продолжали утверждать, что информация является всеобщим свойством материи и что эволюция материи от простейшего атома к наиболее сложной материальной форме — человеку может рассматриваться как процесс накопления информации. Таким образом, эти авторы связали воедино космогоническую, геологическую и органическую эволюцию в один процесс устремления материи, хотя бы в определенных положениях, к увеличению своего информационного содержания. Результатом было что-то вроде великой цепи бытия, лестницы в природе возрастающей сложности, хотя эволюционной вместо статической[13].
В 1968 г. советский математик А.Д. Урсул опубликовал интересную книгу под названием «Природа информации», в которой он очень настойчиво проводил мысль о том, что информация является всеобщим свойством материи, от простейших неорганических форм до человеческого общества[14]. Урсул тесно связал эту концепцию единства природы с диалектическим материализмом, доказывая, что диалектические законы помогают понять информационные процессы[15]. Но он также полагал, что теория информации добавила новое содержание диалектическому материализму; он допускал возможность некоторых изменений марксистской философии в результате вклада, сделанного теорией информации в человеческое познание. В частности, он полагал, что существовали достаточные основания для перевода понятия информации из научно-технической области в область общих философских категорий, добавив его к существующему списку категорий марксистской диалектики (с. 285). Но он также понимал, что философия еще недостаточно времени изучает понятие информации и могло быть преждевременным призывать к общему признанию этого понятия в качестве категории марксизма.
Урсул верил, что те авторы, которые отказываются признать применение теории информации к неорганическим системам, исходя из того, что эти неорганические системы не «используют» информацию, игнорируют необычайно плодотворный подход к природе. Информация может быть «использованной» или «неиспользованной» в функциональном смысле, но, согласно Урсулу, она все равно существует. Более того, информационный подход к молекулам даже может помочь нам понять разницу между неорганическим и органическим мирами: если информационное содержание объекта составляет несколько десятков битов на молекулярном уровне, тогда это, возможно, объект неорганической природы. Если объект содержит 1015 битов на этом уровне, тогда мы имеем дело с живым объектом (с. 153).
Урсул понимал, однако, что такой анализ несет с собой опасность редукционизма — устранения качественных характеристик на разных уровнях материи. Тем не менее он верил, что информация не может быть исчерпывающе объяснена одним методом, таким, как математическая вероятность, но, вместо того, должна рассматриваться с позиций, включающих качественные характеристики, таких, как топология (с. 35)[16]. Он также убеждал в необходимости дополнения теории информации пониманием диалектических уровней природы. Информация не одинакова, она обладает качественными характеристиками, и два разных типа информации не могут сравниваться. Согласно Урсулу, каждый уровень природы обладает «собственной» информацией (с. 150). Пренебрежение этой спецификой вылилось в неосторожные расширения учеными и философами смысла физических понятий, таких, как энтропия, на другие области. Вместо этого Урсул высказывался в пользу «классификации» информации (негоэнтропии) по различным типам, каждый со своей областью применения. Советский автор В.А. Полушкин уже делал такую попытку, дифференцируя информацию на «элементарный», «биологический» и «логический» типы. В этой схеме элементарная информация понималась как информация в неживой природе. Урсул считал попытку Полушкина правильной по направлению, но полагал, что еще много необходимо доделать; для него «человеческая» или «социальная» информация была еще одним типом, и в рамках человеческой информации он выделял еще, по крайней мере, два аспекта: семантический (содержание) и прагматический (ценность) (с. 47-48).
Урсул полагал, что переход из одной области информации в другую есть, в эволюционных терминах, качественный скачок. Он указывал на возможность комбинации этого подхода с элементами биологической философии канадского ученого Людвига фон Берталанфи.
1. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в живом и машине. М., 1968.
2. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 216.
3. Идеи Хартли были представлены на Международном конгрессе по телеграфной и телефонной связи в Лейк Комо в сентябре 1927 г. См.: Hartley R. V. L. Transmissions of Information//The Bell System Technical Journal. 1928. № 2. P. 535-563.
4. Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949. P. 19, 105.
5. Планк дал свою формулировку этой связи в работе: Plank M. Scientific Autobiography and Other Papers. N. Y., 1949. P. 40-42.
6. Broglie L. de La Cybernetique//La Nouvelle Revue Francaise. 1953. July. P. 85.
7. См.: Новинский И.И. Понятие связи в диалектическом материализме и вопросы биологии, Диссертация. МГУ, 1963. С. 324-326. Новик, Бирюков и Тюхтин также пытались применить кибернетическую терминологию к законам диалектики. Новик И. Б. Кибернетика и развитие современного научного познания//Природа. 1963. № 10. С. 3-11; Бирюков Б.В., Тюхтин В.С. О философской проблематике кибернетики//Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964. С. 76-108.
8. Урсул А.Д. О природе информации//Вопросы философии. 1965. № 3. С. 134.
9. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 254.
10. См.: Новик И.Б. Кибернетика: философские и социологические проблемы. М., 1963.
11. См. там же. С. 58.
12. Жуков Н.И. Информация в свете ленинской теории отражения//Вопросы философии. 1963. № 11. С. 156-157
13. См.: Седов Е.А. К вопросу о соотношении энтропии информационных процессов и физической энтропии//Вопросы философии. 1965. № 1. С. 135-145; также: Урсул А.Д. Природа информацни: философский очерк. М., 1968; Грязнов Б.С. Кибернетика в свете философии//Вопросы философии. 1965. № 3. С. 161-165; Мусабаева Н. Кибернетика и категория причинности. АлмаАта, 1965.
14. Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. Последующие указания на определенные страницы в тексте относятся к этой работе.
15. Он в свою очередь применил законы единства й борьбы противоположностей, перехода количества в качество и отрицания отрицания к понятиям теории информации. См. там же. С. 147-156.
16. Урсул отдавал должное работам американских ученых, таких, как Н. Рашевский и Г. Кэрриман, находя в них топологические подходы к информации.
Возрастание советского скептицизма в отношении кибернетики
В конце 70 — начале 80-х годов советские естествоиспытатели и философы становятся намного более осторожными, чем многие из них были несколько лет назад, в высказываниях о возможностях компьютеров. Один из тех, кто раньше был энтузиастом, Б.В. Бирюков, писал в 1979 г.: «Еще лет десять тому назад я обычно делал ударение на принципиальной возможности кибернетического моделирования любого добротно описанного процесса переработки информации. Сейчас у меня взгляды на этот счет изменились... Дело в том, что за последнее десятилетие очень четко выступили ограничения, которые связаны со сложностью»[1].
Редакция журнала «Вопросы философии» отметила, что «ушло в прошлое то время, когда некоторые философы и кибернетики говорили о возможности и даже необходимости полной формализации и автоматизации человеческой деятельности...»[2] Оправившись от большей части своего прошлого опьянения кибернетикой, редакция объявляла теперь: «Кибернетический подход — это в известном смысле «односторонний» подход, рассматривающий и моделирующий объект изучения только с информационной точки зрения»[3].
Более осторожные взгляды на кибернетику сопровождались отдалением ее от марксизма. Советские авторы больше не говорили, как в 60-е годы, об интерпретации законов марксистской диалектики в терминах кибернетики[4]. Даже математик А.Д. Урсул, который в свое время был одним из горячих сторонников универсальности кибернетики, написал в 1981 г., что кибернетика «не может быть универсальной базой для достижения единства научного знания и тем более не может заменить собой философию.
Марксистско-ленинская философия изучает всеобщие законы движения и развития бытия и мышления и их отношения, тогда как кибернетика исследует лишь коммуникативные и управленчёские процессы в биологической и социальной сферах»[5].
Редакция журнала «Вопросы философии» объяснила предшествующее упоение кибернетикой, которое имело место в Советском Союзе. Оно исходило, по словам редакции, из того факта, что в прошлом (во времена Сталина и сразу после его смерти) имел место критицизм по отношению к кибернетике с идеологических позиций. Как реакцию на догматизм сталинских лет многие советские ученые горячо поддержали подавляемые ранее дисциплины, такие, как кибернетика и генетика, и в ряде случаев придавали им необоснованное значение. Когда такие выдающиеся ученые, как академики Колмогоров и Соболев, заявляли, что могут создать мыслящие существа на базе своих компьютеров, то философы неохотно критиковали подобные заявления, опасаясь, что их будут рассматривать как марксистских догматиков, мешающих науке, испытывающей затруднения. Но теперь марксисты вновь обрели свой критический голос[6].
В будущем, писал Бирюков, философы и естествоиспытатели, обсуждая возможности воспроизведения человеческой деятельности кибернетикой, должны «избегать той абсолютизации биологического начала в человеке, которая отвергается диалектико-материалистической философией... Мы должны учитывать, что потребности человека — это продукт не только биологического развития; их специфика по сравнению с животным миром — в истории общества... облик человеческих потребностей, мотивов и целей формируется в человеческих коллективах»[7].
Даже те, кто остались энтузиастами кибернетики, вынуждены были формулировать свои высказывания скромнее. Академик Глушков, директор Института кибернетики АН УССР, писал, что признает ошибочность своего раннего мнения, будто «думающие» машины могут полностью дублировать человеческую деятельность; однако он все еще видел почти безграничные возможности для компьютеров, если использовать их в сочетании с людьми, дополняя широкие возможности компьютеров человеческой интуицией и разумностью[8]. И Г.Н. Поваров призывал к продолжению усилий по созданию с помощью компьютеров форм искусственного интеллекта; независимо от результата этих усилий, утверждал он, будут совершены важные научные достижения. Если искусственный интеллект будет создан, это, естественно, будет великим научным событием; но, отмечал Поваров, часто не понимают того, что, если будет доказана принципиальная невозможность создания искусственного интеллекта, это будет тоже иметь значительную важность, сходную с важностью открытия невозможности вечного двигателя[9].
1. Бирюков Б.В. О возможностях «искусственного интеллекта»//Вопросы философии. 1979. № 3. С. 89.
2. Социально-философские проблемы «человеко-машинных» систем//Вопросы философии. 1979. № 2. С. 51.
3. Там же. С. 51-52.
4. См.: Новинский И.И. Понятие связи в диалектическом материализме и вопросы биологии. Диссертация. МГУ, 1963; Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. М., 1968.
5. Урсул А.Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981. С. 211.
6. См.: Социально-философские проблемы «человеко-машинных» систем// Вопросы философии. 1979. № 2. С. 52. Для примеров крайних высказываний Колмогорова и Соболева см: Колмогоров А. Автоматы и жизнь; Соболев С. Да, это вполне серьезно! В книге Л.Б. Баженова и И.Б. Гутчина «Интеллект и машина» (М., 1973) авторы предостерегали философов против отрицания на основе диалектического материализма возможности мыслящих машин.
7. Бирюков Б.В. О возможностях «искусственного интеллекта». С. 91.
8. См.: Глушков В.М. Математизация научного знания и теория решений// Философия, естествознание, современность. М., 1981, особенно с. 115-116.
9. См.: Поваров Г.Н. Границы искусственного интеллекта установит опыт// Вопросы философии. 1979. № 3. С 85.
Новые дискуссии о природе «информации»
Вопрос о природе «информации» остался одним из наиболее спорных философских вопросов кибернетики в Советском Союзе в 80-е годы. Свыше двух десятилетий этот вопрос обсуждался советскими естествоиспытателями и философами, но дебатам не было видно конца. Этот же вопрос привлекал внимание западных ученых и философов, но для советских теоретиков природа информации имеет особое значение, ибо они связывают ее с тем, что они называют «основным вопросом философии», а именно: с взаимосвязью материи и познания. Исходя из этого существенного вопроса, они уверены, что позиции материализма нуждаются в постоянной защите от нападок идеалистических западных философов. Академик В.М. Глушков в своей публикации 1981 г. обвинил западных философов, которые развивают «новые виды антиматериалистических интерпретаций достижений мировой науки — «кибернетический идеализм», «системный идеализм», «информационный идеализм» и т. д.»[1]. Ошибка этих философов состоит, по Глушкову, в том, что они рассматривают информацию как абстракцию, вне всякой связи с опытом, реальностью или материей. Как раньше долго существовала идеалистическая математическая школа, продолжал он, так теперь существует идеалистическая школа кибернетики.
Главная задача советских ученых, таким образом, состояла в том, чтобы дать удовлетворительную материалистическую интерпретацию информации. Почти все они были уверены, что путь к такой интерпретации начинается с ленинской теории «отражения».
Существовала, однако, главная проблема относительно вопроса: рассматривать ли информацию как объективный атрибут самой материи? Можно ли расположить все формы материи по шкале возрастающей информационной сложности, ведущей соответственно к человеку и его мозгу? Ленинские цитаты имели широкий смысл. С одной стороны, он говорил, что логично предположить, что вся материя обладает отражением, с другой стороны, он не говорил об информации. Как тесно следует связывать понятие информации с ленинским свойством отражения? Если сделать идентичными информацию и отражение, тогда следует заключить, что вся материя, включая неорганическую, содержит информацию как атрибут. Но некоторые советские ученые видели, что этот путь опасно близко подводит к антропоморфическим, телеологическим и даже гилозоистским концепциям.
Разногласия между советскими философами дополнялись тем, что между ними не было единства во взглядах на отражение, не говоря уже об информации. Некоторые полагали, что отражение объективно существует даже в неорганической материи, так как изменение в одном теле «отражается» в другом многими различными способами, хотя бы только в самом рудиментарном гравитационном или электромагнитном виде; другие верили, что отражение в неорганических телах должно рассматриваться лишь как «потенциальное», а не реальное, объективное явление. Для последних «влияние» было не тем же, что отражение, так как отражение намного ближе к ощущению[2].
Разные позиции по отношению к природе информации были связаны с различиями по отношению к отражению. Естественно, тот, кто отождествлял информацию с отражением и был уверен, что отражение характерно для всей материи, логически приходил к выводу, что и информация — свойство всей материи, включая неживую. Некоторые ведущие советские философы попытались, однако, избежать этого заключения, разделяя информацию и отражение. Б.С. Украинцев, который в конце 70 — начале 80-х годов был директором Института философии, прямо утверждал, что информация возникает лишь в высокоорганизованной материи и связана с процессом управления. Он писал, что «без процессов управления... не может быть информации» [3]. Поэтому неорганическая материя не обладает информацией.
Эта позиция (информация не является универсальным свойством материи) получила большую поддержку среди ведущих советских философов, особенно имеющих идеологическую ответственность, чем среди специалистов по теории информации. П.В. Копнин, занимавший пост директора Института философии до Украинцева, также отрицал, что информация присуща всей материи, и так же поступали некоторые другие философы[4].
Иные взгляды выдвигались довольно заметной группой ученых, большинство которых составляли специалисты по теории информации и философии. Эта группа непосредственно опиралась на математический подход к информации. В отличие от ведущих профессиональных философов, они не были озабочены тем, какой эффект на марксистскую философию может оказать создание универсальной теории информации, потенциально применимой ко всем аспектам Вселенной и ко всем уровням материи; включая «социально организованную материю», то есть само общество. В число ведущих выразителей этих взглядов входили академики А.И. Берг и В.М. Глушков, наверное наиболее известные советские специалисты по кибернетике[5].
К началу 80-х годов стало ясно, что верх одерживают взгляды ведущих профессиональных философов: информация должна приписываться лишь процессам управления, а не всей материи. Большинство статей, выражающих противоположные, более честолюбивые взгляды, были написаны в ранний период опьянения кибернетикой. В то время ведущие специалисты по теории информации делали невообразимо широкие заявления о значении их новой дисциплины. По прошествии лет, однако, более трезвые взгляды начали преобладать по двум причинам: специалисты по кибернетике во всем мире уменьшили свои амбиции, поняв, что ранние заявления о возможности отождествления информации и негоэнтропии принесли мало результатов вне области процессов управления, а в Советском Союзе философы и идеологи желали устранить вызов кибернетики марксизму как универсальной системе объяснения.
1. Глушков В.М., Урсул А.Д. Математизация научного знания//Философия и мировоззренческие проблемы современной науки. М., 1981. С. 176, 216.
2. Среди советских авторов, веривших, что отражение есть объективное свойство всей материи, были Б.С. Украинцев, Н.И. Жуков, А.М. Коршунов и В.В. Мантатов. Среди же тех, кто полагал, что отражение существует в неживой материи лишь "потенциально", был В.С. Тюхтин. См.: Семенюк Е.П., Тюхтин В.С., Урсул А.Д. Философские аспекты проблемы информации//Философские вопросы естествознания. М., 1976. Ч. 2; Украинцев Б. Отображение в неживой природе. М., 1969; Жуков Н.И. Информация. Минск, 1971; Коршунов А.М., Мантатов В.В. Теория отражения и эвристическая роль знаков. М., 1974; Тюхтин В.С. О природе образа. М., 1963; Тюхтин В.С. Отражение и информация// Вопросы философии. 1967. № 3; Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика: теория отражения в свете кибернетики и системного подхода. М., 1972.
3. Украинцев Б.С. Информация и отражение//Вопросы философии. 1963. № 2. С. 36.
4. См.: Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966. С. 116. На сходных позициях стояли: Вдовиченко Г.Г. Ленинская теория отражения и информация. Киев, 1967; Жуков Н.И. Философский анализ понятия "информация"//Вопросы философии. 1974. № 12. С. 90-96.
5. См.: Берг А.И., Черняк Ю.И. Информация и управление. М., 1966; Глушков В.М. Мышление и кибернетика//Вопросы философии. 1963. № 1; Он же. Гносеологическая природа информационного моделирования//Вопросы философии. 1963. № 10; Амосов Н.М. Моделирование информации и программ в сложных системах//Вопросы философии. 1963. № 12; Он же. Мышление и информация// Проблемы мышления в современной науке. М., 1964; Жуков Вережников Н.Н. Теория генетической информации. М., 1966; Сифоров В.И. Наука об информации// Вестник АН СССР. 1974. № 3. С. 12-20; Он же. Методологические вопросы науки об информации//Вопросы философии. 1974. № 7. С. 105-113; Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973; Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки. М., 1974; Гущин Д. А. К вопросу о природе информации//Вопросы философии и психологии. 1965. № 1. С. 84-93; Он же. Категория информации и некоторые проблемы развития//Вестник ЛГУ. 1967. № 4. С. 55-63; Он же. Информация и взаимодействие//Проблемы диалектики, 1972. № 1. С. 114-124; Морозов К.Е. Философские проблемы теории информации//Философия естествознания. М., 1966. С. 383-404; Новик И.Б. Негоэнтропия и количество информации//Вопросы философии. 1962. № 6. С. 118- 128; Он же. Кибернетика: философские и социологические проблемы. М., 1963; Он же. Философские вопросы моделирования психики. М., 1969; Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. М., 1968; Он же. Информация: методологические аспекты. М., 1971; Он же. Отражение и информация. М., 1973; Он же. Проблема информации в современной науке. М., 1975.
«Социальная информация»
«Социальная информация» — это новейший и, возможно, самый спорный вопрос дискуссии по кибернетике в Советском Союзе. Хотя никто еще не дал четкого определения самой социальной информации, обычно под этим подразумевают информацию, используемую обществом для его управления и просвещения. Некоторые советские авторы сейчас считают эту тему наиболее актуальной темой исследований философов и политических идеологов, интересующихся кибернетикой[1]. Так же как и в Соединенных Штатах, где многие социологи и политологи начинают говорить об «информационном обществе», в Советском Союзе философы и политические исследователи анализируют воздействие быстро распространяющихся новых средств связи на общество. Каким образом распространение компьютерных систем, банков данных, телекоммуникационных сетей и персональных компьютеров затронет Советский Союз? Вопрос далеко не случайный, так как контроль информации - один из фундаментальных принципов советского общества.
Мы уже видели (с. 267), что одной из причин изначального интереса советских лидеров к кибернетике были ее возможности по управлению усложняющейся советской экономикой. Компьютерные системы также имели определенные военные и разведывательные возможности, что могло увеличить власть руководства.
Со временем, однако, стало ясно, что компьютеризация общества усиливает как центральные и официальные, так и местные и неофициальные тенденции. Некоторые советские философы отмечали, что в биологическом мире сложные организмы не являются высокоцентрализованными, и соответственно задумывались о возможной применимости этого урока для общества; в работе «Синтез знания и проблема управления» группа философов из Института философии отмечала, «что для более дальней оптимизации управления; как показали достижения эволюции, целесообразно сохранять и даже всемерно развивать относительную самостоятельность информационных процессов, происходящих в объектах управления. Это означает, в частности, увеличение количества и разнообразия «степеней свободы» управляемого объекта, числа доступных ему путей или вариантов реакций»[2]. Выводы для советского общества казались ясными.
Децентрализация, вызванная кибернетикой, ускорялась в 80-х годах, по мере того как внимание все больше и больше перемещалось с больших ЭВМ к микро- и персональным компьютерам. В Западной Европе и Соединенных Штатах микрокомпьютеры быстро стали предметами личной собственности, используемыми деловыми людьми и учеными дома и на работе. В этом развитии появилась зловещая, с точки зрения советского руководства, возможность. Каждый персональный компьютер с принтером — это потенциальный печатный станок, способный воспроизводить самиздатовские документы в неограниченном количестве. Но в Советском Союзе личная собственность на множительную аппаратуру запрещена законом. Как Советский Союз будет контролировать быстрое распространение компьютеров? Будут ли разрешены компьютерные сети и «доска объявлений» в том виде, в котором они распространяются на Западе?
Марксистские философы стали готовить пути установления приоритетов и принципов, управляющих распространением компьютерной информации в Советском Союзе, которые были отличными от западных. Некоторые из них писали, что «советские исследователи разоблачают фальшь модной в буржуазной социологии концепции »объективных средств информации«, так называемой »чисто информационной прессы«, которой противопоставляется марксистская концепция средств массовой информации, функция которых состоит в формировании общественного мнения»[3].
Такие советские идеологи, как В.Г. Афанасьев, стали разделять «информацию» на социально «изменчивую» и социально «инвариантную». Инвариантная информация считается безвредной для советской системы, будучи одной и той же во всех обществах. Вариантная информация, которую они окрестили «идеальная социальная информация», несет глубокие следы классовых, национальных и других отношений, отражает нужды, интересы и психологические черты социальных коллективов. На основе этого они призывали к классовому, партийному подходу к социальной информации (ее сбору, анализу, обработке и использованию) в классовом обществе[4].
Со спадом разрядки в конце 70-х годов советские специалисты по управлению и теории информации начали все больше утверждать, что информация, используемая в компьютерах, не является политически нейтральной. Кооперация с западными управленцами и специалистами по компьютерам стала чреватой идеологическими трудностями. Д.М. Гвишиани, зять бывшего Председателя Совета Министров Алексея Косыгина и один из наиболее активных сторонников сотрудничества с западными учеными в рамках Международного института прикладных системных исследований (ИСА), расположенного недалеко от Вены, заметил, что идеология затрудняет работу. Один из проектов, выдвинутых в ИСА, назывался «глобальное моделирование» и был попыткой предсказать будущие экологические и энергетические проблемы мира с помощью компьютерных прогнозов. Гвишиани писал, касаясь таких попыток: «Однако становится все более очевидным, что результаты глобального моделирования определяются не формальными методами как таковыми, а содержательными теоретическими и в первую очередь философско-социологическими предпосылками»[5].
Между 60-ми и 80-ми годами мы могли видеть существенное различие во взглядах советских философов и идеологов на информацию. В ранний период, во время бурного расцвета кибернетики, информация рассматривалась как нейтральная сущность, возможно, применимая ко всей природе, даже к неживой материи. К 80-м годам информация была связана с процессами управления в живой природе, сложными компьютерными системами и человеческим обществом. Более того, информация теперь подразделялась на различные типы, некоторые из которых были политически нёйтральными, а другие — политически очень опасными. Следствия этого для советского общества казались ясными. Персональные компьютеры и банки данных будут тщательно контролироваться в Советском Союзе, так же как уже контролируются все остальные средства информации.
Несмотря на всю убедительность кибернетики при первом рассмотрении, это очень незавершенная наука[6]. Кибернетика, похоже, распадается на менее драматичные подобласти теории информации и компьютерной технологии. По словам французского специалиста по кибернетике, «как прилагательное «кибернетический» угрожает, так же как и «атомный» и «электронный», трансформироваться лишь в еще один ярлык для эффектности»[7]. Многие ученые находили неудобным такое использование этого термина. Более того, сейчас ясно, что настоящие недостатки имели место в работах некоторых основателей кибернетики, которые в порыве энтузиазма часто путали некоторые технические термины, такие, как «количество информации» и «ценность информации»[8]. И наконец, кибернетика развивается на основе рассуждения по аналогии, которое само по себе ведет не к логическим или научным доказательствам, но, вместо этого, к заключениям, которые могли быть, а могли и не быть значительными и плодотворными.
Преимущество такого рассуждения зависит от сходств, которые можно обнаружить, сравнивая две реальности. Вскоре после развития методологии кибернетики сравнение человеческого тела как системы управления с экономической системой, городским управлением или автопилотом, казалось, выливается в идентификацию действительно шокирующих подобий. Чем дольше размышляешь над такими аналогиями, тем яснее выделяются действительно настоящие различия, существующие между сравниваемыми реальностями.
Были такие кибернетики, например, как Стаффорд Бир, который утверждал, что кибернетика уходит далеко за пределы аналогии. Они спорят о том, что если кто-либо выявляет при помощи абстракции структуру управления двух несходных организмов, то взаимоотношение между этими структурами может быть скорее связью тождественности, чем аналогии[9]. Управленческая структура сложной промышленности может быть идентична соответствующей структуре в живом организме, подобно тому как геометрическая форма яблока и апельсина могут быть идентичны кругам. Этот подход может быть верным на абстрактном уровне, но он не претворился в такое большое количество открытий плодотворных сходств и направлений исследований, не считая изначально определенных, на которое надеялись ранние сторонники кибернетики.
Отсутствие в кибернетике ярких теоретических прорывов уменьшило убедительность ее интеллектуальной схемы как объяснения всех динамических процессов. В Соединенных Штатах, где очень широко применяются компьютеры и где их социологические и экономические последствия все еще остро обсуждаются, ясно виден спад интереса к кибернетике как концептуальному построению. Посткибернетическая эпоха включает не отречение от кибернетики, а лишь более трезвую оценку ее возможностей. Изначальное рвение могло быть возобновлено будущими разработками в теории, но никто, естественно, не мог предсказать таких событий.
Парадоксально то, что спад интереса во всем мире к кибернетике как концептуальной схеме пришелся как раз на то время, когда компьютеры стали крайне необходимыми для деловой, промышленной и военной деятельности. Советский Союз отстал в поисках новых применений для компьютеров, но в 80-х годах были предприняты энергичные усилия, чтобы наверстать упущенное. В 1985 г. ЦК КПСС принял решение, требующее самым энергичным образом внедрять компьютеры в промышленность и образование. Тем временем партийные идеологи призывали к компьютерному «ликбезу», сравнимому по эффективности с кампанией по ликвидации неграмотности в 20-30-х годах[10]. Этот новый акцент на компьютерах неизбежно приведет к дальнейшим дискуссиям о философских и политических следствиях «социальной информации».
1. Семенюк Е.П., Тюхтин В.С., Урсул А.Д. Социальная информация// Философские вопросы естествознания. М., 1976. Ч. 2 С. 266-270. Другие работы по кибернетике и управлению общества, где социальная информация играет важную роль, см.: Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в свете кибернетики. М., 1971; Сетров М.И. Организация биосистем: методологические принципы живых систем. Л., 1971; Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. М., 1972; Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван, 1973; Абрамова Н.Т. Целостность и управление. М., 1974; Афапасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975; Он же. Человек в управлении обществом. М., 1977; Лебедев П.Н. Очерки теории социального управления. Л., 1976; Кремянский В.И. Некоторые вопросы развития управления//Синтез знания и проблема управления. М., 1978.
2. Синтез знания и проблема управления. М., 1978. С. 178.
3. Семенюк Е.П., Тюхтин В.С., Урсул А.Д. Философские аспекты проблемы информации//Философские вопросы естествознания. М., 1976. Ч. 2. С. 268-269.
4. Там же и работы В.Г. Афанасьева: Об интенсификации развития социалистического общества. М., 1969; Научно-техническая революция, управление, образование. М., 1972; Научное управление обществом. М., 1973.
5. Гвишиани Д.М. Методологические проблемы моделирования глобального развития//Вопросы философии. 1978. № 2. С. 22.
6. Краткое обсуждение некоторых из более явных недостающих аспектов дано в работе: Tomovic R. Limitations of Cybernetics? 1959. № 2(3). P. 195-198.
7. Guilbaud G.T. What is Cybernetics? N.Y., 1960.
8. Интересное обсуждение перехода этой путаницы из отдельных европейских и американских текстов в советские работы приведено в: Bakker D.P. The Philisophical Debate in the USSR on the Nature of «Information». Columbia University, 1966.
9. Beer S. The Irrelevance of Automation//Cybernetica. 1958. №1 (4). P. 288.
10. Советские газеты и журналы в изобилии публиковали в 1985 г. материалы о кампании ликвидации компьютерной неграмотности. См. напр.: Фролов И.Т. К компьютеру, педагоги//Правда. 1985. 27 августа. С. 3.
Глава IX. Химия
Природа межатомных связей имеет фундаментальное значение для химии, так как эта наука в большой степени является изучением изменения таких связей. Однако неадекватность диаграмм связей при описании важных химических соединений была известна с самого начального этапа структурной химии. Последующие диаграммные системы были отвергнуты по причине их несостоятельности в объяснении определенных явлений. Древний спор идеализма и материализма был внесен в обсуждение, когда некоторые химики начали использовать модели, казавшиеся другим химикам физически непонятными.
Формулы и модели, построенные химиками, должны объяснять не только состав химических соединений, но и их свойства. В первой половине XIX в. ни один метод или соглашение о представлении соединений не был принят. Дж. Р. Партингтон заметил: «Стремление иметь свой собственный набор формул явно рассматривалось как проявление независимости мышления каждого химика»[1]. Еще в 1861 г. Фридрих Август Кекуле предложил девятнадцать формул для уксусной кислоты[2].
Основанием для фрагментарности теорий и использования многочисленных формул была невозможность увидеть и измерить непосредственно молекулы. Химия в целом и органическая химия в частности были ужасающе мало изучены. В 1835 г. Вёлер писал Берцелиусу, что «органическая химия кажется мне первобытным тропическим лесом, полным самых замечательных существ»[3]. За следующие тридцать лет химики собрали удивительное количество данных и выделили множество соединений, но формулы соединений все еще были предположениями, основанными на очень неполных экспериментальных фактах[4].
Химики XIX в. в скором времени пришли к заключению, что многие соединения не могут быть представлены одной формулой, объясняющей все их известные реакции. Одна формула объясняла одну реакцию, другая — другую. Возможно, путем использования четырех или пяти различных моделей молекулы одного соединения химик мог объяснить все известные реакции этого соединения, но этот метод ставит еще дилемму: здравый смысл подсказывал химикам, что любое вещество должно иметь молекулы определенной формы, которая может быть воспроизведена моделью (оставив на время изомеры и таутомеры, которые составляют отдельную тему; см. примечание 7). Но с точки зрения геометрии было всего лишь определенное количество возможностей построения некой модели молекулы, но ни одна из возможных моделей не объясняла всех реакций данного вещества. Эта же ситуация имеет место со многими соединениями в настоящее время, наиболее известное такое соединение — бензол.
Как только Кекуле предложил простую гексагональную схему для объяснения ароматических соединений, он столкнулся с проблемой локализации химических связей[5]. Кекуле полагал, что атомы углерода четырехвалентны, следовательно, каждый атом углерода имеет одну незадействованную связь. Кекуле принял идею чередующихся двойных и одинарных связей:

формула, хотя она использовалась почти универсально, была неудовлетворительной. Если бензол действительно имеет такое строение, то, следовательно, могут быть получены следующие два изомера:

При изучении вышеприведенных диаграмм можно увидеть различия: в первом случае существует двойная связь между двумя добавленными атомами хлора, в то время как во втором случае имеет место одинарная связь. Но таких двух изомеров не существует ни с хлором, ни с другими добавочными группами; мы знаем, что невозможно создать изомеры ортодизамещенных соединений бензола.
В 1872 г. Кекуле выдвинул концепцию о том, что связи постоянно «изменяют положение между чередующимися секциями как пара распахивающихся дверей»[6].

Обычно химики, чтобы не чертить такую сложную формулу бензола, приводят две формулы возможных позиций. Эти две диаграммы обычно называют «идеальные структуры Кекуле»[7].

То объяснение, что связи в бензоле смещаются туда и обратно, удовлетворяло химиков многие годы. Краткие или устаревшие описания истории химии обычно заканчивают на этом рассказ о бензоле. Однако химики выяснили, что должны существовать связи между противоположными атомами углерода или связь между парными позициями:

Эта формула изначально была предложена сэром Джеймсом Дьюаром, который предполагал дополнить ею две первоначальные структуры Кекуле[8]. Теперь существовали три формулы бензола, и представить себе картину «распахивающихся дверей» становилось все более трудно. Более того, добавлялись другие варианты. Но что озадачивало больше всего: стало ясно, что в молекуле бензола не происходит действительного движения между простыми конфигурациями связей.
Резонансная теория валентности, разработанная примерно в 1930 г. Лайнусом Полингом и развитая далее Дж. В. Уэландом, — это попытка объяснить структуру таких молекул, как бензол[9]. Значение теории резонанса, согласно Уэланду, заключается в том, что «истинное состояние молекулы не идентично с состоянием, изображаемым одной классической валентной структурой, а является промежуточным между состоянием, изображаемым двумя или несколькими валентными структурами»[10]. Такая средняя структура известна как «резонансный гибрид». Структурными химиками описано множество таких гибридов. Двумя структурами валентной связи, «делающими свой вклад» в карбоксилатионе, являются[11]:

Резонансный гибрид иона карбоксилата обычно имеет следующий вид:

В случае бензола гибрид рассматривают как состоящий из пяти различных структур, идеальных форм Кекуле-Дьюара[12].

Для других соединений используется намного больше моделей. Для объяснения реакций антрацена используется более четырехсот диаграмм.
Уэланд снова и снова напоминал читателям, что резонанс нужно рассматривать не как какой-либо вид осцилляции между различными структурами, а как слово, относящееся к молекуле в перманентном гибридном состоянии[13].
«Резонанс имеет смысл только в связи с частным способом приближения к истинному положению, и нужно постоянно следить за тем, чтобы не приписать различным резонансным структурам физический смысл, которого они не имеют»[14].
Полинг по этому поводу заметил:
«Мы можем сказать... что молекула не может быть удовлетворительно представлена любой отдельно взятой структурой валентной связи и оставить попытки связать ее структуру и свойства со структурой и свойствами других молекул. Но, используя структуры валентной связи как основу обсуждения, мы с помощью понятия резонанса можем дать объяснение свойствам молекулы, прямо и просто оперируя свойствами других молекул. Для нас удобно, по практическим соображениям, говорить о резонансе молекул среди нескольких электронных структур»[15].
Согласно теории резонанса, связи между атомами углерода в бензоле не являются ни двойными, ни одинарными, а как бы связью между ними, грубо описываемой как

или связь. Такое описание подтверждается электронной диффракцией и инфракрасными спектроскопическими исследованиями, показывающими, что если расстояние между атомами углерода с одинарной связью равно 1,54 ангстрем, а с двойной связью — 1,33 ангстрем, то измерение для связей бензола дает 1,40, то есть между измерениями для одинарной и двойной связи[16].
Хотя, как подчеркивал Полинг, теория резонанса не опирается концептуально на квантовую механику, тем не менее при расчете определенных свойств молекул, таких, как стабильность во время реакции, применяется квантовомеханический метод вычислений. Волновая функция или уравнение Шредингера записывается для каждой из идеальных или резонансных структур, и тогда волновые функции объединяются в простую линейную форму, то есть путем простого сложения, учитывая фактор взвешивания, приложенный к каждому уравнению и зависящий от количества «влияния», которое каждая идеальная структура осуществляет.
Теория резонанса и ее разработка Полингом были известны в Советском Союзе задолго до второй мировой войны; много лет прошло, прежде чем теория химических связей привлекла какое-либо специальное внимание. Теория резонанса стала популярной среди химиков в Советском Союзе. Выдающиеся химики, такие, как А.Н. Несмеянов[17], Р.X. Фрейдлина, Д.Н. Курсанов[18], Е.Н. Прилежаева[19], М.И. Кабачник[20] и многие другие, применяли теорию резонанса в своих исследованиях и в своих публикациях. В 1946 г. два советских химика, о которых мы еще довольно много услышим, Я.К. Сыркин и М.Е. Дяткина, выдвинули свой собственный подход к теории резонанса в книге «Химическая связь и структура молекул», которую Полинг отметил как «отличную работу»[21]. Он добавил, что, с его точки зрения, Сыркин и Дяткина были «одними из способнейших (химиков) в современной России»[22]. Книга этих двух авторов была принята Министерством высшего образования СССР как учебное пособие для химических факультетов университетов и получила широкое распространение. Впоследствии она была переведена на английский язык для использования в Соединенных Штатах[23]. Через год после опубликования собственной книги Сыркин и Дяткина перевели книгу Полинга «Природа химической связи» на русский язык; в течение следующего года они снова вдвоем работали над переводом книги Уэланда «Теория резонанса и ее применение к органической химии», причем редактором был Сыркин, а переводчиком - Дяткина.
Полемика о резонансе была начата ревностным, честолюбивым, но не имеющим признания химиком Г.В. Челинцевым, которого позже осудили в попытке завоевать то верховное положение в химии, которое было у Лысенко в биологии. Хотя окончательный исход спора отличался от того, к чему призывал Челинцев, но этот химик оставался центральной фигурой на всем протяжении полемики в последующие годы.
Будучи профессором Военной академии им. Ворошилова и специалистом по приемам ведения химической войны, Челинцев опубликовал в 1949 г. книгу под названием «Очерки по теории органической химии», в которой предлагал объяснять молекулярную структуру, не используя приближенные методы квантовой механики и при помощи только одной формулы для каждого соединения[24]. В частности, он заявил, что формула бензола должна выводиться не на основе ковалентных связей, а на основе электровалентных или ионных связей[25]. Челинцев представил бензол следующим образом:

Пунктирная линия означает, по Челинцеву, «размазывание» электронного заряда. По его представлению, в бензоле вообще не существовало двойных связей. Он утверждал, что теория резонанса была не только методологически бесплодной, но также вводила в химию механистические понятия, заполняя пробел человеческого знания нереалистичным, но удобным механистическим описанием.
Появление книги Челинцева подняло теорию резонанса до уровня философской дискуссии времен идеологической воинственности в Советском Союзе. Использование теорией резонанса множественных идеальных структур, которое Челинцев назвал механистическим, сделало эту теорию уязвимой для критики с философских позиций. То, что теория резонанса может рассматриваться как философски несостоятельная не только Челинцевым, но и другими авторами, стало ясно после публикации осенью 1949 г. В.М. Татевским и М.И. Шахпароновым статьи «Об одной махистской теории в химии и ее пропагандистах»[26]. Эти два автора особенно критиковали положение Уэланда о резонансе как об умозрительной концепции, которая «не отражает какого-либо внутреннего свойства самой молекулы, а является математическим способом, изобретенным физиком или химиком для собственного удобства»[27]. В таком случае можно было бы критиковать философские следствия, вытекающие из этого заявления, а не саму теорию резонанса. Можно легко утверждать, в духе реалистической философии, что резонансные структуры имеют некоторое, возможно совершенно косвенное, отношение к действительной структуре молекулы, но что это отношение остается скрытым. До тех пор, пока не получена информация о действительной структуре, теория резонанса может быть использована без необходимого принятия философских замечаний Уэланда. Вместо этого Татевский и Шахпаронов заявили, что философски некорректно описывать молекулы в терминах идеальных структур, которые оказываются физически непостижимыми. Согласно этим авторам, изначальным недостатком теории резонанса было то, что она использовала более одной структуры. Одновременно утверждая, что не происходит взаимопревращения форм. Таким образом, теория резонанса была «разведена с реальностью». Татевский и Шахпаронов утверждали, что Уэланд и Полинг пытались прикрыть свое незнание истиной природы молекул искусным построением, содержащим ложные философские допущения.
«Теория резонанса может служить одним из примеров того, как враждебные марксистскому мировоззрению махистские теоретико-познавательные установки приводят буржуазных ученых и их последователей к лженаучным выводам при решении конкретных физических и химических проблем»[28].
Позиция, занятая Татевским и Шахпароновым, тесно смыкалась с точкой зрения анонимных авторов статей, помещенных в «Журнале физической химии» и в «Правде», посвященных празднованию 70-летия Сталина[29]. Авторы этих статей призывали устранить дефекты в советской науке, особенно в химии.
В ходе дискуссии о теории резонанса много раз ссылались на произведения выдающегося и талантливого русского химика XIX в. А.М. Бутлерова. Он был профессором химии Казанского и Санкт-Петербургского университетов, а также членом Императорской академии наук с 1874 по 1880 г. Его имя лишь очень редко упоминалось в западных учебниках химии или историях химии. Несомненно, он заслуживает намного большего внимания[30]. В 1940 г., до того как в Советском Союзе началось обсуждение теории резонанса, известный американский историк химии Генри М. Личестер написал биографическую статью, восхваляющую Бутлерова, и дал высокую оценку его передовым исследованиям в области органической химии[31]. В 1953 г. французский химик Ж. Жаке заявил, что имя Бутлерова должно иметь такое же значение, как имя Фридриха Кекуле в развитии теории молекулярной структуры[32]. В издании 1960 г. в своей книге «Природа химической связи» Лайнус Полинг, подвергнутый суровой критике со стороны советских философов науки, воздал должное исследованиям А.М. Бутлерова по валентности[33]. В ранних изданиях этой работы Полинг не упоминал Бутлерова, так как, скорее всего, не знал в то время его работ[34]. Хотя концепция Бутлерова о молекулярной структуре все еще не получила должной оценки за пределами Советского Союза, профессор И.М. Гансбергер дал как бы временное суждение:
«Не вызывает сомнения, что Бутлеров не получил должной оценки, которой он определенно заслуживает, а также то, что его монументальный вклад в органическую структурную теорию был в большой мере фактически не замечен. Вклад Бутлерова конечно же равен вкладу Кекуле и Купера, но было бы нелепо утверждать, что он был единственным автором структурной теории»[35].
В свете этого больше внимания начало уделяться Бутлерову за рубежом в 50-е годы. Однако даже в Британской энциклопедии (Encyclopedia Britannica) издания 1955 г. отсутствует хотя бы упоминание о Бутлерове, хотя целая колонка была посвящена Кекуле. В издании же 1963 г. Бутлерову уделялся параграф.
Философские взгляды Бутлерова отличались от воззрений химиков, подобных Шарлю Жерару, который не верил в то, что химические формулы представляют некий вид реальности. Сам Кекуле никогда не приписывал большой физической значимости своим формулам, рассматривая их только в качестве символов для объяснения реакции[36]. Бутлеров же, напротив, верил, что каждому веществу должна отвечать своя структурная формула с реальным, пусть и неопределенным отношением к действительной структуре этого вещества. Он отмечал:
«Если попытаться теперь определить химическое строение веществ и если нам удастся выразить его нашими формулами, то формулы эти будут хотя еще не вполне, но до известной степени настоящими рациональными формулами. Для каждого тела возможна будет в этом смысле одна рациональная формула, и когда сделаются известными общие законы зависимости химических свойств тел от их химического строения, то подобная формула будет выражением всех этих свойств»[37].
Такие цитаты были удобными для авторов, желавших использовать работы Бутлерова для критики множества форм резонансной теории. Многие из этих авторов игнорировали дальнейшие заявления Бутлерова о значении химических формул, что «дело не в форме, а в сущности, в понятии, в идее... нетрудно прийти к убеждению, что всякий способ писания может быть хорош, лишь бы он с удобством выражал эти отношения»[38].
Со 2 по 7 февраля 1950 г. Институт органической химии АН СССР провел дискуссию о современных теориях органической химии[39]. По итогам дискуссии был опубликован доклад под названием «Современное состояние теории химического строения», написанный Д.Н. Курсановым как председателем и семью химиками — членами комиссии[40].
В докладе комиссии указывалось, что настоящая дискуссия представляет интерес для Коммунистической партии и имеет прямую связь с дискуссией по биологии.
«Решение Центрального Комитета ВКП(б) по идеологическим вопросам и сессия ВАСХНИЛ мобилизовали советских ученых на решение задачи критического анализа современного состояния теоретических представлений во всех областях знания и борьбы против чуждых нам реакционных идей буржуазной науки.
Кризис буржуазной науки, связанный с общим кризисом капиталистической системы, сказался и в теоретических представлениях в органической химии, развиваемых буржуазными учеными, и привел к появлению методологически порочных концепций, тормозящих дальнейшее развитие науки»[41].
Но хотя комиссия критиковала резонансную теорию и даже собственных членов за ее использование, в докладе откровенно заявлялось, что взгляды Челинцева основывались на ложных научных доводах. Челинцев был полезен в том смысле, что он способствовал привлечению «внимания советской научной общественности» к необходимости критического анализа «теории резонанса», но он же позже неправильно определил теорию химического строения[42]. Делая это, Челинцев пытался не допустить применения квантовой механики к химии, которое в понимании комиссии, фактически, было «дальнейшим развитием и конкретизацией теории Бутлерова».
У Курсанова и его коллег не нашлось добрых слов и для «новой структурной теории» Челинцева.
«Естественно, что познание природы химической связи требует приложения и учета всех данных, полученных современной химией и физикой. Одной из попыток построения новой теории химической связи без учета этих данных является предложенная Г.В. Челинцевым «новая структурная теория»... Характерно, что даже сам автор не применяет »новую структурную теорию« в своих работах. Эта теория должна быть отвергнута»[43].
В этом докладе и в нескольких других статьях, появившихся в то время, четыре положения казались первостепенными: 1) подлинным основателем теории химического строения является Бутлеров; 2) теория резонанса идеалистична, а потому неприемлема; 3) хотя идея резонанса должна быть отклонена, квантовая механика необходима для научных исследований, а между теорией резонанса и квантовой механикой можно провести четкую грань; 4) Г.В. Челинцев — некомпетентный ученый. Со временем третье и четвертое положения становились все более важными. Ведущие советские исследователи-химики явно направляли основные усилия в течение 1950 г. на дискредитацию Челинцева и одновременно собирали как можно больше ученых в ряды защитников вычислительных методов квантовой механики в химии.
В статье, опубликованной в январе 1951 г., О.А. Реутов признавал, что слишком прямолинейное следование взглядам Челинцева приведет к необходимости статических механических моделей молекул. Он упомянул и то, что последние дискуссии о теории резонанса делали упор на материализм, игнорируя диалектику. Реутов признал, что «теория Бутлерова имеет две стороны. Одна сторона связана с безусловным признанием определенного химического строения молекул. Другая же сторона этого учения утверждает наличие взаимного влияния атомов...»[44]. Реутов указывал, что любое описание молекул должно быть описанием не статичной модели, а постоянно изменяющихся моделей как результат взаимодействия противоположных сил, то есть истинно диалектический процесс.
На следующей, после статьи Реутова, странице январского номера «Журнала общей химии» за 1951 г. была напечатана заметка, объявляющая о приближавшейся Всесоюзной конференции по теории химического строения. Эта тема должна была обсуждаться не только химиками, но и сотнями физиков, философов и работников системы образования. Бюро Отделения химических наук АН СССР организовало комиссию во главе с президентом Академии наук А.Н. Несмеяновым для подготовки основного доклада относительно взглядов Бутлерова на структурную химию, критики резонанса и дальнейшего развития теории химического строения. Читателям предлагали присылать замечания и предложения.
Конференция состоялась в Москве 11-14 июня 1951 г. под председательством М.М. Дубинина[45]. С основным докладом выступил А.Н. Теренин, а не Несмеянов, отсутствовавший по болезни. Всего с речами выступили 44 участника, и, хотя многие речи были сходными, несколько раз вспыхивали жаркие споры, несмотря на то что никто не защищал теорию резонанса. Предыдущие статьи и обсуждения уже так подготовили сцену для конференции, что отказ от резонанса казался уже заранее принятым решением. Действительной проблемой был поиск альтернативы. Челинцев, который открыто отказывался от методов квантовой механики в целом, выглядел все более жалко, совершая бесплодные нападки на своих коллег.
Сыркин, Дяткина, Волькенштейн и Киприанов отреклись от своей прежней защиты теории резонанса и признали, что раньше они заблуждались. Сыркин сказал, что в процессе работы над книгой он не знал о правильном направлении развития химии. Дяткина признала, что в ранний период она пыталась защищать резонансную химию с точки зрения диалектического материализма, «говорила о количественной и качественной стороне теории резонанса»[46]. Ее попытка не увенчалась успехом, и теперь она назвала ее «смешиванием несовместимых вещей». Попытка Дяткиной показать философскую приемлемость теории резонанса, ссылаясь на диалектику, повторяла, чего сама Дяткина могла и не знать, взгляды английского ученого Дж. Холдейна, высказанные в 1939 г., когда он писал, что теория резонанса была «блестящим примером диалектического мышления, отказом признать, что две представленные человеку альтернативы (две сотрудничающие структуры) обязательно являются исключающими»[47].
Доклад Теренина, на который ссылалась Дяткина и который послужил основанием для дискуссии на конференции, был очень похож на доклад, подготовленный Институтом органической химии в феврале 1950 г. Это сходство неудивительно, так как его готовили одни и те же ученые. Одно различие все же было явным: комиссия Теренина имела своей задачей не только критику теории резонанса на основе работ Бутлерова, но также и планирование работы советских ученых на будущее, то есть представление чего-либо, что заменило бы теорию резонанса.
Теренин и его коллеги как ошибку особенно выделили в резонансе использование идеальных, фиктивных резонансных структур[48]. Таким образом, так как советские химики не пользовались расчетами на базе фиктивных структур, они могли использовать всю доступную информацию о молекулах, а также математические выражения, которые, будучи представленными в физических терминах защитниками теории резонанса, вели к противоречиям несводимых физических форм. Этот альтернативный подход, избегавший идеальные структуры, получил название «теории взаимных влияний» (выражение, заимствованное у Бутлерова). Объяснение, которое Теренин и его коллеги дали этому явному противоречию, была неадекватность человеческих знаний о структуре материи[49]. Каким бы ни был более полный ответ, им никак не могла быть теория резонанса, которая является тупиковым направлением, утверждающим, что форма молекулы физически непостижима. Авторы доклада утверждали, что теория резонанса ведет к агностицизму, который они определяли как кантовскую веру в то, что человек не может познать окружающий его мир.
Предложенный авторами доклада подход к молекулярной структуре позволял использовать все данные, ведущие к теории резонанса, до тех пор, пока ученый воздерживался от представления молекул как гибридов идеальных графических форм. Но химики могли использовать сами уравнения, которые являются существенными для использования резонансной теории.
Различие между запрещаемой теорией резонанса и разрешаемой теорией взаимных влияний было неуловимым. Существовало эпистемологическое различие: химики, придерживающиеся теории взаимных влияний в том виде, как она была дана авторами доклада, не могли прийти ни к заключению, что молекулы являются просто умозрительными формами, ни к тому, что молекулы могут быть объяснены только в терминах умозрительных форм, независимо от убедительности аргументов той или другой альтернативы. Основным практическим различием между методом, предложенным советскими химиками, и теорией резонанса было то, что ученые, придерживающиеся первого метода, должны были воздерживаться от использования резонансных форм в качестве наглядных пособий в аудиториях и лабораториях.
Теория взаимного влияния имела аналог в других странах; этот подход был известен как метод «молекулярных орбит», в котором не постулировалась точная позиция определенных молекулярных связей. Исходя из этого, многие химики полагали, что эта теория объясняет определенные реакции не настолько удовлетворительно, насколько теория резонанса. Уэланд заметил, однако, что в математической форме метод молекулярных орбит становится фактически идентичным теории резонанса[50].
Профессор Челинцев яростно обрушился на доклад. Он заявил, что конференция в целом провалилась, ибо она, предполагая отвергнуть теории Полинга и К. Ингольда, напротив, была захвачена сторонниками этих западных ученых. Он добавил, что теория взаимного влияния была лишь номенклатурной модификацией мезомерно-резонансной теории[51].
«Содержание доклада, — объявил он, — определяется задачей спасения любезной сердцам ингольдистов-паулингистов мезомерно-резонансной теории» (с. 86).
Челинцев говорил, что лидеры конференции зажимали его работы и замаскировали теорию резонанса (с. 86-87). Его разочарование итогами конференции нашло отражение в его комментариях:
«Это первый случай в истории недавних научно-методологических дискуссий, когда с постановочным докладом выступает не критикующая ошибки сторона, а сторона в них повинная, к тому же представленная не отдельным лицом, а комиссией, назначенной Отделением химических наук АН СССР и утвержденной, надо думать, президиумом АН СССР» (с. 79-80).
Челинцев объявил своим долгом назвать поименно наиболее активных пропагандистов теории резонанса; он начал с президента АН СССР А.Н. Несмеянова и перечислил 26 химиков (с. 87)[52], в числе которых многие занимали ведущие позиции в различных областях. Почти все авторы статей, в которых за последние два года обличался резонанс, тоже были в списке, включая Татевского и Шахпаронова, чья статья в конце 1949 г. показала, что критика резонанса выйдет за рамки критики Челинцева. Пятеро из девяти сотрудников Отделения химических наук, рассматривавшие теорию резонанса в феврале 1950 г., были перечислены, так же как и шесть из одиннадцати ученых, выделенных для подготовки доклада для июньской всесоюзной конференции 1951 г.
После речи Челинцева ему было задано несколько вопросов. Один из задававших вопросы саркастически спросил: «Вы перечислили сторонников идеализма в советской химии. Кто, по вашему мнению, во всей советской химии является представителями диалектического материализма?» (Смех)» (с. 89). Челинцев ответил, что невозможно было бы перечислить всех сторонников диалектического материализма, так как существуют лишь 20 или 30 человек, чьи имена он назвал, кто диалектический материализм игнорирует. Этот ответ был встречен аплодисментами.
На конференции выступило мало сторонников Челинцева. С.Н. Хитрук поддержал взгляды Челинцева, а также указал на тот «неопровержимый факт», что Челинцев первым сорвал маску с «идеалистической сущности» теории мезомерии — резонанса (с. 181).
Одним из докладчиков, выступавших после Челинцева, был А.А. Максимов, член редколлегии журнала «Вопросы философии». Максимов принимал участие в долгой серии ожесточенных споров относительно диалектического материализма и естествознания; он играл злополучную роль в обсуждении релятивистской физики, в ходе которого он совершал нападки не только на общую, но и на специальную теорию относительности. Присутствие на конференции Максимова, а также журналиста В.Е. Львова вызвало возмущение некоторых делегатов. Химик М.В. Волькенштейн спрашивал: «Зачем пустили сюда этого журналиста?» (с. 350). Волькенштейн заметил, что за год до этого Львов был изгнан из среды ленинградских физиков как возмутитель порядка. Это указывает на то, что некоторые дальновидные ученые смогли объединиться против идеологической демагогии еще в 1950 г.
Максимов, однако, сменил на конференции наступательный тон на оборонительный в обсуждении идеализма в науке. Он скорее не поддерживал, а критиковал Челинцева. Он точно определил мотивы Челинцева в следующем замечании:
«Согласно утверждению проф. Челинцева, выходит, что он играет в химии роль Т.Д. Лысенко, а перечисленные им паулингисты-ингольдисты играют роль вейсманистов-морганистов». Максимов также утверждал: «Я знаю членов комиссии перечисленных нам «паулингистов-ингольдистов». Я считаю их честными, преданными советскими химиками, искренне желающими процветания советской химии» (с. 255, 260).
Когда началась подготовка к голосованию по заключительной резолюции, Челинцев взял слово и заявил, что, хотя он был членом комиссии по подготовке проекта резолюции, перевес был полностью на стороне паулингистов и ингольдистов (он так и не перестал использовать эти термины, несмотря на требования делегатов конференции) и его голос не имел влияния (с. 365). В ходе окончательного голосования от Челинцева отвернулись и те три или четыре делегата, которые поддерживали его на предварительном этапе и только он один голосовал против резолюции (с. 370).
В резолюции было одобрено содержание доклада комиссии Отделения химических наук АН СССР, который профессор Теренин зачитал в начале конференции, но вместе с тем в докладе были отмечены «серьезные недостатки». Во-первых, в докладе не показывалось, что извращения в химии были тесно связаны с извращениями в биологии и физиологии и что все эти враждебные теории «представляют единый фронт борьбы реакционно-буржуазной идеологии против материализма» (с. 376). Другим недостатком доклада Теренина и его коллег, согласно резолюции, было то, что они не сумели в нем адекватно показать огромный прогресс советской химии[53].
В резолюции конференции порицались Сыркин, Дяткина, Волькенштейн и Киприанов за то, что они не полностью критиковали теорию резонанса и не детализировали свои ошибки. Ссылки Волькенштейна и Киприанова на незнание были признаны неудовлетворительными. В резолюции отмечалось, однако, что все четыре химика свои ошибки признали.
Критиковались также советские философы, химики и физики, каждые группы по незначительно различающимся причинам. Философы не были активны на химическом фронте. В резолюции указывалось, что химики, а не философы выявили идеологические недостатки. Тем не менее и химики критиковались за то, что не уделили должного внимания методологии науки, долго терпели теорию резонанса, вместо того чтобы ее отбросить.
Хотя Челинцев не упоминался в резолюции всесоюзной конференции, его теория не избежала осуждения, причем со стороны самого А.Н. Несмеянова, что было равнозначно официальному порицанию. Если теория строения у Челинцева была правильной, замечает Несмеянов в своей статье, он должен был предсказать реакции. Где эти предсказания? Несмеянов предположил, что сам Челинцев не верит в свои наивные заявления. В заключение он отпустил «колкости» по адресу как сторонников теории резонанса, так и последователей Челинцева:
«Наша химия должна быть решительно очищена от всех нездоровых влияний разлагающейся буржуазной философии и науки. Она должна быть очищена также и от доморощенных вульгаризаторов науки»[54].
Смелость Челинцева перед лицом критики со стороны ученого, наделенного наибольшей административной властью в Советском Союзе, кажется удивительной. В том же номере, где была статья Несмеянова, Челинцев повторил свои обвинения о монополии паулингистов в химии, к которым он причислял и Несмеянова. Он отверг положение Несмеянова о собственном его (Челинцева) неверии в свою же теорию:
«Что же касается моего убеждения в непригодности новой структурной теории, то едва ли возможно предположить, что я мог бы в течение ряда лет перенести всю тяжесть борьбы с монополизировавшими советскую химическую науку ингольдистами-паулингистами, если бы я не был глубоко убежден в правильности и полезности своих суждений»[55].
Факт самого выхода статьи Челинцева, да еще в такой неприкрытой форме, показывает, что Челинцев располагал какой-то поддержкой в Советском Союзе. Более того, Несмеянов не стал бы так пространно критиковать Челинцева, если бы этот взбунтовавшийся химик был такой изолированной фигурой, как его представляет Несмеянов. Челинцев явно все еще надеялся, что его взгляды завоюют расположение партийных чиновников. В своей продолжительной борьбе он истощил терпение своих же коллег-химиков. В январе 1953 г. двое советских химиков, Б.А. Казанский и Г.В. Быков, обрушились на Челинцева:
«Следовательно, какая же может быть критика новой структурной теории! Какая может быть борьба мнений других химиков с мнением ее автора! И всякое выступление против своей «теории» Г.В. Челинцев пытается представить нашей общественности как предосудительную ересь. Поэтому Г. В. Челинцев всякому выступающему против его теории или игнорирующему ее легко бросает обвинение в «механицизме», «агностицизме», «махизме» и тому подобных одиозных «измах». Всю кампанию за свою теорию Г.В. Челинцев ведет под крикливым и порочным лозунгом: кто против меня - тот против диалектического материализма»[56].
Эта взбучка достигла желанного эффекта: статьи Челинцева исчезли со страниц журналов. Неизвестно, сам ли Челинцев пошел на это, или редакторы отказались публиковать его полемику, но статья Казанского и Быкова положила конец происходящей битве. Конечно, Челинцев не оставил своих позиций, и спустя четыре года он появился снова, опять отталкиваясь от своих прежних тезисов.
Но после января 1953 г. относительное спокойствие воцарилось в споре, прерываемое редкими статьями, заново подтверждающими теперь уже официальный статус теории резонанса и показывающими, что тема еще не исчерпана. В октябрьском 1953 г. номере «Журнала общей химии» была опубликована статья, посвященная 125 годовщине со дня рождения Бутлерова, но в ней лишь мимоходом упоминалось знакомое утверждение о расхождении взглядов Бутлерова и теории резонанса, а Челинцев даже не был упомянут ни в одной из 27 сносок[57]. Скорее всего, Челинцева пытались обойти молчанием.
В 1954 г. статьи о теории резонанса приобрели заметно более резкий тон, несомненно, из-за более свободной атмосферы дискуссии после смерти Сталина, которая произошла за год до этого. Но это изменение было едва различимым, никто даже не намекал на пересмотр ценности теории резонанса. Некоторые ученые, обвиненные в идеологических ошибках в период 1949-1951 гг., начали вести борьбу со своими критиками[58].
В послесталинский период шовинистическое восхваление советской химии пошло на спад. В советской истории химии и учебниках химии Бутлеров признавался основателем теории химического строения, но начала исчезать чересчур резкая критика западноевропейских химиков. Этот спад национального самовозвеличивания явился отчасти результатом общего послабления идеологического рвения. Некоторые химики, противившиеся критике теории резонанса в период 1949-1951 гг. или занимавшие в те годы нейтральную позицию, использовали оценку Бутлерова в качестве средства уйти от прямых атак на резонанс. Старейшина советской химии, действительный член АН СССР А.Е. Арбузов, который был на 40 лет старше революции, пространно говорил на июньской конференции 1951 г., даже не упомянув теорию резонанса. Он ограничился определением значения Бутлерова в истории химии. Так как Бутлеров был действительно выдающимся химиком, по признанию как советских, так и зарубежных авторов, изучавших его работы, Арбузов сохранил чувство академической независимости и в то же время лояльно поддержал диалектических материалистов[59]. В новой атмосфере после 1953 г. отсутствие принудительной необходимости высказываться по этому предмету привело к уменьшению славословия Бутлерову людьми, близкими к позиции Арбузова.
Статья Несмеянова и Кабачника «Двойственная реакционная способность и таутомерия», опубликованная в 1955 г., стала иллюстрацией этого нового отношения[60]. Обсуждаемые в статье проблемы были тесно связаны с теорией резонанса, но прошлые вопросы уже не поднимались. Описав несколько химических реакций, авторы признали свою неспособность установить строение молекул, участвующих в реакциях соединений. Они замечали:
«Многие из них, недавно казавшиеся решенными, были решены неверно, и это требует постановки новых исследований...»[61]
Под запретом осталась теория резонанса или, по крайней мере, ее название. В августе 1957 г. Челинцев появился вновь, повторяя все свои прежние обвинения[62].
1. Partington J.R. A Short History of Chemistry. N. Y. P. 255.
2. Ibid.
3. Ibid. P. 216.
4. Действительно, сейчас химики все еще работают в первую очередь скорее путем сбора данных о химических реакциях, а не тем путем, которым физики подходят к субмолекулярному и субатомному уровням. Сама теория резонанса, как указывал Лайнус Полинг, была в большей степени выведена методом химиков. Этот упор химиков на эмпирический подход по большому счету не игнорировал, конечно, возрастающее использование физических методов исследования, таких, как спектроскопия, рентгеноскопия, методы электронной дифракции, которые являются ценным дополнением к работе химиков. — См.: Полинг Л. Природа химической связи. М.; Л., 1947. С. 162.
5. О толковании этой теории Кекуле см.: Kekule A. Sur la constitution des substances aromatiques//Bulletin de la Society Chemique. 1865. № 3, P. 98—110; Kekule A. Untersuchungen uber aromatische Verbindungen//Justus Lebig's Annalen der Chemie. 1866. Vol. 137. P. 129—196. Александр Финдлей в своей книге «Сто лет химии» (Findlay A. A Handred Years of Chemistry. N. Y.,1937. P. 147) писал: «Возможно, Кекуле рассматривал свою теорию в первую очередь как элегантную философскую систему, в которой все известные факты относительно ароматических соединений могут быть четко и удовлетворительно сгруппированы вместе; и первым, кто рассматривал эту теорию как экспериментально доказуемую, был ученик Кекуле — Кернер». Кекуле был скрупулезным химиком, который тщательно проверял свои теории эмпирическими тестами. Тем не менее он расценивал умозрение как один из самых плодотворных методов исследования; по его воспоминаниям, вдохновение для создания двух его наиболее важных теорий пришло к нему во сне. Говорят, что он понял цепную структуру алифатических соединений в то время, как он спал на втором этаже омнибуса летней ночью, а кольцёвая структура ароматических соединений предстала перед ним, когда он дремал у камина.
6. French S.J. The Drama of Chemistry. N. Y., 1937. P. 93.
7. Студенты часто рассматривают эти структуры как изомеры или таутомеры, но они не являются ни тем, ни другим, так как молекулы Кекуле не существуют. Изомеры есть соединения одинаковых элементов в одинаковых пропорциях, обладающие различными свойствами из-за различий в структуре, таутомеры же — это изомеры, быстро переходящие один в другой и обычно находящиеся в равновесии между собой.
8. Armstrong E.F. Chemistry in the Twentieth Centure. L., 1924. R. 121.
9. Теории резонанса в 20-х годах предшествовали теории некоторых немецких и английских химиков, особенно К. Ингольда в Англии. Ингольд называл свою особую версию практически того же явления «мезомерией», что является более точным названием, чем «резонанс», так как буквально означает «находящийся между формами». «Резонанс», с другой стороны, подразумевает движение, которого нет в химическом резонансе. Термин «резонирующая система», часто использующийся химиками, еще менее точен.
10. Уэланд Дж. Теория резонанса и ее применение в органической химии. М., 1948. С. 13.
11. Эти конфигурации резонансных структур карбоксилатионов даются в кн.: Паулинг Л. Природа химической связи. С. 202.
12. Здесь в особенности эти пять структур не должны рассматриваться как изомеры или таутомеры. Последние существуют, в то время как резонансные структуры не существуют.
13. Уэланд Дж. Цит. произв. С. 14.
14. Там же. С. 49.
15. Pauling L. The Nature of the Chemical Bond. Ithaca, 1960. P. 186.
16. Точнее говоря, длина С — С связи (одинарной) этана равна 1,536±0,016 [формула отсутствует] (ангстрем), длина С — С связи бензола есть 1,393±0,005 [формула отсутствует], длина С — С связи (двойной) этилена равна 1,330±0,005 [формула отсутствует]. Tables of Interatomic Distances and Configuration in Molecules and Lons. L., 1958. Р. М135, М196, М129. Величина ангстрема равна одной стомиллионной сантиметра.
17. Использование теории резонанса явно прослеживается в работе: Несмеянов А.Н., Фрейдлина Р.X., Борисова А.Е. О квазикомплексных металлоорганических соединениях//Известия АН СССР; отделение химических наук, 1945 (юбилейный выпуск). С. 239—250. В этой статье Несмеянов и его соавторы объясняют свойства отдельных элементов на основе теории резонанса, включая понятие суперпозиции. Они ссылаются на книгу Полинга (1944 г.) о резонансе.
18. Курсанов Д.Н., Сеткина В.Н. О взаимодействии четвертичных солей аммония с простыми эфирами//Доклады АН СССР. 1949. Апрель 21. Т. 65. С. 847—855.
19. См.: Прилежаева Е.Н., Сыркин Я.К., Волькенштейн М.В. Раман-эффект галоидопроизводных этилена и электронный резонанс//Журнал физической химии. 1962. Т. 36. № 3. С. 417—428.
20. См.: Кабачник М.И. Ориентация в бензольном кольце // Успехи химии. 1948. Январь. Т. 17. С. 96—131.
21. Сыркин Я.К., Дяткина М.Е. Химическая связь и строение молекул. М., 1946.
22. Soviet Blast Payling, Repudiate Resonance Theory // Chemical and Engineering News, 1951. 10 Sept. N 29. P. 3713.
23. Syrkin Ja.K., Diatkina M.E. The Structure of Molecules and the Chemical Bond N. Y., 1950.
24. См.: Челинцев Г.В. Очерки по теории органической химии. М., 1949. С. 82—85.
25. См. Там же. С. 107—108.
26. См.: Татевский В.М., Шахпаронов М.И. Об одной махистской теории в химии и ее пропагандистах//Вопросы философии. 1949. № 3. С. .176—192.
27. Там же. С. 177.
28. Татевский В.М., Шахпаронов М.И. Об одной махистской теории в химии и ее пропагандистах//Вопросы философии. 1949. № 3. С. 176—177.
29. См.: К 70-летию со дня рождения И.В. Сталина//Журнал физической химии. 1949. № 12. С. 1385—1386.
30. Биографическую статью о Бутлерове и дополнительную биографическую информацию можно найти в «Русском биографическом словаре» (Спб., 1908. Т. 3. С. 528—533). Более объемные, но несколько менее достоверные статьи содержатся в Большой Советской Энциклопедии (М., 1951. Т. 6. С. 378—383 и 383—389). Важной статьей о Бутлерове является работа Л.Л. Поткова «Теория химического строения А.М. Бутлерова» (Журнал физической химии. 1962. Т. 36. № 3. С. 417—428). Бутлеров был известен ученым за пределами России. Он много путешествовал по Европе и хорошо знал Кекуле. Он провел довольно долгое время среди немецких химиков, работал с Либихом, публиковал работы на немецком языке. В 1861 г. в Шпейере в Германии он разработал концепцию, что химическая структура молекул определяет реакции, которым подвергается каждое отдельное вещество. В 1876 г. он стал почетным членом возникшего Американского химического общества, которое до сих пор хранит его письмо с благодарностью о принятии. См.: Leicester H.M. Alexander Mikhailovich Butlerow // Journal of Chemical Education. 1940. May. Vol. 17. P. 208-209.
31. Leicester H.M. Ibid.
32. Jacques J. Boutlerov, Couper et la Societe de Paris//Bulletin de la Societe chemtque de France. 1953. P. 528—530.
33. Payling L. The Nature of the Chemical Bond. P. 4.
34. До этого книга Полинга выходила в 1939 и 1944 гг.
35. Hunsberger J.M. Theoretical Chemistry in Russia//Journal of Chemical Education. 1954. Oct. Vol. 31. P. 506.
36. См. сноску на С. 293.
37. Данилов С.Н. А.М. Бутлеров — основатель теории химического строения// Журнал общей химии. 1951. Октябрь. Т. 21. С. 1740.
38. Цитируется по статье: Реутов О.А. О некоторых вопросах теории органической химии//Журнал общей химии. 1951. Январь. Т. 21. С. 196. Реутов критиковал это высказывание Бутлерова, «если ее возвести в принцип».
39. См.: На ученом совете Института органической химии АН СССР//Известия АН СССР: отделение химических наук. 1950. № 4. С. 438—444.
40. Комиссия по подготовке этого доклада включала: Д.Н. Курсанова (председатель), М.Г. Гоникберга, М.М. Дубинина, М.И. Кабачника, Е.Д. Каверзневу, Е.Н. Прилежаеву, Н.Д. Соколова и Р.X. Фрейдлину.
41. Курсанов Д.Н. и др. К вопросу о современном состоянии теории химического строения//Успехи химии. 1950. Т. 19. № 5. С. 532.
42. Там же. С. 537 и далее.
43. Там же. С. 538.
44. Реутов О.А. О некоторых вопросах теории органической химии//Журнал общей химии. 1951. Январь. Т. 21. С. 187.
45. Стенографический отчет об этой конференции был опубликован: Состояние теории химического строения: Всесоюзное совещание 11 — 14 июня 1951 г. Стенографический отчет. М., 1952.
46. Там же. С. 303. Защита Дяткиной имела место в речи, произнесенной в Институте органической химии АН СССР. Мне не удалось достать текст этой речи.
47. Haldane J. B. S. The Marxist Philosophy and the Sciences N. Y., 1939. P. 101. Аргументы Холдейна и Дяткиной основывались на диалектике, но критика резонанса в Советском Союзе была сконцентрирована на использовании многочисленных вымышленных образов.
48. Состояние теории химического строения... С. 67.
49. Там же. С. 47 и далее.
50. Wheland G.M. Resonance in Organic Chemistry. N. Y., 1955. P. VIII.
51. Состояние теории химического строения... С. 81, 86. Последующие указания на страницы в тексте относятся к этой книге.
52. Челинцев указал академиков А.Н. Несмеянова, А.Н. Теренина, Б.А. Казанского; действ, члена АН УССР А.И. Киприанова; членов-корреспондентов АН СССР Я.К. Сыркина, В.Н. Кондратьева, И.Л. Кнунянца, А.И. Бродского; профессоров и докторов наук М.В. Волькенштейна, М.И. Кабачника, Д.Н. Курсанова, Р.X. Фрейдлину, М.Е. Дяткину, Д.А. Бочвар, Б.М. Беркенгейм, А.П. Терентьева, В.А. Исмаильского, Б.М. Михайлова, А.Я. Якубович, А.И. Титова, Л.И. Сморгонского, М.Г. Гоникберга; доцентов и кандидатов наук В.М. Татевского, М.И. Шахпаронова, Н.Д. Соколова и О.А. Реутова. Кабачник пытался указать на то, что хотя он ошибочно поддерживал теорию резонанса, но он осознал свою ошибку в 1950 г. и опубликовал статью, в которой сам себя исправлял. Эти его слова были встречены криком: «Вы вынуждены были». Там же. С. 270.
53. Эти недостатки были «исправлены» в переработанном (1954 г.) докладе. См.: Состояние теории химического строения в органической химии. М., 1954.
54. Несмеянов А.Н. О «контактных связях» и «новой структурной теории»// Известия АН СССР. Отделение химических наук. 1952. № 1. С. 200.
55. Челинцев Г.В. О теории химического строения А.М. Бутлерова и ее новых успехах//Журнал общей химии. 1952. Февраль. Т. 22. С. 350—360. (Вышеприведенной цитаты нет в указанной статье, и она взята из работы Г.В. Челинцева «Ответ критикам новой «структурной теории», опубликованной в журнале «Известия АН СССР. Отделение химических наук». 1952. № 1. С. 194, о чем, собственно, говорит и сам Л. Грэхэм в тексте книги. — Прим. пер.)
56. Казанский Б.А., Быков Г.В. К вопросу о состоянии теории химического. строения в органической химии//Журнал общей химии. 1953. Январь. Т. 23. С. 175.
57. Данилов С.Н. А.М. Бутлеров (1828—1886)//Журнал общей химии. 1953. Октябрь. Т. 23. С. 1601—1612.
58. См.: Каландия А.А. Ответ на статью Г.В. Цицишвили по поводу работы А.А. Каландия «Расчет молекулярных объемов неорганических соединений типа АnВmОs»//Журнал общей химии. 1955. Январь. С. 193—196. Цицишвили критиковал Каландия в своей статье «Об ошибках А.А. Каландия в статье «Расчет молекулярных объемов неорганических соединений типа АnВmОs» и его попытках укрепить порочную концепцию резонанса»//Журнал общей химии. 1952. Декабрь. Т. 22. С. 2239—2240. Сама статья Каландия появилась в «Журнале общей химии» (1949. Сентябрь. Т. 19. С. 1635).
59. Арбузов имел конфликт с русским химиком Владимиром Челинцевым в 1913 г. Серьезный характер этого конфликта подтверждает, что семья Челинцевых приносила неприятности русской химии не единожды. Отчество Геннадия Владимировича Челннцева указывает на то, что он был сыном Владимира Челинцева, но тот ли это В. Челинцев, с которым спорил в 1913 г. Арбузов, мне не удалось выяснить. Арбузов описывал спор как «важнейший кризис в моей карьере». Причина спора неизвестна, но решающий диспут между Арбузовым и Челинцевым должен был иметь место в Петербурге. Через много лет Арбузов скажет: «Достойно упоминания, что диспут, к которому я с волнением готовился, не состоялся, так как мой противник не явился. Но все же заседание состоялось, и доклад в присутствии всех выдающихся химиков Петербурга был мною сделан. По вопросу моего спора с В.В. Челинцевым все химики встали на мою сторону, а на другой день утром я был приятно удивлен, когда мне вручили 100 экземпляров напечатанного типографским способом достаточно подробного протокола заседания». Эти заметки Арбузова появились в статье, никак не связанной с обсуждением резонанса. См.: Журнал общей химии. 1955. Август. Т. 25. С. 1387.
60. Несмеянов А.Н., Кабачник М.И. Двойственная реакционная способность и таутомерия//Журнал общей химии. 1955. Январь. Т. 25. С. 41—87.
61. Там же. С. 86.
62. Челинцев Г.В. О втором издании доклада комиссии ОХН АН СССР «Состояние теории химического строения в органической химии»//Журнал общей химии. 1957. Август. Т. 27. С. 2308—2310.
Значение первой фазы обсуждения резонанса
Если предложенная здесь интерпретация полемики о теории резонанса в сталинский период корректна, то некоторые более поздние интерпретации должны быть модифицированы. Например, один автор описывает обсуждение резонанса как явление, политически и идеологически идентичное дискуссии в биологии и имеющее тот же результат. Итоги этого обсуждения он называет лысенковщиной в химии[1]. Можно понять такое описание, но результатом дискуссии в химии, в отличие от биологии, было поражение лысенковщины. Хотя первоначальные атаки на теорию резонанса были проявлениями лысенковщины, наиболее значительной чертой дискуссии явилось то, что химики сумели отразить эту серьезную атаку. Модификации теории носили скорее терминологический характер.
Густав Веттер в своем кратком описании обсуждения теории резонанса также не упоминает ведущей роли Челинцева[2]. Веттер указывает, что подлинным источником полемики по теории резонанса были центральные указания сверху:
«Создается впечатление, что в этот период использовалось и получало особое значение все, что давало возможность заклеймить западные теории как «идеализм», «махизм» и т. д., точно так же как возможность принятия теории Бутлерова давала долгожданный повод продемонстрировать «советский патриотизм»[3].
Оказалось, что проблема резонанса была поднята снизу, а не была инициирована распоряжениями сверху. Эта проблема была сформулирована и выдвинута ревностными честолюбивыми химиками, желающими завоевать поддержку партии в дискредитации сторонников теории резонанса. Эта инициатива не обрадовала, а скорее смутила советских научных руководителей, не желавших снижения продуктивности химиков.
Большинство этих химиков хотели защищать необходимые для занятия своей наукой инструменты, а квантово-механический подход, осуждаемый Челинцевым, был одним из таких необходимых инструментов. Исходя из этого, они решили принять диагноз методологического заболевания химии, поставленный Челинцевым, но отвергнуть предложенный им метод лечения. Не употребляя фиктивные резонансные структуры, они сохраняли математическую суть теории, утверждая, что такое решение совместимо с диалектико-материалистическим подходом к науке и с подходом Бутлерова к химии.
1. Цитируется в моей работе: Graham L.R. A Soviet Marxist View of Structural Chemistry // ISIS. 1964. Mar. Vol. 55. P. 30.
2. Wetter G.A. Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Phylosophy in Soviet Union. N. Y., 1958. P. 432-436.
3. Wetter G.A. Dialectical Materialism: A Historical... P. 435-436.
Теория резонанса в послесталинский период
В 1958 г. теория резонанса довольно подробно критиковалась в книге М.И. Шахпаронова «Диалектический материализм и некоторые проблемы физики и химии»[1]. Шахпаронов был тем химиком, который вместе с Татевским написал знаменитую статью 1949 г. в журнале «Вопросы философии» и который в свое время сам пользовался теорией резонанса. Работа Шахпаронова заслуживала внимания по двум причинам: он уменьшил значение философской критики теории резонанса, заявив, что она несостоятельна по очевидным научным причинам, а также выдвинул несколько другие философские возражения против нее.
Шахпаронов заметил, что дискуссии о теории резонанса в Советском Союзе, в свою очередь, обсуждались за рубежом и что некоторые зарубежные химики, особенно в Англии и Японии, тоже критиковали эту теорию. Американский обозреватель заметил:
«Существует опасность, что теория резонанса может быть в большой степени дискредитирована, во всяком случае, так как она до сих пор применялась... Нельзя забывать, что теория в конечном счете зависит от использования предельных структур, которые, по признанию, не существуют в реальности»[2].
Хотя эти зарубежные критики не предлагали каких-нибудь лучших альтернатив этой теории, они верили, что использование многочисленных фиктивных структур для объяснения свойств соединений было лишь временным методом.
В августе 1959 г. Я.К. Сыркин, один из двух химиков, наиболее критиковавшихся в прошлом обсуждении, опубликовал в журнале «Успехи химии» статью «Современное состояние проблемы валентности»[3]. После вышеупомянутого обсуждения Сыркин перестал работать в области структурной химии, но в конце 50-х годов он вернулся к ней. Сыркин в статье не выдвигал каких-либо новых взглядов, а ограничился умеренно оптимистическим изложением метода молекулярных орбит для описания соединений и не пытался определить расположение особых связей.
Специфическая проблема природы атомных связей в бензоле была рассмотрена в ноябре 1958 г. М.И. Батуевым в специальной статье в «Журнале общей химии». Батуев пытался опровергнуть теорию резонанса на основе физических измерений дифракции электронов и рентгеновских лучей. Согласно теории резонанса, все шесть связей в бензоле эквивалентны, а потому должны быть одной длины. Батуев, однако, утверждал, что молекула бензола состоит не из шести равных связей, а чередует «с тремя сопряженными, несколько удлиненными двойными и тремя укороченными единичными связями». Произведенные им измерения (1,382 [формула отсутствует] для одинарной связи, 1,375 [формула отсутствует]для двойной связи) были очень близкими (0,007[формула отсутствует]), особенно учитывая, что измерениям была часто присуща погрешность ±0,005 [формула отсутствует] [4].
Статья Батуева была особенно интересна тем, что критика резонанса в бензоле была в ней всецело основана на эмпирических данных. Эти данные были недвусмысленными и среди различных молекул, к которым применялась теория резонанса, относились лишь к бензолу. Тем не менее они помогли поднять вопрос на нормальный научный уровень. Когда я учился в МГУ в 1960/61 учебном году, я обнаружил, что советские химики говорили о полемике по поводу теории резонанса как о «минувшей», однако термин «резонанс» не использовался в лекциях о валентности, а общепринятые учебники по структурной химии продолжали избегать упоминаний о теории резонанса. Во многих случаях эти предосторожности были просто терминологическими модификациями.
В начале 60-х годов отношение к теории резонанса в Советском Союзе продолжало меняться[5]. В ноябре 1961 г. Лайнус Полинг читал лекцию о резонансе в московском Институте органической химии АН СССР перед аудиторией в 1200 человек[6]. Такая большая аудитория, несомненно, собралась благодаря остро противоречивому образу докладчика: Полинг, с одной стороны, был уважаем в Советском Союзе за интернационалистический образ мышления относительно проблем мира и атомного вооружения и конечно же как крупный ученый, а с другой стороны, он был также объектом острой критики в Советском Союзе как автор теории резонанса. Полинг позже замечал, что его лекция была воспринята благоприятно.
Из всех описанных в этой книге дискуссий наиболее спокойным после середины 60-х годов стало обсуждение теории резонанса. Однако оно не прекратилось полностью. В 1969 г. в программе для советских учителей химии средней школы упоминание о теории резонанса умышленно избегалось, несмотря на то что неадекватность классических структурных диаграмм была детально описана[7]. Текст программы, достаточно сложный для преподавателей средних школ, включал обсуждение метода молекулярных орбиталий и метода «суперпозиции валентных схем» — эти термины позволяли использовать теорию резонанса, не называя ее. Советский автор Г.И. Щелинский критиковал «метод суперпозиции», довольно разумно замечая, что в нем содержался слишком косвенный подход к проблеме делокализации электронного заряда. Он подчеркивал, что химики начали все больше говорить скорее об «электронных облаках», чем о «связях»; он также заметил далее, что сохранение старых диаграмм связи для таких соединений, как антрацен, стало почти невероятно сложным, так как требовались сотни диаграмм для описания одного соединения. Таким образом, метод суперпозиции теряет свое преимущество даже как наглядное пособие, которое обычно выдвигалось аргументом в его пользу. Щелинский предпочел отказаться от графических моделей, работая с более сложными молекулами, полностью опираясь на математические описания метода молекулярных орбит.
Внимание советских ученых, интересующихся философскими проблемами химии в начале 60-х годов, стало переключаться с теории резонанса на более общие проблемы[8]. Юрий Жданов в своей книге «Очерки методологии органической химии», изданной в 1960 г., будучи все еще достаточно критичным в отношении эпистемологических основ теории резонанса (он, естественно, принял квантово-механические вычисления метода молекулярных орбит), уделил значительное внимание более широким вопросам смысла химических формул, роли гомологий в химии и обоснованности моделирования[9].
Это направление разрабатывалось и в более поздних работах. Н.А. Будрейко в книге «Философские вопросы химии», изданной в 1970 г., сконцентрировал внимание в первую очередь на таких вопросах, как определение терминов «химия» и «химический элемент», философского значения периодической таблицы Менделеева и присутствия диалектических законов природы в химии[10]. К сожалению, книга Будрейко была в какой-то степени элементарной и механистической, его легкое восприятие диалектических законов в химии отражало некоторые из более поверхностных аспектов натурфилософии, что явно делало его приверженцем «онтологистов». Другие советские книги по философии химии, обладавшие большей ценностью, затрагивали некоторые важные для истории химии вопросы, такие, как атомистические взгляды Дальтона, Гиббса и Менделеева[11].
Особенно интересной философской работой, написанной выдающимся советским химиком, была статья Н.Н. Семенова, опубликованная в 1968 г. под названием «Марксистско-ленинская философия и вопросы естествознания»[12]. Семенов, получивший в 1956 г. Нобелевскую премию, был в то время, наверное, наиболее известным из всех советских химиков. Его работа обнаружила глубокий интерес к философии естествознания; более того, в ней он отстаивает материалистическую диалектику. В своей статье 1968 г. он замечает, что так как марксистская диалектика является методом человеческого мышления и познания, она одинаково «применима к развитию всех наук... Диалектический материализм лежит в основе сознательных преобразований общества, его производства и культуры»[13]. Тем не менее та интерпретация, которую Семенов дал отношению диалектического материализма к естествознанию, была очень спорной в Советском Союзе. В то время как многие из обсуждавшихся выше авторов верили в то, что диалектика присуща природе (позиция онтологистов), Семенов явно полагал, что диалектика характерна в первую очередь для человеческого мышления (позиция эпистемологистов), а не для существующей за пределами его мышления природы. Семенов был уверен, что советские философы должны сконцентрировать свое внимание на проблемах логики и теории познания.
Семенов пытался ответить на критику его взглядов, выдвинутую диалектиками природы:
«Некоторые философы выражают иногда опасение: как-де можно рассматривать марксистско-ленинскую философию как Логику, теорию познания? А не поведет ли это к утрате мировоззренческого значения марксистской философии, к умалению ее роли и даже к «отрыву философии от естествознания»?
Если Логику понимать действительно по-ленински, то этого не надо бояться. Совсем наоборот: ведь все наши науки, вся наша культура развиваются с помощью мышления, основанного на человеческой практике, и потому наука о мышлении сохраняет свое всеобщее значение, свою первостепенную роль в развитии научного миропонимания»[14].
Традиционные диалектические материалисты рассматривали взгляды Семенова как преувеличение роли идей в развитии науки. Они заявляли, что человеческие мысли также являются частью природы и в конечном счете подвластны тем же регулярностям, что и остальная природа. Поэтому они продолжали искать эти регулярности как в мышлении, так и во внешней реальности, называя их, как и раньше, «диалектикой природы».
Статья Семенова была опубликована как в «Вестнике АН СССР», так и в партийном журнале «Коммунист». Вскоре после этого в последнем журнале была опубликована статья в пользу традиционного подхода, в которой диалектика рассматривалась как обобщение специального научного знания и поэтому как присущее природе[15].
В советских учебниках химии в 80-х годах продолжали проявляться признаки старого интереса к диалектико-материалистической интерпретации природы, в ходе чего были представлены достаточно разнообразные мнения. В некоторых учебниках диалектический материализм вообще не обсуждался, и лишь в некоторых прямо употреблялся термин «теория резонанса». Примером был широко используемый учебник по органической химии, написанный Петровым, Бальяном и Трошченко. После одной поверхностной ссылки на взгляды Энгельса относительно витализма во введении, авторы широко ссылаются на теорию резонанса в основной части книги[16].
Несколько иным был подход Карапетьянца и Дракина в их работе «Общая и неорганическая химия». Они предпочли термин «гибридизация» термину «резонанс» и все еще слегка критиковали тех, кто был «увлечен» теорией резонанса в 40-х и 50-х годах и чьи интерпретации резонанса часто приводили «к путанице и недоразумениям»[17]. Они не упоминали, однако, о том, что основатели теории резонанса Полинг и Уэланд специально предостерегали от подобных неправильных толкований.
Однако в 1981 г. был выдвинут третий подход в «Курсе общей химии» под редакцией Н.В. Коровина. В книге содержалось несколько ссылок на Маркса, Энгельса и Ленина и все еще утверждалось, что химия ведет к диалектико-материалистическому пониманию науки.
«Изучение химии как одной из важнейших фундаментальных естественных наук необходимо для формирования научного диалектико-материалистического мировоззрения. Ф. Энгельс писал: «Химию можно назвать наукой о качественных изменениях тел, происходящих под влиянием изменения количественного состава»[18].
Идеологические склонности Коровина проявились далее в том, что он не упоминал теорию резонанса, предпочитая термин «гибридизация», хотя он и дал удовлетворительное описание присущих теории резонанса математических методов.
Юрий Жданов, сын Андрея Жданова (оба они обсуждаются на с. 127 и далее), продолжал время от времени публиковать статьи по философии химии. Как ректор университета в Ростове-на-Дону и партийный деятель, он оказал значительное влияние на советское высшее образование в 70—80-х годах. Он был ревностным защитником необходимости марксистского подхода ученых к объектам своих исследований. Он очень интересовался, в частности, короткоживущими (порядка около 10 секунд) переходными состояниями в химических реакциях, рассматривая их как иллюстрацию диалектических процессов в природе. В 1981 г. он писал:
«Будучи моментом химического самодвижения, переходное состояние реализует истинную диалектику химизма; в нем материя напряжена, беспокойна, активна, противоречива. В.И. Ленин подчеркивал, что движение есть противоречие, есть единство противоречий, единство непрерывности и прерывности времени и пространства. В активном комплексе эти черты диалектического процесса реализуются полностью. Исследование переходного состояния есть изучение анатомии скачка от старого к новому в развитии материи, есть обнаружение того, как же осуществляется переход количественных изменений в качественные в сфере химизма»[19].
В этом отрывке Жданов принимал сторону онтологистов в их споре с эпистемологистами в советском диалектическом материализме. Он, очевидно, верил, что действие марксистских законов диалектики можно обнаружить в природе, особенно в химии. Это мнение отвергалось некоторыми другими советскими авторами, писавшими о философии химии. В том же году, что и Жданов, опубликовала свою статью Р.В. Гаркавенко, писавшая, что такие взгляды, как у Жданова, «оспариваются рядом авторов, считающих, что все внимание в философских исследованиях естествознания должно быть сосредоточено на гносеологических, логических и методологических проблемах», а не на «объективной диалектике химизма»[20].
Возможно, самая удивительная диалектико-материалистическая критика теории резонанса в начале 80-х годов была выдвинута академиком В. Коптюгом из новосибирского Академгородка. В своем интервью для английской научной телепрограммы «Горизонт» в 1981 г. он заявил, что, хотя в 40-50-х годах имели ошибки в отношении советской генетики, он согласен с советской критикой теории резонанса[21]. Коптюг является химиком с международной известностью и советским организатором науки, чьи взгляды имели значительное влияние на советское химическое сообщество. Оказалось, что Коптюг также поддерживал онтологистов, хотя по этому поводу он высказался столь кратко, что нельзя с уверенностью судить о его взглядах.
Следы полемики о теории резонанса могут быть найдены в советских дискуссиях о редукционизме в химии. Один из химиков, жестоко критиковавшихся ранее за поддержку теории резонанса, М.В. Волькенштейн, продолжал отстаивать мнение, что химия может в принципе быть сведена к физическим законам. Эта точка зрения отвергалась диалектическими материалистами, утверждавшими, что, согласно марксизму, разные законы существуют на различных уровнях бытия и что химия никогда не будет сведена к физике. Так, В.И. Курашов и Ю.И. Соловьев в 1984 г. критиковали как Волькенштейна, так и Лайнуса Полинга за попытки такого сведения[22].
К середине 80-х философия химии в Советском Союзе пришла в относительный упадок, но когда бы этот вопрос не возник, спор онтологистов и эпистемологистов, имевший место в советской науке, становился заметным и здесь. Интересно отметить, что такие философы, как Фролов, Гаркавенко и Вихалемм, старались поддерживать ненавязчивую эпистемологическую точку зрения, в то время как такие химики, как Коровин, Жданов и, возможно, Коптюг, примкнули к онтологистам. Эта тенденция показывает, что в каком-то смысле ошибались те западные обозреватели, которые полагали, что лишь советские философы ответственны за привнесение марксизма в естествознание, в то время как советские естествоиспытатели, по их мнению, игнорировали марксизм. Довольно много советских естествоиспытателей занимало позицию, согласно которой законы диалектики проявляются в природе, и, по меньшей мере, немногие профессиональные философы считали эту позицию путаной.
Здесь было сказано очень мало в защиту теории резонанса, хотя критика этой теории была дана в значительных деталях. В действительности же теория резонанса уже доказала свою полезность в науке. И если завтра эта теория будет заменена новой теорией, то понятие резонанса будет продолжать служить своему важному и полезному назначению. Авторы теории предупреждали, что резонансным структурам нельзя придавать физического значения, так как они являются в первую очередь вспомогательными описаниями. Однако верно и то, что некоторые химики ошибочно воспринимали резонанс как механическое явление[23]. Теория резонанса является созданной человеком системой организации и понимания сложных фактов, полученных из химических реакций, — системой, о которой, следуя реалистической эпистемологии, можно думать, что она имеет некоторое сходство со структурой молекулы, но не идентична ей.
Однако необходимо добавить, что под обсуждением теории резонанса скрывалась достаточно интересная философская проблема. Как в случае с квантовой теорией, интерпретация в терминах модели, приданной математическому формализму, настолько далека от привычных описаний физической природы, что вызывает неудобство у некоторых естествоиспытателей и философов. Важной философской проблемой в этом случае является использование моделей в научном объяснении. Это является серьезной темой, о которой много писали философы науки; тот факт, что участники обсуждения теории резонанса в Советском Союзе никогда не касались этой проблемы полностью, не противоречит тому, что проблема существовала. Можно надеяться, что в будущем советские авторы обсудят теорию резонанса с точки зрения философского анализа, не поднимая вопроса о вмешательстве в работу естествоиспытателей.
Мери Хессе так описывала интеллектуальную проблему, заключавшуюся в использовании моделей:
«Главное философское обсуждение моделей касалось вопроса о том, есть ли какая-либо значительная и объективная связь между объясняющей теорией и ее моделью, связь, которая идет дальше, чем допустимый и, возможно, субъективный метод открытия. Это обсуждение является аспектом старого спора между позитивистской и реалистической интерпретациями научной теории. Многие эпизоды истории естествознания могут рассматриваться как главы этого обсуждения, включая применение бритвы Оккама к научным теориям, ньютонианско-картезианский спор о механическом характере гравитации, дебаты XIX века о механическом эфире и существовании атомов, а также махистский позитивизм»[24].
Среди ученых, описывающих модели только как несущественные вспомогательные средства для построения теорий, были Эрнст Мах, Генрих Герц и Пьер Дюгем. Среди тех, кто спорил о том, что без какой-либо материальной аналогии не существует достаточного основания для предположений, были Н.Р. Кэмпбелл, Э.Г. Хаттен и сама Хессе.
В случае с теорией резонанса реалисты и материалисты не должны смущаться тем, что они не в состоянии построить модель, адекватно объясняющую все реакции определенных химических соединений. Действительно, научная теория, лежавшая в основе классических моделей (теория валентности с точно локализованными химическими связями), давно отвергнута химиками. Современные теории валентности (в которых электроны рассматриваются как микрообъекты в терминах квантовой теории, обладающие, следовательно, как волновыми, так и корпускулярными характеристиками) не допускают таких структурных диаграмм. Однако квантовая теория уже познакомила нас с проблемой наглядности. Таким образом, хотя есть большой интеллектуальный интерес к интерпретации химической валентности, мало существует причин считать, что она является уникально трудным препятствием для сторонников философского реализма или материализма. Как заметила Хессе, «мы должны не удивляться, а быть готовыми к тому, что знакомые модели неадекватны в большей части современной физики»[25].
1. Шахпаронов М. И. Диалектический материализм и некоторые проблемы физики и химии. М., 1958. С. 86.
2. Замечание Л. Лонга, переводчика книги: Huskel W. Structural chemistry of inorganic Compounds. N. Y., 1950. P. 437.
3. Сыркин Я.К. Современное состояние проблемы валентности//Успехи химии. 1959. Август. Т. 27. С. 903-920.
4. Батуев М.И. К вопросу о сопряжении в бензоле//Журнал общей химии. 1958. Ноябрь. Т. 29. С. 3147-3154. См. также: Payling L. The Nature of the Chemical Bond. P. 233.
5. 26 марта 1962 г. Петр Капица, выдающийся советский физик, критиковал отношение советских философов к теории резонанса, так же как их отношение к теории относительности, принципу неопределенности Гейзенберга, генетике и кибернетике. См.: Экономическая газета. 1962. 26 марта.
6. Эта лекция была позже опубликована в Советском Союзе. См.: Полинг Л. Теория резонанса в химии//Журнал всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева. 1962. № 4. С. 462-467. Я благодарен д-ру Полингу за копию его статьи.
7. Щелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе. М., 1969. См. особенно с. 31, 44-46 и 136.
8. В дополнение к нижецитируемым источникам см.: Жданов Ю.А. Обращение метода в органической химии. Ростов, 1963; Добротин Р.Б. Химическая форма движения материи. Л., 1967; Кузнецов В.И. Эволюция представления об основных законах химии. М., 1967; последняя часть книги Кузнецова В.И. «Развитие учения о катализе». М., 1964; Кедров Б.М., Трифонов Д.Н. Закон периодичности и химические элементы. М., 1969; Кучер Р.В. Методологические проблемы развития теории в химии //Вопросы философии. 1969. № 6. С. 78-85; Зак С.Е. Качественные изменения и структура//Вопросы философии. 1967. № 1. С. 50-58; Жданов Ю.А. Значение ленинских идей для разработки методологических вопросов химии//Философские науки. 1970. № 2. С. 80-90.
9. См.: Жданов Ю.А. Очерки методологии органической химии. М., 1960.
10. См.: Будрейко Н.А. Философские вопросы химии. М., 1970.
11. См.: Кедров Б.М. Три аспекта атомистики. М., 1969. Т. 1-3.
12. См.: Семенов Н.Н. Марксистско-ленинская философия и вопросы естествознания // Вестник АН СССР. 1968. № 8. С. 24-40.
13. Там же. С. 24.
14. Там же. С. 25.
15. См.: Швырев В. Материалистическая диалектика и проблемы исследования научного познания // Коммунист. 1968. № 17. С. 40-51.
16. См.: Петров А.А., Бальян X.В., Трошченко А.Т. Органическая химия. М., 1981. С. 6, 25, 300.
17. Карапетьянц М.X., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. М., 1981. С. 95.
18. Курс общей химии: учебник для вузов. Под ред. Н.В. Коровина. М., 1981. С. 7-8.
19. Жданов Ю.А. Узловое понятие современной теоретической химии//Философия, естествознание, современность. М., 1981. С. 89.
20. Гаркавенко Р.В. Основные направления исследований философских вопросов химии // Там же. С. 340. Здесь Р.В. Гаркавенко ссылается на работу: Вихалемм Р.А. О разработке философских вопросов химии//Вопросы философии. 1974. № 6.
21. Post-Production Script, Horizon «Science for the People», November 2, 1981, VT Spool N L09167. Я благодарен Алену Джехлину из WGBH, Boston, за это сообщение.
22. Курашов В.И., Соловьев Ю.И. О проблеме «сведения» химии к физике// Вопросы философии. 1984. № 6. С. 89-98. См. также: Волькенштейн М.В. Физика и биология. М., 1980; Он же. Физика как теоретическая основа естествознания//Физическая теория: философско-методологический анализ. М., 1980. С. 110-117.
23. Как пример такой неправильной интерпретации теории резонанса см.: On «Nonresonance» Between East and West//Chemical and Emgineering News. 1952. 16. Jun. Vol. 30. P. 2474, и исправления Дж. В. Уэланда, напечатанные в том же томе на стр. 3160.
24. Hesse M. Models and Analogy in Science//The Encyclopedia of Philosophy. N. Y., 1967. Vol. 5. P. 356-357.
25. Hesse M. Models in Physics//The Britich Journal for the Philosophy of Science. 1953. Nov. P. 214.
Глава X. Квантовая механика
Из всех философских вопросов, поднятых современной физической теорией, наиболее острыми и существенными были вопросы квантовой механики. В философии естествознания учеными двух предшествующих поколений были выдвинуты несколько проблем — таких, например, как интерпретация специальной теории относительности, — которые привлекали внимание ученых на протяжении нескольких десятилетий или более, но сейчас уже утратили большую часть своей привлекательности; другие вопросы — такие, как обсуждение теории информации и искусственного интеллекта, — лишь недавно приобрели свое значение. Однако в случае с высокоматематизированным аппаратом квантовой механики спор продолжается уже более 50 лет, прошедших после первых публикаций[1]. В этом споре участвуют ученые многих стран, в том числе и из СССР. Структура квантовой механики может быть разделена на математический формализм и его физическую интерпретацию. Математический формализм, составляющий основу квантовой механики, есть дифференциальное волновое уравнение, решение которого определяет пси ( ψ ) функцию; это волновое уравнение было впервые выведено Эрвином Шредингером, который пытался применить сделанное Луи де Бройлем расширение корпускулярно-волнового дуализма не только к свету, но и к элементарным частицам материи. Достоинством этого формализма является то, что он предлагает, на вероятностной основе, числовые величины, делающие возможным более сложное математическое описание микрофизических состояний, включая предсказание будущих состояний, что было невозможным в любом другом формализме. Недостатком математического аппарата квантовой механики является то, что единственная широко принятая (а по мнению некоторых, единственно возможная) его физическая интерпретация противоречит нескольким из наиболее основных человеческих интуитивных представлений о материи. В особенности квантово-механические вычисления, в отличие от классических законов макроскопической области, не дают величин для пространственного положения и импульса микрочастиц с произвольной точностью. Согласно хорошо известному соотношению неопределенности, чем точнее известно положение микрочастицы, тем менее точно известен ее импульс, и наоборот[2].
Ввиду успеха математического аппарата квантовой механики для выведения полезных физических величин возникал естественный вопрос: каково физическое значение волновой функции? Может ли материя действительно иметь волновую природу? Как раз вопросу физической интерпретации математического аппарата квантовой механики были посвящены работы многих философов и естествоиспытателей[3].
Эволюция квантово-механических теорий — это путь, загроможденный неудовлетворительными объяснениями. Де Бройль изначально предположил, что материя волнообразна и что волны, описываемые квантовой механикой, не «представляют» систему, а сами есть система[4]. Это объяснение вызывает огромные трудности, которые мы не будем здесь рассматривать из-за их большой сложности. Природу некоторых из этих трудностей мы можем указать, заметив, что буквальное признание физической реальности волновой функции приведет к таким понятиям, как физическое пространство с почти бесконечной размерностью. И наиболее наглядным является неспособность такой интерпретации удовлетворительно объяснить, почему отдельный микрообъект при взаимодействии с чувствительной эмульсией оставляет пятно, а не отпечаток фронта волны[5]. Макс Борн первоначально выдвинул альтернативу: материя корпускулярна, а волновая функция описывает не частицы, а наши знания о них. Эта оригинальная теория, к сожалению, столкнулась с не меньшими трудностями при согласовании с физическими фактами, лучшей иллюстрацией которых может служить сейчас уже классический эксперимент по интерференции от двух щелей. Частицы пролетают через две узкие щели, а затем ударяются об экран, покрытый чувствительной эмульсией, и создают интерференционную картину, которая может быть объяснена лишь на основе волновых характеристик микротел.
Копенгагенская интерпретация, разработанная Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом, устранила противоречия предыдущих интерпретаций утверждением того, что никакое наблюдаемое не имеет величины до тех пор, пока не произведено измерение этого наблюдаемого. Как заявил Гейзенберг, «траектория» возникает только вследствие того, что мы ее наблюдаем»[6]. Таким образом, бессмысленно говорить о характеристиках материи в любой особый момент, не обладая эмпирическими данными, относящимися к этому моменту. Бессмысленно говорить о положении частицы («положение» является свойством корпускулярной теории) без измерения положения; также необоснованно было бы говорить об импульсе (волновое свойство) без его измерения. Такое примирение классически несовместимых характеристик путем утверждения их существования лишь в момент измерения обычно называется «дополнительностью» и является центром наиболее критических обсуждений квантовой механики.
Физики и философы естествознания не приходят к согласию ни по одному из определений дополнительности, хотя удовлетворительным является вышеизложенное определение, то есть противоречащие характеристики микрообъекта могут быть совместимыми при условии: существование отдельных характеристик утверждается лишь в отдельные моменты измерения. Другой формулировкой, обходившей вопрос «существования» характеристик, но тем не менее широко используемой, является утверждение о том, что квантовое описание явлений распадается на два взаимоисключающих класса, которые следует сочетать для того, чтобы иметь полное описание с помощью классических понятий. Именно эта последняя точка зрения была поддержана Оппенгеймером, когда он утверждал, что понятие дополнительности «признает: каждый из различных путей обсуждения физического опыта может иметь свою обоснованность и каждый может быть необходимым для адекватного описания физического мира и, несмотря на это, может находиться во взаимоисключающих отношениях с другим; таким образом, в ситуации, где подходит один, может не быть соответствующей возможности для приложения другого»[7]. Необходимо также добавить, что даже такие первоначальные лидеры квантовой механики, как Бор и Вольфганг Паули, не смогли достичь согласия в определениях дополнительности[8]. Основной проблемой в истории естествознания постоянно была вербальная интерпретация математических отношений.
До второй мировой войны взгляды советских физиков на квантовую механику были достаточно сходными со взглядами ведущих ученых во всем мире. Русская физика во многом была частью центрально- и западно-европейской физики. Работы таких ученых, как Бор и Гейзенберг, влияли на естествоиспытателей в Советском Союзе, так же как и на всех других ученых. В самом деле, советские физики говорили о «Русском филиале» копенгагенской школы, состоящей из группы талантливых физиков-теоретиков, включающей М.П. Бронштейна, Л.Д. Ландау, И.Е. Тамма и В.А. Фока. Однако, несмотря на внешнее согласие по квантовой механике с учеными других стран (или, более точно, расхождения, сходные с расхождениями ученых других стран), еще в 20-е годы отдельные советские физики осознавали, что диалектический материализм может со временем получить такую интерпретацию, которая сможет воздействовать и на их исследования[9]. Кроме того, Ленин посвятил целую книгу «Материализм и эмпириокритицизм» кризису в интерпретациях физики и особенно критиковал неопозитивизм Эрнста Маха, из которого происходит большая часть философии современной физики. Ленинское заявление о том, что диалектический материалист должен признавать существование материи отдельно и независимо от сознания, хотя и не прямо противоречило квантовой механике, однако могло рассматриваться, по крайней мере, как не сочетающееся с нежеланием копенгагенской школы рассматривать материю в отсутствие чувственных измерений. А распространение понятия дополнительности за пределы физики на другие области, включая этические и культурные проблемы, которое делалось некоторыми представителями копенгагенской школы, почти гарантировало конфликт с представителями марксизма[10]. Еще в 1929 г. ведущий советский философ того времени А.М. Деборин[11] читал в Академии наук лекцию «Ленин и кризис современной физики». Но первая серьезная критика традиционной интерпретации квантовой механики появилась в физическом журнале, а не в философском в 1936 г в статье К.В. Никольского[12]. Имел место спор между Никольским и В.А. Фоком, ведущим интерпретатором квантовой механики в Советском Союзе на протяжении более сорока лет, который изначально был приверженцем копенгагенской школы. В этом споре Никольский назвал копенгагенскую интерпретацию «идеалистической» и «махистской»[13], двумя ярлыками, которые получили после второй мировой войны широкое хождение среди советских марксистских критиков. Взгляд самого Никольского на квантовую механику заслуживает изучения и еще по одной причине: он был чисто статистическим подходом и мало отличался от послевоенной «ансамблевой» интерпретации Д.И. Блохинцева, которая будет обсуждаться более подробно далее.
С упоминанием «чисто статистического» подхода Никольского было бы уместным сделать здесь несколько замечаний по поводу понятия вероятности, которое является решающим для любой интерпретации квантовой механики. Вероятность в квантовой механике интерпретировалась различными учеными как в эпистемологическом, так и в статистическом смыслах. Статистический, или частотный, подход, использованный Никольским, был попыткой объективной интерпретации, в которой вероятность рассматривалась как присущая природе черта. С другой стороны, некоторые ученые рассматривали вероятность в квантовой механике, особенно через призму изначально данного Борном определения, как следствие имеющихся эпистемологических допущений. Эти ученые обсуждали даже такие необычные построения, как «волны знания». Различение этих двух подходов, которое часто терялось в дискуссиях по квантовой механике, является абсолютно необходимым для принятия решения: будет ли несводимо вероятностная теория также и обязательно идеалистической.
Интерпретация физического значения волновой функции, данная Фоком в 1936 г., практически совпадала с интерпретацией копенгагенской школы, совмещавшей особое внимание Бора к математическому описанию человеческого знания о микромире с его собственным выделением роли измерения; во введении к русскому переводу спора 1935 г., в котором против Бора выступали Эйнштейн, Подольский и Розен, Фок писал:
«В квантовой механике понятие о состоянии сливается с понятием «сведения о состоянии, получаемые в результате определенного максимально точного опыта». В ней волновая функция описывает не состояние в обыкновенном смысле, а, скорее, эти «сведения о состоянии»[14].
Значение этих довоенных взглядов Фока заключается в их тонком отличии от взглядов, выражавшихся им после войны, когда он попал под сильное давление, которое преследовало цель заставить его отказаться от представлений копенгагенской школы[15]. Тем не менее смена во взглядах Фока была малой, в сравнении с зигзагамн, имевшими место во взглядах других советских философов и естествоиспытателей.
Дебаты 30-х годов не оставили, однако, долговременного отпечатка на отношении к квантовой механике в Советском Союзе. Многие философы даже восприняли большую часть копенгагенской интерпретации. В начале 1947 г. украинский философ М.Э. Омельяновский (который составил вместе с Фоком и Блохинцевым триумвират, представления которого будут детально разобраны далее) обосновывал позицию по квантовой механике, которая была настолько близка к копенгагенскому направлению, что это вызвало значительные осложнения для автора уже через несколько месяцев после публикации. Его книга 1947 г. стала представлять больший интерес позднее, поскольку в ней содержались взгляды, к которым Омельяновский в дальнейшем снова вернулся и последовательно их разработал[16].
В этой работе, «В.И. Ленин и физика XX века», Омельяновский принял большую часть общепринятой интерпретации квантовой механики. Он признал и использовал такие термины, как «принцип неопределенности» и «принцип дополнительности Бора». (Годом позже этот термин у Омельяновского превратился в «так называемый принцип дополнительности».) Он выступал против такого использования этих понятий, которое могло бы привести к отрицанию физической реальности, что, по его словам, было сделано некоторыми исследователями (включая Бора), но главным тезисом книги была защита необычных, но необходимых понятий современной физики от приверженцев лапласовского детерминизма, явно устаревшего к тому времени[17]. Однако, хотя бы в ретроспективе, среди аргументов Омельяновского можно было заметить основу его собственной интерпретации квантовой механики и его последующего критического отношения к копенгагенской школе. Хотя он соглашался с копенгагенской терминологией, он подчеркивал, что корректная интерпретация квантовой механики начинается с распознавания особенных свойств микрочастиц, а не с проблем познания.
«Итак, мы приходим к заключению, что принцип неопределенности Гейзенберга, как и принцип дополнительности Бора, есть некоторое обобщенное выражение фактов двойственной (корпускулярной и волновой) природы микроскопических тел»[18].
Таким образом, принцип неопределенности не был в действительности эпистемологическим ограничением или ограничением знания, а прямым результатом объединенной волнообразной и корпускулообразной природы микрообъекта, что было материальным обоснованием того, почему классические понятия не могут быть применены к микромиру. Ввиду этого материального источника явления канонически сопряженных параметров никогда нельзя рассчитывать на одновременно точные величины для координаты и импульса элементарных частиц. Омельяновский скоро подвергся критике за его признание основного положения современных идей квантовой механики, и в конце концов он опубликовал второе издание своей книги, для которой характерно отрицание принципа дополнительности[19].
Наиболее существенным послевоенным событием для советской науки стала речь А.А. Жданова, произнесенная на дискуссии по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г. Это событие хорошо известно историкам Советского Союза. Жданов упомянул о специфически научных вопросах лишь в конце речи, и немного суждений было посвящено квантовой механике.
«Кантианские выверты современных буржуазных атомных физиков приводят их к выводам о «свободе воли» у электрона, к попыткам изобразить материю только лишь как некоторую совокупность волн и к прочей чертовщине»[20].
Хотя речь Жданова сейчас известна как начало наиболее напряженной идеологической кампании в истории советской науки — ждановщины, — первые несколько номеров нового журнала «Вопросы философии» были удивительно неортодоксальными[21]. Воспринимая серьезно лозунг журнала — «развивать и продолжать» марксистско-ленинскую теорию, — редакторы поддерживали жизненно важные дискуссии по некоторым философским вопросам. Не было области, в которой эта актуальность была бы настолько очевидной, как в философии физики; второй номер «Вопросов философии» содержал статью видного советского физика-теоретика М.А. Маркова, специалиста по релятивистской теории элементарных частиц, которая все еще остается наиболее откровенной публикацией со времен второй мировой войны[22]. Мы, возможно, никогда не узнаем, почему Марков выбрал именно этот момент усиления идеологического контроля после осуждения Ждановым Александрова, для того чтобы так подставить себя под лавину критики, однако этому существует несколько возможных объяснений. Марков был научным исследователем из Института физики АН СССР, организации, которая в прошлом наиболее стойко отстаивала общепринятые в мире научные взгляды и продолжавшая придерживаться их и в будущем, за что подвергалась острой критике политических активистов[23]. Возможно, физики-теоретики Академии начиная с 30-х годов осознавали, что при имеющейся свободе действий диалектического материализма он может быть использован против принятых интерпретаций квантовой механики, и решили, что начинающаяся идеологическая кампания несет в себе опасность навязывания официальной позиции квантовой механике. В этой ситуации необходимо было заранее сделать попытку самим сформировать такую официальную позицию, которая соответствовала бы представлениям современной квантовой механики. Марков, наверное, хорошо понимал, насколько спорной покажется его статья, однако надеялся, что, во-первых, она найдет поддержку и, во-вторых, что, даже если его точка зрения будет отвергнута, окончательный компромисс будет более приемлемым для физиков в результате твердо занятых им позиций. Более того, Марков мог получить некоторый выигрыш из междоусобицы профессиональных философов. Как показал ход дебатов, главный редактор нового философского журнала «Вопросы философии» вызывал антипатии у старой гвардии, которая в свое время выпускала «Под знаменем марксизма», являвшийся главным советским философским журналом с 1922 по 1944 г. Следовательно, обсуждение Маркова было многоплановым: оно было попыткой физиков защитить квантовую механику, оно было веским аргументом в борьбе среди философов и это была решающая битва, в которой определялось, кто же — физики или философы — будет иметь основное влияние в послевоенной философии естествознания.
Марков полностью принимал современную квантовую теорию и поддерживал позиции Бора в его споре с Эйнштейном, Подольским и Розеном. Таким образом, Марков рассматривал квантовую механику как полную в том смысле, что ни один эксперимент, не противоречащий квантовой механике, не может принести не предсказанные ею результаты. Соответственно, Марков отвергал все попытки объяснения поведения макрочастиц на базе теорий «скрытых параметров», которые позже могут сделать возможным возвращение к понятиям классической физики: «нельзя смотреть на квантовую механику как на испорченную «нашим незнанием» механику классическую»[24]. Такие дополнительные функции, как «импульс» и «положение», просто не имеют одновременных величин, и заявлять, что они их имеют, значило бы противоречить квантовой теории[25].
Не только точка зрения Маркова на сопряженные параметры была типична для копенгагенской школы, но и его подход к естествознанию имел мало диалектико-материалистических черт, несмотря на его эпиграфы из классиков марксизма. Он требовал, чтобы не делалось заявлений, которые невозможно проверить эмпирически; он принимал теорию относительности, включая относительность пространственных и временных интервалов. Без колебаний он использовал термин «дополнительность». Марков признавал, что его взгляд на естествознание был «материалистическим», и критиковал Джеймса Джинса и других зарубежных комментаторов науки, но нигде в своей статье он не сделал попытки иллюстрировать релевантность диалектического материализма к естествознанию.
Марков утверждал, что «истина» может быть получена из нескольких источников. Когда мы говорим о знании микромира, которое мы получаем с помощью приборов, то мы говорим о знании, происходящем из трех источников: природы, прибора и человека. Язык, которым мы пользуемся для описания нашего знания, так или иначе всегда является «макроскопическим», так как это единственный язык, который мы имеем. Измеряющий прибор играет роль «переводчика» микроявлений на доступный человеку макроязык. «Под физической реальностью понимается та форма реальности, в которой реальность проявляется в макроприборе»[26]. Таким образом, согласно Маркову, наше представление реальности субъективно потому, что оно выражается макроскопическим языком и «подготавливается» в акте измерения, но оно объективно в том смысле, что физическая реальность в квантовой механике есть макроскопическая форма реальности микромира.
Роль измерительного прибора является одним из наиболее щекотливых вопросов квантовой механики. Взгляды Маркова в общем совпадали с копенгагенской интерпретацией, согласно которой волна, описывающая физическое состояние, расширяется в направлении все больших величин вплоть до момента измерения, когда происходит редукция волнового пакета к точной величине. Такая интерпретация в действительности предполагает, что дополнительные микрофизические величины не имеют собственных определенных значений и что, напротив, такие величины определяются или «приготовляются» измерением.
За принятие копенгагенской интерпретации Марков подвергся критике с нескольких сторон, от догматических идеологов и до заурядных физиков, надеявшихся, что взгляды Бора и его коллег будут в конце концов заменены интерпретациями, более сочетающимися с обыденными представлениями. Статья Маркова очень скоро вызвала напряженнейший спор по вопросам природы физической реальности и диалектико-материалистической интерпретации квантовой механики[27]. В этот спор были вовлечены десятки участников.
Полемика началась статьей А.А. Максимова в «Литературной газете», что было несколько необычным для комментариев по философии естествознания[28]. Статья называлась «Об одном философском кентавре» и содержала серьезные обвинения против Маркова. Как видно из названия, Максимов рассматривал Маркова как странное существо, сочетающее западные идеалистические воззрения на философию естествознания с заверениями в своей лояльности по отношению к диалектическому материализму.
После выхода в свет статьи Максимова редакторы «Вопросов философии» приступили к публикации дискуссии по квантовой механике. Несколько авторов (Д. С. Данин, М.В. Волькенштейн и М.Г. Веселов) открыто поддержали Маркова, указывая на многочисленные ошибки Максимова. Известный физик Д.И. Блохинцев тоже высказал достаточно позитивные взгляды на интерпретацию квантовой механики, выдвинутую Марковым. Однако другие критики указывали на «антропоморфизм» Маркова в естествознании как результат его акцента на роль «наблюдателя» (Л.И. Сторчак) и на игнорирование им партийной лояльности, или партийности (И.К. Крушев, В.А. Михайлов)[29]. Но все же фактором, определившим конечное неодобрение статьи Маркова, стала дискуссия, несомненно, устроенная партией, с целью заменить Б.М. Кедрова на посту главного редактора «Вопросов философии» Д.И. Чесноковым. Ясно, что нападки Максимова на Маркова сыграли важную роль в поражении Кедрова[30]. В редакционной заметке нового состава редколлегии журнала (1948, № 3) отмечалось, что журнал не занял правильных позиций относительно квантовой механики, что особенно проявилось в случае со статьей Маркова, которая «ослабила позиции материализма». Статья содержала серьезные ошибки философского характера и в сущности своей была отходом от диалектического материализма в направлении идеализма и агностицизма[31].
Говоря об отдельных ученых, можно отметить, что непосредственной жертвой дела Маркова стал Кедров, но если иметь в виду философию естествознания, то жертвой стал принцип дополнительности. Рассматривая обсуждение квантовой механики в Советском Союзе, мы можем назвать период с 1948 по примерно 1960 г. эпохой изгнания принципа дополнительности[32]. Лишь немногие ученые, особенно В.А. Фок, делали в то время попытки рассматривать дополнительность как неотъемлемую часть квантовой теории.
Это критическое отношение к дополнительности после 1948 г. нашло свое ясное выражение в статье Я.П. Терлецкого, которая непосредственно предшествовала окончательному заключению редколлегии «Вопросов философии» по обсуждению Маркова. Терлецкий писал, что статья Маркова в действительности являлась попыткой обосновать признание дополнительности в результате придаваемой измерительным приборам роли «переводчиков» реальности, когда утверждения микрофизики часто становятся противоречивыми. Такая позиция, по мнению Терлецкого, была именно реставрацией мнения Маха о том, что естествоиспытатели должны описывать природу в терминах ощущений. Истинный же диалектико-материалистический подход, по словам Терлецкого, показал, что принцип дополнительности ни в коем случае не является основным физическим принципом и что квантовая механика вполне может «обойтись без него»[33].
Таким образом, в результате «дела Маркова» победу одержали идеологи-догматики. Идеолог Максимов одержал верх над творческим физиком-теоретиком из Академии наук Марковым. Но вместе с тем стало достаточно ясно, что Максимов был не в состоянии выдвинуть такую интерпретацию квантовой механики, которая имела бы шансы получить официальный статус[34]. Его статьи по квантовой механике ясно демонстрировали его невежество в данной области. И тот же Максимов одновременно противостоял не только эйнштейновской, но и галилеевской относительности, утверждая, что каждый объект обладает абсолютной траекторией и что метеорит запечатлевает на земле эту траекторию в результате столкновения[35]. Максимов был явным представителем псевдонауки, и его роль как в квантовой механике, так и в теории относительности носит чисто разрушительный характер: он выискивал среди советских естествоиспытателей «махистов» и «идеалистов», находя себе определенную поддержку в этой деятельности, но он не предлагал сколь-нибудь разумных альтернатив существующим интерпретациям физической теории. Как в случае с теорией относительности, Максимов быстро утратил свое влияние и среди советских интерпретаторов квантовой теории. После 1948 г. наступил период доминирования физиков и тех немногих философов, которые обладали достаточным знанием физики, однако все они испытали воздействие атмосферы, созданной делом Маркова. Примерно до 1958 г. главным интерпретатором квантовой механики был философ естествознания Омельяновский, который приблизился к теориям физика Блохинцева, защитника «ансамблевой» интерпретации. Также важной фигурой был Фок, который называл свою интерпретацию признанием «реальности квантовых состояний». Многие другие ученые также повлияли на обсуждения диалектического материализма и квантовой механики. Сюда входили А.Д. Александров, Я.П. Терлецкий, Б.Г. Кузнецов, а также иностранные ученые Луи де Бройль, Ж.П. Вижье и Давид Бом.
1. Двумя ценными сборниками статей, демонстрирующими многообразие выраженных взглядов, являются: Observation and Interpretation in the Philosophy of Physics. N. Y., 1957; Beyond the Edge of Certainty. N. Y., 1965.
2. Математически это выражается как [формула отсутствует], где x и px — пределы точности, в которых величины координаты и импульса соответственно выражаются одновременно, а h — это постоянная Планка, деленная на 2.
3. Следует отметить, что со времени возникновения классической науки и до сегодняшних дней имели место многие дебаты относительно физического значения математических формализмов. Так, автор предисловия к De Revolutionibus Коперника, лютеранский теолог Андреас Осиандер, попытался (в противоположность стремлениям самого Коперника) убедить читателей, что гелиоцентрическую систему необходимо рассматривать как полезную математическую фикцию, не представляющую физической истины. Можно также процитировать Ньютона, который отказывается признать, что его гравитационная теория доказывала наличие у материи врожденной силы притяжения, хотя математический аппарат теории как будто свидетельствует о наличии подобной силы, но он не может установить, что такое притяжение фактически существует. Описанные случаи с Коперником и Ньютоном хорошо известны; легко сослаться на: Kuhn T.S. The Copernican Revolution: Planetary astronomy in the Development of Western Thought. Cambridge, 1957. P. 187; Koyre A. From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore, 1957. P. 178-179.
4. Putnam H. A Philosopher Looks at Quantum Mechsnics//Beyond the Edge of Certainty. P. 78. Положение о том, что де Бройль первым предложил волновую теорию, имеет значение лишь в рамках современного математического аппарата; волновые интерпретации света прослеживаются вплоть до Френеля и Юнга в начале XIX в. и далее. Сходное с этим утверждение о том, что Борн первым предложил корпускулярную теорию, следует рассматривать с учетом теории света Ньютона (или ранних атомистов). См.: Ronchi V. Histoire de la lumiere. P., 1956.
5. Де Бройль объяснял такое пятно посредством «редукции волнового пакета».
6. Цит. по: Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. М., 1985. С. 319.
7. Oppenheimer J.R. The Open Mind. N. Y., 1955. P. 82.
8. Первым точное определение дополнительности дал не Бор, а Паули, и, как выяснилось, Бор соглашался не со всеми пунктами этого определения. Эти различия и в дальнейшем продолжали волновать интерпретаторов квантовой механики (см.: Джеммер М. Цит. произв. С. 343-344), и особенно различие между тем, что Вайцзеккер назвал «параллельной дополнительностью» и «циркулярной дополнительностью».
9. Краткое содержание ранних предупреждений находим у Д. Жоравского (Joravsky D. Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932. N. Y., 1961, особенно Р. 285-286).
10. Бор указывал, что понятие дополнительности может применяться в таких областях, как физиология психология, биология и социология. См. об этом в его книге «Atom theorie and Naturbreschreibung» и статье «Gausality and Complimentary», опубликованной в журнале «Dialectica». Этот номер «Dialectica» был полностью посвящен понятию дополнительности и содержал статью, в которой автор выдвигал тезис о потенциальной применимости дополнительности ко всем областям систематического изучения: Gonseth F. Remarque sur l'idee de complementarite // Dialectica. 1948. Vol. 2 N 3-4. P. 413-420.
11. См.: Деборин А.М. Ленин и кризис современной физики. Л., 1930.
12. См.: Никольский К.В. Принципы квантовой механики//Успехи физических наук. 1936. Т. 16. № 5 С 537-565. Позднее Никольский опубликовал книгу «Квантовые процессы» (М.; Л., 1940), в которой выдвигал те же взгляды. Статья Никольского 1936 г. подтвердила его согласие с позицией Эйнштейна, Подольского и Розена в их споре с Бором. См.: Эйнштейн А., Подольский Б., Розен Н. Можно ли считать квантово-механическое описание физической реальности полным? // Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. М., 1966. Т. 3. С. 604-611 а также статью Н. Бора под тем же названием в кн.: Бор Н. Избр. науч. труды. М., 1971. Т. 2. С. 180-191.
13. Никольский К.В. Ответ В.А. Фоку//Успехи физических наук, 1937. 1. 17. № 4. С. 555. В своей критике Никольского Фок утверждал, что квантовая механика описывает как действия отдельного микрообъекта, так и статистических групп: «К статье Никольского «Принципы квантовой механики»//Успехи физических наук. 1937. Т. 17. № 4. С. 553-554.
14. Фок В.А. Можно ли считать, что квантово-механическое описание физической реальности является полным?//Успехи физических наук. 1936. Т. 16. № 4. С. 437. В своем введении Фок явно указывает на то, что он считает Бора победителем в споре.
15. Фок до войны также вел дебаты с А.А. Максимовым, другим известным участником упомянутой дискуссии. См.: Фок В.А. К дискуссии по вопросам физики//Под знаменем марксизма. 1938. № 1. С. 149-159. В 1937 и 1938 гг. в журнале «Под знаменем марксизма» имелось несколько статей по философской интерпретации квантовой механики, включая работы Максимова, Э. Кольмана, П. Ланжевена и Никольского.
16. О защите Омельяновским теории относительности в этот период см. его работу: Ленин о пространстве и времени и теория относительности Эйнштейна// Известия АН СССР (Серия истории и философии). 1946. № 4. С. 297-308.
17. Омельяновский М.Э. В.И. Ленин и физика XX века. М., 1947, особенно с. 77 и далее. Омельяновский принимал относительность одновременности и пространственных и временных интервалов, эти понятия подвергались острой критике в советских философских журналах в публикациях последующих месяцев.
18. Там же. С. 95.
19. Критические заметки об Омельяновском см.: Карасев И., Ноздрев В. О книге М.Э. Омельяновского «В.И. Ленин и физика XX века»//Вопросы философии. 1949. № 1. С. 338-342, и статью В.В. Перфильева под тем же названием (Вопросы философии. 1948. № 1. С. 311-312). Второе издание было опубликовано на украинском языке «Боротьба матерiалiзму проти iдалiзму в сучаснiй фiзицi». Киев, 1947. (Автор приводит здесь название брошюры, изданной М.Э. Омельяновским в Киеве в 1947 г. В этом же году на украинском языке была опубликована в Киеве и сама доработанная монография «В.И. Ленин и физика XX века». — Прим. пер.)
20. Жданов А.А. Выступление на дискуссии по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии», 24 июня 1947 г. М., 1947. С. 43.
21. Первые четыре номера вышли под редакцией Б.М. Кедрова, которого сменил на посту Д.И. Чесноков, после того как Кедров разрешил опубликовать серию спорных статей. Кедров явно поддерживал статью Маркова и был вынужден отвечать за поток критики, вызванной этой статьей. Пять статей в первых номерах «Вопросов философии», включая статью Маркова, критиковались в статье «За боевой философский журнал», опубликованной 7 сентября 1949 г. в «Правде».
22. Марков М.А. О природе физического знания//Вопросы философии. 1947. № 2. С. 140-176.
23. Максимов заявлял, что вокруг Фока в Физическом институте им П.Н. Лебедева существовала группа ученых, отказывавшихся признавать диалектический материализм в естествознании. Максимов А.А. Борьба за материализм в современной физике//Вопросы философии. 1953. № 1. С. 178. Когда в этом институте обсуждались позиции Маркова, было выражено очень мало существенной критики. См.: Потков Л.Л. Обсуждение работы М.А. Маркова «О микромире»//Вопросы философии. 1947. № 2. С. 381-382. Критика началась позже.
24. Марков М.А. Вопросы философии. 1947. № 2. С. 150. Особенно активно теории «скрытых параметров» придерживался Д. Бомом. См.: Bohm D. Causility and Chance in Modern Physics. N. Y., 1961. P. 79-81, 106-109, 111-116.
25. См. там же. С. 146.
26. Там же. С. 163.
27. Этот спор описывается более детально в первом издании этой книги »Science and Philosophy in the Soviet Union«. Р. 75-81.
28. См.: Максимов А.А. Об одном философском кентавре//Литературная газета. 1948. 10 апреля. С. 3.
29. См.: Дискуссия о природе физического знания: Обсуждение статьи М.А. Маркова//Вопросы философии. 1948. № 1, С. 203-232. Среди других участников были Б.Г. Кузнецов и С.А. Петрушевский.
30. См.: Максимов А.А. Дискуссия о природе физического знания//Вопросы философии. 1948. № 3. С. 228.
31. См.: От редакции//Вопросы философии. 1948. № 3. С. 231-232.
32. Советские философы были весьма прямолинейными в попытках дискредитации дополнительности. Так, Сторчак отмечал: «В ходе дискуссии по статье Маркова было установлено, что принцип дополнительности был выдуман как идеалистическое искажение основ квантовой механики» // 3а материалистическое освещение основ квантовой механики.
33. См.: Терлецкий Я.П. Обсуждение статьи М.А. Маркова//Вопросы философии. 1948. № 3. С. 229.
34. Похоже, что он сыграл в данном споре ту же роль, что и Челинцев в споре о теории резонанса. См. гл.
35. См.: Максимов А.А. Марксистский философский материализм и современная физика//Вопросы философии. 1948. № 3. С. 114.
Д.И. Блохинцев
Д.И. Блохинцев, один из известнейших советских специалистов по квантовой механике и после 1956 г. директор Объединенного института ядерных исследований в Дубне, лауреат Ленинской и Сталинской премий, был ведущим автором в 50-60-е годы по философским вопросам квантовой механики[1]. В своей статистической интерпретации квантовой механики Блохинцев особенно выделяет роль «ансамблей». Он отмечал, что вероятность, содержащаяся в волновой функции, происходит из серии повторяющихся измерений. Таким образом, когда говорят о волновой функции одной частицы или одной системы, то на самом деле речь идет о большом количестве таких частиц или систем. Совокупность таких частиц, являющихся независимыми друг от друга и имеющих возможность выступать в роли материала для последовательных независимых экспериментов, была названа ансамблем. Соотношение неопределенности Гейзенберга, которое часто обсуждалось применительно к одной частице, было, согласна Блохинцеву, в действительности результатом измерений, проводимых для частиц, принадлежащих к одному ансамблю. Если все частицы ансамбля могут быть описаны с помощью одной волновой функции, то это — «чистый ансамбль». Если, однако, ансамбль состоит из подансамблей, каждый из которых описывается своей волновой функцией, то это «смешанный ансамбль». Отношение этого распределения по ансамблям к вопросу природы волновой функции было следующим: если измерение производится над чистым ансамблем, то, согласно Блохинцеву, сама эта операция приводит к тому, что ансамбль становится смешанным, так как само измерение переводит те немногие (а возможно, и одну) микрочастицы, на которые это измерение воздействует, в другое состояние, описываемое уже другой волновой функцией[2].
Наиболее полным изложением критики Блохинцевым копенгагенской школы, а также философского значения его альтернативной ансамблевой интерпретации стала обширная статья, появившаяся в 1951 г. в ведущем советском физическом журнале[3]. Блохинцев задался целью доказать, что квантовая статистика имеет объективную реальность и ни в коем случае не зависит от наблюдателя, в противоположность раннему положению Бора о том, что статистику можно рассматривать как результат неконтролируемого воздействия прибора на объект. Он отмечал, что радиоактивные атомы распадаются в соответствии со статистическими законами, не зависимыми ни от наблюдателей, ни от приборов. Блохинцев рассматривал явление радиоактивности как некоторый статистический ансамбль радиоактивных атомов, объективно существующих в природе»[4]. Настолько же зависимыми от объективных статистических законов были и космические лучи. И, по его словам, микроуровень материи был областью, где такие статистические законы были изначально объективными (не происходили из лежащих в основе причинных факторов) и поэтому были обычными. В противовес этому «копенгагенская школа отодвигает на задний план тот факт, что квантовая механика приложима только к статистическим ансамблям и сосредоточивается на анализе взаимоотношения единичного явления и прибора. Это существенная методологическая ошибка: в таком толковании вся квантовая механика приобретает «приборный» характер и объективная сторона дела затушевывается»[5].
Блохинцев утверждал, что квантовая механика была неприменима к отдельным микрообъектам, так как никакой микрообъект не может изучаться вне его окружения. Однако знание объективной реальности могло быть «в принципе» достигнуто путем изучения больших количеств микрочастиц.
«Квантовая механика изучает свойства единичного микроявления посредством изучения статистических закономерностей коллектива таких явлений»[6].
Блохинцев с готовностью допускал, что измерительная операция изменит состояние отдельной частицы, переводя эту частицу в другой ансамбль, но утверждал, что все оставшиеся в исходном ансамбле частицы все еще будут находиться в их предыдущих состояниях. Следовательно, ученый может представить себе объективную реальность при помощи понятий тотальности или ансамбля.
Блохинцев также указывал, что теория «скрытых параметров» квантовой механики может в будущем разрешить численное описание индивидуальных микрочастиц, хотя в настоящее время подобное описание невозможно. Он отклонил хорошо известные попытки Джона фон Неймана и Ганса Рейхенбаха опровергнуть теории со скрытыми параметрами, подчеркнув, что эти ученые исходили из существующего математического аппарата квантовой механики, который наверняка изменится с появлением новой теории[7]. Он также отверг взгляды Эйнштейна, Подольского и Розена, отмечая, что эти авторы основывались на применении волновой функции к отдельным частицам, в то время как, по его мнению, ее следовало применять лишь к группам или ансамблям[8].
Наиболее слабым местом интерпретации Блохинцева было его определение ансамбля. Он не преуспел в отделении квантового описания материи от процесса измерения, как это видно из анализа его определения ансамблей: Блохинцев определял ансамбль как комбинацию микросистемы (совокупности частиц) и ее макроокружения. Но что включает в себя «макроокружение»? Согласно Д.И. Блохинцеву, оно включает измерительные приборы в качестве «специальных случаев». Поэтому он определял волновую функцию как «ассоциацию» частицы с ансамблем[9]. Но здесь он попадает в логический круг, ибо, стремясь разделить квантовую механику и измерительные операции, он тем не менее включает измерение в свое определение ансамбля. Таким образом, пси-функция становится, как и раньше, вероятностным утверждением результатов измерения.
В последовавшем вскоре споре между Блохинцевым и Фоком концепция ансамблей явилась основным предметом рассмотрения. Фок очень быстро определил слабые места в рассуждениях Блохинцева об ансамбле. Он извлек фундаментальные элементы квантовой механики, определенные Блохинцевым в 1949 г.: а) ансамбль есть набор частиц, которые независимо друг от друга находятся в том же состоянии, характеризуемом волновой функцией; в) состояние частицы следует понимать только как принадлежность частицы к определенному ансамблю, так что с) волновая функция не относится к отдельной частице. Далее Фок показывает, что эти положения противоречат друг другу:
«В утверждении (а) содержится определение состояния отдельной частицы через ее волновую функцию, в утверждении же (с) отрицается, что волновая функция относится к отдельной частице. Это есть противоречие. Далее, в утверждении (а) ансамбль определяется через волновую функцию, а в утверждении (в) волновая функция определяется через ансамбль. Это есть порочный круг»[10].
Более того, продолжал Фок, Блохинцев не мог (хотя и старался) рассматривать ансамбли как статистические коллективы до тех пор, пока они не достигали критериев таких коллективов, в соответствии с установленной статистической теорией. Согласно этой теории, статистический коллектив является серией элементов, обладающих различными признаками, по которым можно сортировать эти элементы. Таким признаком будет значение определенной физической величины или группы физических величин, измеряемых одновременно. Но, согласно квантовой механике, микрочастицы не обладают определенными величинами, которые позволили бы отбор определенного коллектива. Поэтому Блохинцев, по словам Фока, не имел возможности даже обозначить члены его разрекламированных ансамблей, которые реально были лишь «умозрительными конструкциями». Вместо того он должен был честно заявить, что его квантовые ансамбли скрывали обращение к статистическому утверждению результатов измерений микрообъектов, проводимых с помощью классических приборов, созданных для измерения заданных величин. Фок заключил, что неверная позиция Блохинцева была связана с позицией Бора:
«Мы видим основную причину всех затруднений в том, что чисто статистическая точка зрения неправильна в философском отношении. В противоположность тому, чему нас учит диалектический материализм, статистическая точка зрения исходит не от объектов природы, а от наблюдений, не от микрообъекта с его состоянием, а от статистического коллектива результатов наблюдений. Это сближает ее с позитивистской точкой зрения Бора, который тоже отрицает, что волновая функция принадлежит микрообъекту, и придает волновой функции лишь чисто символический смысл»[11].
Блохинцеву было нелегко ответить на эту критику, испытывая неудобства с определением ансамблей, что видно по его колебаниям в работах на эту тему. Большая часть его ответа состояла из критики положения самого Фока о том, что волновая функция является объективным описанием отдельных микротел. Этот аспект их спора будет рассматриваться в следующем параграфе, посвященном фоковской интерпретации квантовой механики. По поводу определения ансамблей Блохинцев лишь подтвердил свои предыдущие взгляды, защищаясь от критики Фока положением о том, что, пока возможно представить себе чистый ансамбль, возможно и концептуально отделить квантовое описание материи от измерения и, следовательно, от субъективизма или идеализма. Этот гипотетический ансамбль будет таким, над которым нельзя провести измерение и который, следовательно, может в принципе быть описан одной волновой функцией. Но так как в действительности не было сделано ни одного измерения, о таком ансамбле нельзя сказать ничего, кроме того, что он «существует», согласно Блохинцеву[12].
В 1966 г. Блохинцев опубликовал интересную книгу «Принципиальные вопросы квантовой механики»[13], которая позже была переведена на английский язык и издана в Европе и Соединенных Штатах под названием «Философия квантовой механики». В этой книге взгляды автора на философские вопросы квантовой механики излагаются наиболее полно; книга заслуживает внимательного изучения как работа ведущего советского физика. Подход Блохинцева был в высшей степени специальным, и он предупреждал читателей, что «эта монография является книгой по теоретической физике, а не философским трактатом» (с. 4)[14]. Однако ясно, что Блохинцев полностью признавал взаимодействие физики и философии и обращался к нескольким главным аспектам этого взаимодействия. Исследование Блохинцева было как просвещенным, так и терпимым; если философы нашли отдельные неясные положения в определении, то необходимо помнить, что философы и естествоиспытатели везде пришли к соглашению о том, что интерпретация квантовой механики — неимоверно тяжелая проблема. По этим пунктам не существует согласия.
Практически книга Блохинцева 1966 г. была попыткой пояснения и поддержки ансамблевой интерпретации квантовой механики, которую он ранее развивал. В новой работе были небольшие изменения в расстановке акцентов и ударений, особенно в его взглядах на возможность нахождения скрытых параметров в квантовой механике. Его описание пси-функции тоже немного изменилось. Однако сохранились расхождения между ним и Фоком по поводу ценности ансамблевого подхода и применимости пси-функции к отдельной частице. Реальное значение новой книги состояло, однако, не в обсуждении этих вопросов, так как его взгляды остались практически неизменными, а в целостном описании причинности и критике детерминизма. Даже несмотря на то, что книга была написана и опубликована в 1966 г., когда естествоиспытатели не испытывали сильного давления со стороны идеологов в Советском Союзе, взгляды Блохинцева были практически продолжением и дальнейшим развитием предыдущих обсуждений. Эта преемственность проистекала не столько из политики, сколько из привлекательности для Блохинцева основных философских вопросов интерпретации природы.
Блохинцев начал свою книгу 1966 г. с критики того, что он назвал «иллюзией детерминизма». Он полагал, что развитие науки — и особенно нового понимания природы, — вытекающее из квантовой механики, демонстрировало слабые стороны веры в строгий детерминизм. Заблуждения этого «поклонения идеальному детерминизму» были частично замечены, по словам Блохинцева, некоторыми критиками лапласовского механизма еще в XIX в., такими, как Энгельс, который писал в «Диалектике природы», что «с необходимостью этого рода мы тоже еще не выходим за пределы теологического взгляда на природу» (с. 1). «Человечество долго верило в предопределение божие и, позднее, в железную причинную связь. Близкое философское родство и неполноценность этих воззрений были поняты Энгельсом, а многовековое непонимание этого родства было поводом для трагедий и стоило жизни многим выдающимся людям» (с. 6).
Детерминизм в классическом смысле, замечал Блохинцев, означал, что «состояние системы в предшествующий момент времени полностью определяет ее состояние в последующий момент времени» (с. 45). Даже до развития квантовой механики, однако, были причины сомневаться в ценности такой концепции Вселенной. Любая попытка жестко предсказать будущее системы, отмечал Блохинцев, испытывает влияние неточности начальных данных, непредсказуемости случайных сил и невозможности полной изоляции системы. Все три из этих ограничений классической физики обычно игнорировались, комментирует Блохинцев, однако философская интерпретация мира, рассматривающая его как взаимосвязанное целое, должна была бы более полно раскрыть хотя бы невозможность изоляции какой-либо системы. Согласно Блохинцеву, эта черта особенно важна.
«Будущее механической системы может быть предсказано только в том случае, если наперед гарантируется изолированность системы. Эта гарантия не вытекает, однако, из уравнений движения, а является дополнительным условием, которое наносит серьезный ущерб репутации детерминизма. Грандиозное и мрачное «если» вырастает на пути того пророка, который по начальным данным намерен предсказать будущее реальной механической системы» (с. 17).
Таким образом, отмечает он, «даже в такой точной науке, как небесная механика, необходимо время от времени подправлять исходные данные, чтобы устранить накопившуюся ошибку» (с. 21). И он подразумевал, что эта необходимость не была практической, а скорее теоретической, так как во взаимосвязанной Вселенной существует бесконечное количество потенциальных воздействий.
Все эти соображения относились к классической механике. С развитием квантовой механики и появлением необходимости вероятностных описаний природы по явно важным для микротел причинам ошибочность всего классического подхода к детерминизму стала очевидной.
Означал бы отказ от строгого детерминизма капитуляцию принципа причинности? Блохинцев отрицательно отвечал на этот вопрос, так же как Фок и другие советские комментаторы. Он был согласен с тем, что необходимо было принять новый взгляд на определения причинности, но он чувствовал, что такое переопределение было полностью оправдано как часть постоянных попыток человека обнаружить порядок в природе. И Блохинцев определял причинность следующим образом:
«Причинность есть определенная форма упорядочения событий в пространстве и времени, и эта упорядоченность накладывает свои ограничения даже на самые хаотические события. В статистических теориях она выражается двояким образом. Во-первых, сами статистические закономерности полностью упорядочены и величины, характеризующие ансамбль, сами по себе строго детерминированы. Во-вторых, индивидуальные элементарные события также упорядочены таким образом, что одно из них может повлиять на другое только в том случае, если их взаимное расположение в пространстве и времени позволяет сделать это без нарушения причинности (то есть правила упорядочивающего события)» (с. 45).
В рамках такого понимания причинности Блохинцев рассматривал квантовую механику как причинную; для него уравнение Шредингера выражало причинность в квантовой теории, так как оно описывало движение квантового ансамбля «причинным образом, то есть так, что предыдущее во времени состояние ансамбля определяет его последующее состояние» (с. 47). Таким образом, можно сохранить не только понятие причинности, но даже сильно модифицированное понятие детерминизма.
По вопросу о ценности термина «дополнительность» Блохинцев писал в своей книге 1966 г., что Бор сформулировал это понятие так, что оно отражало его философские позиции, «далекие от материализма» (с. 31). Блохинцев сожалел по поводу этого аспекта философии Бора, которая «послужила истоком для далеко идущих выводов о том, что современная механика атома несовместима с материализмом» (с. 31). Для того чтобы противостоять этому заключению, Блохинцев предпочел бы другой термин вместо «дополнительности», но он понимал, что этот термин уже слишком прочно вошел в научную практику.
«Кажется, что вообще было бы разумнее говорить не о принципе дополнительности, а о принципе «исключительности»: динамические переменные следовало бы разбить на группы взаимно исключающих друг друга переменных, не осуществляющихся одновременно в реальных ансамблях. Но из уважения к великому Бору и к установленной им традиции мы сохраним обычную терминологию» (с. 31).
Блохинцев рассматривал будущее квантовой механики в главе «Можно ли обойтись без волновой функции?». Он отметил изменения собственных взглядов по этому вопросу:
«Автор этой монографии сам надеялся одно время, что изящные аналогии между уравнениями для матрицы R(q, p) (матрицы плотности. — Прим. пер.) и уравнениями классической статистической физики, может быть, позволят развить квантовую механику как статистическую механику одновременно неизмеримых величин» (с. 54).
Но теперь он почти полностью отказался от этой надежды. В действительности, говорил он, невозможно указать хотя бы один экспериментальный факт для демонстрации того, что квантовая теория неполна в области атомных явлений. Тем не менее он признавал теоретическую возможность значительного пересмотра квантовой механики в дальнейшем. Он писал:
«Возможно ли введение в квантовую механику каких-либо «скрытых параметров», которые могли бы сделать осмысленной пропорцию вида:

где х — неизвестная, более полная теория?
Строго говоря, в столь общей, чисто методологической, постановке вопроса нельзя отвергнуть возможность разрешимости символической пропорции (1) или какой-либо другой, ей подобной» (с. 134-135).
Однако Блохинцев скептически относился ко всем подобным попыткам, сравнивая тех кто их делал, с «изобретателями неподмокаемого пороха». Он полагал, что существующая структура квантовой механики была вполне адекватна представлениям физиков и не должна вызывать обеспокоенности у философов, поскольку она обогащает человеческое понимание причинности и объективной реальности.
1. См.: Блохинцев Д.И. Введение в квантовую механику. М.; Л., 1944, и переработанное издание этой же книги «Основы квантовой механики». М.; Л., 1949. В хвалебной рецензии на это издание Сторчак отмечал, что книга хорошо выступает в роли диалектико-материалистического изложения квантовой механики. См.: За материалистическое освещение основ квантовой механики. С. 202.
2. Блохинцев Д.И. Введение в квантовую механику. С. 52, 58.
3. Блохинцев Д.И. Критика идеалистического понимания квантовой теории// Успехи физических наук. 1951. Октябрь. № 2. С. 195-228.
4. Блохинцев Д.И. Критика идеалистического понимания квантовой теории// Успехи физических наук. 1951. Октябрь. № 2. С. 209.
5. Там же. С. 210.
6. Там же. С. 213.
7. Многие западные исследователи квантовой механики соглашались с Блохинцевым по этому поводу. См., напр.: Feyerabend P.K. Problems of Microphysics // Frontiers of Science and Philosophy. Pittsburgh. 1962. Р. 207.
8. Эта позиция Блохинцева показывала, что он не был полностью согласен с довоенной интерпретацией Никольского, как это часто утверждалось. Никольский соглашался с Эйнштейном, Подольским и Розеном. См.: Никольский К.В. Принципы квантовой механики//Успехи физических наук. 1936. Т. 16. № 5. С. 537- 565.
9. Блохинцев Д.И. Критика идеалистического понимания квантовой теории. С. 211.
10. Фок В.А. О так называемых ансамблях в квантовой механике//Вопросы философии. 1952. № 4. С. 170.
11. Там же. С. 173.
12. См.: Блохинцев Д.И. Ответ академику В.А. Фоку//Вопросы философии. 1952. № 6. С. 172-173. В статьях 60-х годов Блохинцева физический смысл волновой функции заботил меньше, чем релятивистская квантовая механика, квантовая теория поля и попытки найти систему для рациональной классификации элементарных частиц. См., напр.: Блохинцев Д.И. Проблемы структуры элементарных частиц//Философские проблемы физики элементарных частиц М., 1964. С. 47-59.
13. Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики. М., 1966.
14. Последующие ссылки на книгу Блохинцева будут указаны в тексте.
В.А. Фок
Академик В.А. Фок уже упоминался при обсуждении взглядов Блохинцева. Темой этого раздела будет специальное обсуждение фоковской интерпретации квантовой механики.
Фок, физик-теоретик из Ленинградского университета, был избран действительным членом Академии наук СССР в 1939 г., удостоился Сталинской премии в 1946 г. и Ленинской премии в 1960 г. Он работал над проблемами математической физики и особенно теории относительности и квантовой механики. Он также интересовался философскими выводами современной физики и много писал на эту тему, вплоть до своей смерти в 1974 г. Как его естественнонаучные, так и философские работы привлекали внимание за рубежом.
На протяжении многих дискуссий Фока отличало сильное чувство независимости, он неоднократно защищал себя от советских и зарубежных критиков. В квантовой механике Фок может быть с полным основанием назван последователем копенгагенской интерпретации Бора, если говорить о минимуме, а не о максимуме претензий копенгагенской интерпретации (это «смысловое ядро» копенгагенской интерпретации однажды описывалось Н.Р. Хансеном как «много меньшая и более неуязвимая для стрельбы цель, чем безапелляционные высказывания меланхоличного датчанина»)[1].
Фок принял участие в философской дискуссии по квантовой механике, так как верил, что можно принять научный подход Бора, не принимая его философских заключений. Он решил освободить формулировки Бора от «позитивистского налета»[2].
Наиболее точным определением позиции Фока было бы следующее: хотя в ней и были несколько временных колебаний, его воззрения подверглись тем же сдвигам, что и воззрения Бора. В нескольких случаях эти сдвиги, все в сторону меньшего акцента на роль измерения и большего упора на реалистический взгляд, имели место сначала у Фока, а уже потом у Бора. Возможно, что Фок мог оказывать влияние на Бора. Оба естествоиспытателя знали работы друг друга, а в феврале и марте 1957 г. они провели несколько бесед о философском значении квантовой механики. Обсуждения проходили в Копенгагене, как у Бора дома, так и в его Институте теоретической физики. Позже Фок следующим образом комментировал эти беседы:
«Бор с самого начала сказал, что он не позитивист и старается просто рассматривать природу такой, какова она есть. Я указал на то, что некоторые его формулировки дают повод к толкованию его высказываний в позитивистском смысле, которого он, по-видимому, вовсе не хотел им придать... Наши точки зрения постоянно сближались; в частности, выяснилось, что Бор полностью признает объективность атомов и их свойств, признает, что следует отказаться только от детерминизма лапласовского типа, но не от причинности вообще, что термин «неконтролируемое взаимодействие» неудачен, а что на самом деле все физические процессы контролируемы»[3].
Именно после этого обмена мнениями Фок заметил: «...после исправления Бором его формулировок, мне кажется, во всем основном с ним можно согласиться»[4].
До этого Фок определенное время критически относился к невнимательности Бора к философским вопросам.
В 30-х годах, однако, когда Бор был еще более непосредствен в своих заявлениях, Фок был одним из лидеров копенгагенского направления в СССР и последовательно защищал свои взгляды в журналах. Фок был солидарен с позицией Бора в споре последнего с Эйнштейном по поводу полноты квантовой теории. Во время войны и некоторое время после нее Фок несколько изменил терминологию своей защиты копенгагенских представлений, но не изменял своих позиций. Действительно, одним из ярких аспектов жизненного пути Фока, да и всей истории советской философии естествознания, было то, что ему удалось отстаивать понятие дополнительности в течение долгого времени, когда это понятие было даже официально осуждено в философских журналах. В это время Фок занимал необычную позицию: его взгляд на квантовую механику не был принят, однако его интерпретация теории относительности получала все большее признание. Ничто не могло бы лучше продемонстрировать всю тонкость советских дискуссий по философии естествознания — тонкость большую, нежели желает признать большинство зарубежных обозревателей, — чем взгляды Фока, одновременно и находившиеся под запретом и получавшие одобрение. После 1958 г. фоковская интерпретация квантовой механики получила гораздо большее признание и была в конце концов воспринята философом Омельяновским, который до этого поддерживал платформу Блохинцева. Ирония заключалась в том, что в это же время фоковская интерпретация теории относительности, хотя и сохраняла свое влияние, все более критиковалась, например М.Ф. Широковым[5]. Даже если все эти изменения кажутся непонятными, мы можем обнаружить некую последовательность в том, что оба эти поздних изменения (в сторону от Фока в релятивизме и к Фоку в квантовой механике) продвинули советскую науку ближе к господствующим зарубежным интерпретациям, которые и сами подвергались определенным изменениям.
Основным в усилиях Фока по интерпретации квантовой механики было утверждение того факта, что копенгагенская интерпретация, включающая принцип дополнительности, не противоречит диалектическому материализму. Еще в 1938 г. он заявлял, что «тезис о противоречии между квантовой механикой и материализмом есть тезис идеалистический». Боровский принцип дополнительности для Фока был «неотъемлемой частью квантовой механики» и «твердо установленный, объективно существующий закон природы»[6]. Более тридцати лет он защищал позиции копенгагенской школы, хотя четко отмежевывался от отдельных взглядов Бора, таких, как его раннее приписывание главной роли процессу измерения. Тем не менее его интерпретация физического смысла пси-функции была такой же, как у Бора. До второй мировой войны Фок не рассматривал волновую функцию как описание состояния материи. Он отмечал, что такова была позиция Эйнштейна, который позже столкнулся с парадоксами. Фок, как и Бор, рассматривал пси-функцию как описание «сведения о состоянии»[7]. Неудивительно, что Фок принял участие в двух очень острых спорах с Максимовым, которые разделял промежуток в пятнадцать лет. Максимов характеризовал Фока как сознательного сторонника идеалистической буржуазной копенгагенской школы, в то время как Фок писал, что Максимов прекрасно демонстрирует, как не следует вести борьбу за материализм[8].
Самым трудным для Фока периодом было время сразу после дела Маркова. Новая позиция, выдвинутая Терлецким и быстро поддержанная Омельяновским, заключалась в том, что соотношение неопределенности Гейзенберга является неотъемлемой частью квантовой механики и должно быть сохранено, но что дополнительность не следует из неопределенности.
Согласно Фоку, напротив, не было существенного различия между соотношением неопределенности Гейзенберга и дополнительностью[9]. Оба являлись результатом пересечения границы между макроуровнем и микроуровнем. Вполне понятно, отмечает Фок, что если давать описание микроуровня материи в терминах, применимых к этому уровню (микро-язык), то новый вид «дополнительности» возникает при попытке описать макроуровень в этом микроязыке. Эта новая дополнительность будет аналогична (но и отлична от) дополнительности существующей квантовой механики, которая основана на описании в макроязыке[10]. В таком взгляде необходимое для диалектического материализма минимальное ядро объективной реальности в каждом физическом описании действительно становится очень расплывчатым[11]. За свое отождествление неопределенности и дополнительности Фок подвергся жесткой критике. В известной «Зеленой книге» 1952 г. по философским проблемам естествознания (с редколлегией во главе с ультраконсервативным Максимовым) Омельяновский писал:
«К сожалению, некоторые наши ученые... не сделали до сих пор еще всех необходимых выводов из той критики, которой подвергла советская наука реакционные идеи копенгагенской школы. Например, В.А. Фок в прежних своих работах не отличал, по сути дела, соотношения неопределенностей от принципа дополнительности Бора»[12]. Эта критика заставила Фока изменить свою терминологию и временно приостановить свою защиту дополнительности. Если до того он рассматривал пси-функцию как описание «сведений о состоянии», то теперь он называл пси-функцию характеристикой «реального состояния» микрообъектов[13]. В 1951 г. Фок указывал, что в силу расплывчатости начального значения дополнительности он вполне может от нее отказаться.
«Первоначально под дополнительностью разумелось то положение, которое вытекало непосредственно из соотношения неопределенностей: дополнительность относилась к неопределенностям в координате и в количестве движения... и термин «принцип дополнительности» понимался как синоним соотношений Гейзенберга. Очень скоро, однако, Бор стал видеть в своем принципе дополнительности некий универсальный принцип... применимый не только в физике, но и в биологии, психологии, социологии и во всех науках... Однако, поскольку термин «принцип дополнительности» потерял свой первоначальный смысл... лучше всего от него отказаться»[14].
Одно из наиболее полных изложений фоковской интерпретации квантовой механики дается в сборнике статей по философским проблемам естествознания, опубликованном в Москве в 1959 г.[15] Написанное во время относительной свободы от идеологических ограничений, оно являет собой пример научной строгости и философской убежденности. Фок начинает дискуссию с обсуждения попыток интерпретации волновой функции согласно классическим концепциям и показывает их несостоятельность. Примерами классических интерпретаций были изначальные попытки де Бройля и Шредингера объяснить волновую функцию как распространяющееся в пространстве поле, подобно электромагнитному и другим до того неизвестным полям. Примером классической интерпретации был также более поздний взгляд де Бройля на поле как носителя частицы, осуществляющего контроль над ее движением (теория волны-пилота)[16]. «Квантовый потенциал» Бома был тем же самым типом объяснения, так как в нем делалась попытка сохранить понятие траектории[17]. Таким же образом концепция Вижье о частице как точке или фокусе в поле была попыткой сохранить классические идеи в физике[18]. Фок считал, что все эти интерпретации были очень искусственными и не имели эвристической ценности; они не только не давали решения ранее неразрешимым проблемам, но их авторы даже и не пытались такие решения дать.
Фок полагал, что действительный смысл волновой функции стал проявляться в статистической интерпретации Макса Борна, особенно после того, как Нильс Бор соединил этот подход со своей собственной позицией относительно важности средств наблюдения. Фок соглашался, что этот акцент на измерительные приборы был существен для квантовой механики, но именно в этом пункте Бор допускал ошибку.
«В принципе, должно быть, возможно довести описание до показаний приборов. Но излишнее подчеркивание роли прибора дает повод упрекнуть Бора в том, что он недооценивает необходимость абстракции и как бы забывает о том, что предметом изучения являются свойства микрообъекта, а не показания приборов»[19].
Бор потом еще болеё усложнил путаницу, по словам Фока, применением неточной терминологии, которую он был вынужден ввести, чтобы прикрыть несоответствие, возникшее с его попыткой применить классические понятия в несвойственной им области. Одним из наиболее важных случаев использования неточной терминологии является его противопоставление принципа дополнительности принципу причинности. По словам Фока, такой оппозиции не существует, если правильно определить оба понятия. Дополнительность, существующая в квантовой механике, является дополнительностью между классическим описанием и причинностью. Но это не отвергает причинность как таковую, так как классическое описание макрочастиц неизбежно неприменимо к микрочастицам. Использование классического описания (макроязыка) является не более чем неизбежным методом, так как мы не располагаем микроязыком. Понимая, что микроописание микрочастиц будет отличаться от классического описания этих же частиц, мы можем сказать, что на обоих уровнях (микро- и макро-) сохраняется принцип причинности. Однако, так как мы всегда используем макроописание, мы должны переопределить причинность так, чтобы она удовлетворяла обоим уровням. Нашим новым подходом, считает Фок, должно стать понимание причинности как признания существования законов природы, особенно связанных с общими свойствами пространства и времени (конечная скорость действия, невозможность воздействия на прошлое). Поэтому причинные законы могут быть либо статистическими, либо детерминистскими. Действительное отсутствие причинности в природе означало бы для Фока, что не может быть выдвинуто даже вероятностное описание; все результаты будут одинаково вероятны. Заканчивая свои заметки по причинности, Фок отметил, что во время последних бесед он обнаружил, что и Бор согласен с этими соображениями. Таким образом, некоторое переопределение дополнительности и причинности будет большим шагом в сторону укрепления копенгагенской интерпретации.
Мнение Фока о роли измерения в квантовой механике основывалось на признании объективной реальности. Он признавал соотношение неопределенности Гейзенберга как фактуальное утверждение точности измерений на микроуровне. Но эта относительность к средствам измерения ни в коем случае не пересекалась с объективностью.
«В квантовой физике относительность к средствам наблюдения только уточняет физические понятия... Объекты микромира являются столь же реальными и их свойства столь же объективными, как и свойства объектов, изучаемых классической физикой»[20].
Прибор играет важную роль в квантовой механике, отмечал Фок, но нет причин преувеличивать эту роль, так как прибор является не более чем частью объективной реальности, подчиняясь физическим законам. Значение прибора в том, что он неизбежно дает описание в классических терминах.
Однако основой квантовой механики, согласно Фоку, является нечто совершенно новое в естествознании: потенциальная возможность для микрообъекта появляться, в зависимости от их внешних условий, то как волна, то как частица или в промежуточной форме[21]. Эта новая концепция, в паре со статистическими характеристиками состояния объекта, приводит нас к другому пониманию причинности и материи. Бор пытался прийти к этому новому пониманию путем акцентирования роли прибора и понятия дополнительности. Фок предпочел несколько другой путь:
«Но я пытаюсь привлечь новые понятия, например понятие заложенных в атомном объекте потенциальных возможностях, и мне кажется, что математический аппарат квантовой механики... может быть правильно понят только на основе этих новых понятий»[22].
Фок, таким образом, полагал, что его существенным вкладом в интерпретацию квантовой механики была идея «потенциальных возможностей» и вытекающее отсюда разделение между потенциальными возможностями и действительно реализованными результатами в физике. Как будет показано далее, подход Фока резко отличался от интерпретаций со скрытыми параметрами, так как он не верил, что возможно в принципе достижение точного описания микрочастиц.
Фок различал три различные стадии в экспериментах, предназначенных для изучения свойств атомных объектов: подготовка объекта, поведение объекта в фиксированных внешних условиях и само измерение. Эти стадии могут быть названы «подготовляющей частью», «рабочей частью» и «регистрирующей частью» эксперимента. В экспериментах по дифракции на кристаллах подготовительной частью будет источник монохроматического потока электронов, так же как и диафрагма перед кристаллом, рабочей частью будет сам кристалл, а регистрирующей частью будет фотопластинка. Фок подчеркивал, что в таком эксперименте существует возможность изменить последнюю часть (измерение) без изменения двух первых частей, и он строил свою интерпретацию квантовой механики на этом признании. Таким образом, варьируя конечную стадию эксперимента, можно производить измерения величин (энергии, скорости, положения), которые происходят от одного и того же начального состояния объекта.
«Каждой величине соответствует своя серия измерений, результаты которой выражаются в виде распределения вероятностей для этой величины. Все указанные распределения вероятностей могут быть выражены параметрически через одну и ту же волновую функцию, которая не зависит от заключительной стадии опыта и тем самым является объективной характеристикой состояния объекта непосредственно перед заключительной стадией»[23].
В последнем предложении, таким образом, содержится смысл часто цитируемого утверждения Фока о том, что волновая функция является объективным описанием квантовых состояний. Волновая функция объективна в том смысле, писал Фок, что она требует объективного (независимо от наблюдателя) описания потенциальных возможностей взаимных воздействий объекта и прибора. Таким образом, естествоиспытатель будет прав, полагал Фок (в противоположность Блохинцеву), говоря, что волновая функция относится к отдельному объекту. Но это объективное состояние еще не является актуальным, продолжал Фок, так как еще не реализовалась ни одна из потенциальных возможностей. Переход от потенциально возможного к существующему происходит на конечной стадии эксперимента. Таким образом, Фок завершает свою интерпретацию квантовой механики утверждением реалистической (он бы сказал, диалектико-материалистической) позиции в философии естествознания. Тем не менее его распространение понятия реализма на утверждения, относящиеся к потенциальным, а не актуальным ситуациям, было открыто для ряда логических возражений.
1. Hanson N.R. Five Coutions for the Copenhagen Interpretation's Critics// Philosophy of Science. 1959. V. 26. P. 327.
2. См.: Фок В.А. Нильс Бор в моей жизни//Наука и человечество. 1963. М., 1963. С. 518-519.
3. Там же. С. 519.
4. Фок В.А. Об интерпретации квантовой механики // Философские проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 235. В 1965 г. Фок так писал о своем одобрительном, но тем не менее критическом подходе к интерпретации Бора: Le merite d'une nouvelle position du probleme de la description des phenomenes a 1'echelle atomique appartient a Niels Bohr; le point de vue adopte dans le present article est le resultat de nos recherches et meditations ayant pour but d'apporofondir, de preciser — et si necessaire de critiquer et de corriger — les idees de Bohr (Fock V.A. La physique quantique et les idealisations classiques//Dialectica 1965. N 3-4. P. 223).
5. См., напр.: Широков М.Ф. Философские вопросы теории относительности // Диалектический материализм и современное естествознание. М., 1964. С. 58-80.
6. Фок В.А. К дискуссии по вопросам физики//Под знаменем марксизма. 1938. № 1. С. 159.
7. См. с. 324 и сноску 1 на с. 620.
8. Фок В.А. К дискуссии по вопросам физики; Он же. Против невежественной критики современных физических теорий//Вопросы философии. 1953. № 1. С. 168- 174; Максимов А.А. О философских воззрениях акад. В.Ф. Миткевича и о путях развития советской физики//Под знаменем марксизма. 1937. № 7. С. 25-55; Он же. Борьба за материализм в современной физике//Вопросы философии. 1953. № 1. С. 175-195.
9. Фок В.А. Основные законы физики в свете диалектического материализма// Вестник ЛГУ. 1949. № 4. С. 39; Омельяновский М.Э. Философские вопросы квантовой механики. С. 36.
10. Фок В.А., Мигдал А.Б. Взгляды Н.С. Крылова на обоснование статистической физики//Крылов Н.М. Работы по обоснованию статистической физики. М.; Л., 1950.
11. Даже если гипотеза Бора должна была быть принята, существование объективной реальности не обязательно отвергалось бы, так как нет оснований тому, что эта реальность должна описываться в терминах определенных параметров, таких, как координата и импульс. Тем не менее такая интерпретация требовала бы более сложного взгляда на реальность, чем обычно.
12. Омельяновский М.Э. Диалектический материализм и так называемый принцип дополнительности Бора//Философские вопросы современной физики. М., 1952. С. 404.
13. Фок В.А. О так называемых ансамблях в квантовой механике. С. 172.
14. Фок В.А. Критика взглядов Бора на квантовую механику//Успехи физических наук. 1951. Т. 45. Вып. 1. С. 13.
15. См.: Фок В.А. Об интерпретации квантовой механики//Философские проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 212-236.
16. В 1952 г., будучи более двадцати лет приверженцем копенгагенской интерпретации, де Бройль вернулся к своему раннему взгляду о том, что ее заменит теория, основанная на «инстинктивной позиции физика, позиции реализма». Broglie L. de. La Physique quantique restera-t-elle indeterministe?/ /Revue de Histoire des Sciences et des leurs applications. 1952. Oct.-Dec. 5(4). P. 309.
17. Bohm D. Causality and Chance in Modern Physics. N. Y., 1961.
18. Вижье огмечал: «Частица, таким образом, рассматривается как среднее организованное возбуждение хаотического субквантово-механического уровня материи, сходное по своему смыслу с распространением звуковой волны в хаосе движения молекул». В этой же статье Вижье отмечал, что Блохинцев предоставил ему основные идеи для его модели (Vigier J.-P. The Concept of Probability in the Frame of the Probabilistic and the Causal Interpretation of Quantum Mecha-nics//Observation and Interpretation in the Philosophy of Physics, N. Y., 1957. P. 75, 76).
19. Фок В.А. Об интерпретации квантовой механики. С. 215.
20. Там же. С. 218.
21. Промежуточной формой, отмечал Фок, будет случай, когда волнообразные и корпускулярно-образные свойства проявляются одновременно (хотя и не четко). Так, например, когда электрон частично локализован (корпускулярное свойство) и в то же время он проявляет волновые характеристики (волновая функция имеет характер стоячей волны, у которой быстро уменьшается амплитуда при увеличении расстояния от центра атома).
22. Там же. С. 235.
23. Там же. С. 222-223.
М.Э. Омельяновский
М.Э. Омельяновский, академик АН УССР, был одним из наиболее влиятельных советских философов естествознания в 60-70-х годах. В 40-х годах Омельяновский помог создать сильную школу философии естествознания в Киеве, а после своего переезда в Москву в середине 50-х годов он стал наиболее важной фигурой в успешных усилиях по ликвидации урона, нанесенного философии естествознания сталинизмом и в деле укрепления союза естествоиспытателей и философов[1]. Как показывают выпущенные им до 1948 г. публикации, он понимал современную физическую теорию и полностью признавал ее значение для философии естествознания, несмотря на то что подвергался политическому давлению в период 1948-1956 гг.[2] Вскоре после обличения сталинизма на XX съезде КПСС в 1956 г. Омельяновский опубликовал важную статью, призывающую к новому подходу к диалектическому материализму[3]. В личной беседе со мной он оценивал эту статью как один из важнейших поворотных пунктов его профессионального развития. Как руководитель сектора философских вопросов естествознания в Институте философии АН СССР, Омельяновский организовал после 1956 г. множество конференций и публикаций коллективных трудов, в которых участвовали известные философы и естествоиспытатели. Например, в 1970 г. Омельяновский выступает ответственным редактором интересного сборника статей по философии естествознания под названием «Ленин и современное естествознание», в котором были представлены статьи многих известных советских и зарубежных ученых[4]. Омельяновскому также удалось привлечь в Институт философии несколько перспективных молодых специалистов с опытом научной работы, которые подходили к проблемам философии естествознания намного более открыто, чем многие из философов предшествующих поколений. После смерть Омельяновского в 1980 г. влияние его продолжалось среди его учеников, и оно остается заметным до сих пор.
В 1956 г. Омельяновский опубликовал книгу «Философские вопросы квантовой механики», которая является его наиболее значительным вкладом в советскую марксистскую интерпретацию квантовой механики[5]. И хотя взгляды, изложенные Омельяновским в этой книге, позже претерпевали у него изменения, так же как это было и в случае с его книгой 1947 г., но работа 1956 г. утвердила его в качестве основного советского интерпретатора квантовой механики на протяжении оставшихся 50-х годов. Омельяновский не соглашался полностью ни с одним советским или зарубежным физиком, но его интерпретация была ближе всего к интерпретации Блохинцева. Среди физиков он ставил себя, конечно, в наибольшем отдалении от копенгагенской школы (к которой он относил в первую очередь Фока), менее сильно, но все же заметно отдалялся от «материалистических» западных физиков, таких, как Бом и Вижье, и менее всего, но все еще ощутимо — от Блохинцева.
Омельяновский рассматривал полемику в квантовой механике как одно из самых новых направлений давней борьбы между материализмом и идеализмом, прямо связанной с классовыми интересами. Он утверждал, что «концепция дополнительности выросла из реакционной философии махизма-позитивизма. Эта концепция чужда научному содержанию квантовой механики... Не случайно к Иордану, который, ссылаясь на Бора и Гейзенберга, «ликвидирует материализм», присоединились Ф. Франк, Г. Рейхенбах и другие современные реакционные буржуазные философы» (с. 27). Выдвинув такой упрощенный анализ отношения философии и экономического строя, Омельяновский тем не менее перешел к теоретическим проблемам физической интерпретации квантовой механики в соответствии с диалектическим материализмом.
Омельяновский полагал, что такая интерпретация должна исходить из следующих основных положений, которые он рассматривал как необходимые для любого диалектико-материалистического взгляда на микромир: 1) микроявления и их закономерности существуют объективно; 2) макроскопические и микроскопические объекты качественно различны; 3) несмотря на их качественное различие, не существует непреодолимых различий между микромиром и макромиром, и все свойства микрообъектов так или иначе проявляются на макроуровне; и 4) нет пределов человеческому познанию микроявлений. Омельяновский пытался использовать первое и четвертое положения в качестве основных для критики «физических идеалистов» копенгагенской школы, а положение второе — для критики неправильно ориентированных, но добросовестных критиков копенгагенских положений, надеявшихся на возврат к законам классической физики.
В 1956 г. Омельяновский критически относился к понятию дополнительности, которое, по его словам, проистекало из преувеличения Бором и Гейзенбергом значения соотношения неопределенности. Первым шагом в этом преувеличении было поднятие соотношения неопределенности на более высокую позицию «принципа неопределенности». Омельяновский принимал соотношение неопределенности как научный факт, но утверждал, что этот физический факт сам по себе ничего не говорил о «неконтролируемом воздействии» прибора, на чем как раз и основывал Гейзенберг «принцип неопределенности» (с. 74)[6]. Именно такой взгляд на роль прибора Омельяновский рассматривал как непосредственно ответственный за дополнительность. Используя термин «соотношение неопределенности», он отказывался употреблять выражение «принцип неопределенности», заменяя его «соотношением Гейзенберга». Мнение Омельяновского о «соотношении Гейзенберга» ясно раскрывается в его замечании:
«Соотношение, обоснованное Бором и Гейзенбергом путем анализа некоторых мысленных экспериментов, — мы его назовем соотношением Гейзенберга — не имеет физического смысла и представляет собой «принцип», затемняющий содержание квантовой механики в духе субъективистской концепции дополнительности» (с. 71).
В свою очередь, недостатком дополнительности было то, что в ней характеристикам атомных объектов, являющихся в квантовой механике действительным объектом изучения, уделялось меньше внимания, чем роли измеряющего прибора. Позиция Омельяновского, в которой игнорировалось стремление многих членов копенгагенской школы, включая Бора, к приданию соотношения неопределенности не измеряющему прибору, а просто несуществованию физических значений сопряженных параметров, сводилась, таким образом, в первую очередь к критике мнимого субъективизма в измерении.
Последний раздел своей книги Омельяновский посвятил обсуждению детерминизма и статистических законов. По его мнению, квантовая механика ни в коем случае не угрожала детерминизму как основному принципу природы. По этому вопросу он соглашался с П. Ланжевеном:
«То, что понимается в настоящее время под кризисом детерминизма, представляет собой на самом деле кризис механицизма...» (с. 32).
Согласно Омельяновскому, детерминизм отлично сочетается со статистическими законами. Более того, Омельяновский рассматривал статистические законы квантовой механики не как результат неконтролируемого воздействия измерения (Гейзенберг), не как результат индетерминизма, управляющего отдельным микрообъектом (Рейхенбах), не как результат скрытых параметров (Бом), не как результат взаимоотношений между микроансамблем и его макроокружением (Блохинцев), а, вместо этого, как результат того, что он называл «особенные корпускулярно-волновые свойства микрообъектов». Такая позиция, согласно Омельяновскому, не отвергала существования скрытых параметров (в противоположность фон Нейману), хотя и не давала надежды на их существование, и в ней не предполагалось, что открытие скрытых параметров выльется в классическое описание микрообъектов, на что, по мнению Омельяновского, надеялись Бом, Вижье и позднее де Бройль. Так, Омельяновский завершил сооружение своей интерпретации квантовой механики, которая являлась структурой, почти полностью состоящей из заявлений о том, что не является квантовой механикой, но дававшей слишком мало намеков на то, что же ею является. В ответ на вопрос «Что есть квантовая механика?» Омельяновский мог лишь процитировать первый из его четырех пунктов, а именно: что это есть изучение объективно существующих микрообъектов и их закономерностей. С этим пунктом соглашались все советские интерпретаторы квантовой механики.
В последней части своей жизни Омельяновский изменил свою позицию в направлении от Блохинцева к Фоку. В 1958 г. на Всесоюзном совещании по философским проблемам современного естествознания[7], которое проходило в Москве, Омельяновский изменил свою точку зрения на смысл волновой функции. На конференции он заявил, что «волновая функция характеризует вероятность действия индивидуального атомного объекта», в то время как раньше он полагал, что это может быть применимо лишь к ансамблям Блохинцева. Это описание было очень похоже на заявление Фока относительно смысла волновой функции. В дальнейшем изложении своей интерпретации Омельяновский показал, что он также принял фоковское различение между «потенциально возможным» и «актуально существующим». Позже, на XIII Всемирном философском конгрессе в Мехико-Сити (1963 г.), он еще более сблизился с Фоком, приняв дополнительность и даже утверждая, что она основана на диалектическом способе мышления, — это следует из того, что «мы имеем право сделать два противоположных, взаимоисключающих утверждения относительно одного атомного объекта»[8].
В 1968 г. в статье по философским аспектам измерения в квантовой механике Омельяновский полезным и интересным способом подчеркивал, что в противоположность общепринятым взглядам, «никакого неконтролируемого взаимодействия между микрообъектом и прибором... не существует»[9]. Если рассматривать кристаллическую решетку как измерительный прибор для электрона, то до прохождения через нее электрон находится в состоянии с определенным импульсом и неопределенной координатой; после прохождения же решетки электрон находится в состоянии с определенным положением и неопределенным импульсом. Таким образом, измерение меняет состояние микрообъекта, но это изменение не есть результат воздействующей на объект силы, такой, как гравитационная или электромагнитная. Сама решетка не направляет никакую силу на проходящий сквозь нее электрон. Скорее воздействие измерения происходит из самой корпускулярно-волновой природы микрообъекта. Омельяновский особенно наглядно продемонстрировал свою позицию, использовав аналогию:
«Изменение квантового состояния под влиянием измерения похоже на изменение механического состояния тела в классической теории, когда переходят от одной системы отсчета к другой, движущейся относительно первой»[10].
Это объяснение Омельяновского, находящееся в согласии со взглядами Бора, которые он имел незадолго до смерти[11], является большим шагом на пути разрешения многих споров о «неконтролируемости» измерительных приборов в квантовой механике.
В то же время, когда Омельяновский менял свою точку зрения на интерпретацию квантовой механики, некоторые другие советские ученые заинтересовались философскими проблемами квантовой механики. Некоторые из них проявляли интерес к «теории двойного решения» де Бройля, к подходу со скрытыми параметрами, который пришел на смену его ранней теории «волны-пилота»[12]. Другие искали подходы к единой теории, объединяющей области квантовой теории и теории относительности. Такие попытки делались и в других странах, где они, оставаясь интересными, были, однако, такими же неудачными. Обсуждая новые подходы, советские авторы приучались пользоваться понятиями, которые автоматически вызывали бы подозрение в конце 40 — начале 50-х годов, как это было в случае с теорией конечной Вселенной или гипотезой о том, что в «интерьере» микрочастиц будущие события могут влиять на прошлые. В 1965 г. ветеран-философ Э. Кольман опубликовал в «Вопросах философии» статью, в которой он призывал к полной свободе для советских естествоиспытателей заниматься такими теориями; естественно, замечал он, такие представления «дадут повод идеалистам искать в них аргументы в пользу своей точки зрения. Но это не должно служить поводом для того, чтобы отклонять эти «нелогичные» концепции с порога, подобно тому, как это имело место в отношении теории относительности, кибернетики и других со стороны некоторых консервативно мыслящих философов и естественников, Сами эти концепции в идеалистических интерпретациях неповинны. Задача философов и естественников, стоящих на позициях марксистского мировоззрения, дать им научную, диалектико-материалистическую интерпретацию»[13].
В начале 70-х годов в советских воззрениях на квантовую механику произошло несколько изменений, хотя и не было выработано существенно новых теоретических позиций. Наиболее обнадеживающим изменением было улучшение в тональности большинства советских работ по этой теме; почти все статьи и книги, опубликованные в то время научными издательствами, были действительно философскими, а не идеологическими по подходу.
Однако не следует думать, что одновременно с предоставлением советским дискуссиям по квантовой механике все большей свободы от политического воздействия все советские интерпретаторы приблизились во взглядах к позициям общепринятой копенгагенской интерпретации. Некоторые советские авторы вновь обратились к критике копенгагенской школы, но это уже делалось на более высоком интеллектуальном уровне, чем в начале 50-х годов. Одним из таких авторов был советский физик А.А. Тяпкин, который в 1970 г. опубликовал интересную статью в сборнике докладов, прочитанных на конференции в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне[14]. В конференции приняли участие физики из Дубны, философы из Института философии АН СССР и ученые из многих советских университетов. Подобно Блохинцеву в его наиболее творческие моменты, Тяпкин верил в возможность создания неизвестной, более полной теории квантовой механики. Преимущество этой новой теории, согласно Тяпкину, было бы главным образом философским, так как она не предсказала бы ни одного эффекта или результата измерения, которые бы уже не были предсказаны существующей квантовой теорией (с. 152). Амбиции Тяпкина были одновременно великими и скромными; с одной стороны, он хотел сделать, по-видимому, невозможное — дать статистическое описание явления, которое, как он сам соглашался, было в принципе «ненаблюдаемо»; с другой стороны, он признавал, что, если и достигнет своей цели, это никак прямо не повлияет на существующие квантово-механические вычисления. Ее главным достоинством было бы то, что она помогла бы убрать из физики позитивистский лозунг: «Не измеряется — значит, не существует» (с. 144). Тяпкин утверждал, что марксистские философы и физики должны объяснить неподдающиеся измерению интерфеномены квантовой физики в объективных терминах, даже несмотря на правоту Бора, утверждавшего в дискуссии с Эйнштейном, что существующая квантовая механика полна, в смысле предсказания всех фактов измерений[15]. Но, согласно Тяпкину, она все же была неполной в более широком смысле: она не пыталась описывать движение микрообъектов в промежутках времени между измерениями. Как и Эйнштейн, Тяпкин был уверен, что какое-то движение имеет место в этих интервалах и задача физика не будет выполнена, пока он не даст описания этого движения.
Тяпкин был уверен, что более расширенная теория не только необходима, но и возможна. Одним из критериев, которому она должна удовлетворять, было, по его словам, необходимое наличие в ней однозначной сочетаемости со всей структурой предсказания измерения, которая вытекала из современной теории (с. 152). Тогда он предложил вполне естественный «обратный путь» отыскания ненаблюдаемой функции распределения вероятности, исходя из анализа аппарата существующей квантовой механики (с. 153). В прошлом подобные попытки неоднократно делались такими естествоиспытателями, как Вижье, Блохинцев и Дирак, но они не увенчались успехом из-за математических трудностей. Тяпкин полагал, что такое решение все же было возможным и могло в конечном счете получить физическую интерпретацию. Одной возможностью было разделение микрообъекта на дискретную частицу, с одной стороны, и непрерывный волновой процесс в вакууме, имеющий статистическое воздействие на микрочастицу, — с другой (с. 178). Такую интерпретацию не следует путать, по словам Тяпкина, с гипотезой волны-пилота де Бройля, так как целью де Бройля было динамическое, причинное, нестатистическое описание результатов измерения (с. 153). Тяпкин сохранил уверенность в правоте фон Неймана, который считал такие попытки неосуществимыми. Для Тяпкина описание как измеримого, так и неизмеримого движения микрообъектов было статистическим в самой своей основе.
В 70-80-х годах советские философы и физики продолжали публиковать большое количество работ по философским проблемам квантовой механики, сосредоточиваясь на вопросах причинности и детерминизма, а также о том, позволяют ли последние разработки в субатомной физике утверждать о форме существования материи «вне» пространства и времени[16]. Наиболее влиятельной философской интерпретацией квантовой механики в Советском Союзе продолжала оставаться интерпретация Фока (которая обсуждалась на с. 337 и далее); даже после его смерти в 1974 г. Советские философы и сегодня отдают должное фоковской теории «реальных квантовых состояний» как дальнейшему развитию копенгагенской интерпретации в направлении «освобождения ее от ряда субъективистских моментов, которые в тот или иной период проявлялись в общей позиции или отдельных высказываниях ее сторонников»[17].
В советской философии и физике остались некоторые признаки имевшихся ранее сомнений относительно квантовой механики. Печально известный термин «дополнительность», так долго встречавший сопротивление ортодоксально настроенных диалектических материалистов, теперь широко принят советскими философами естествознания, как и мнение, что квантовая механика является полной, то есть что она не будет заменена детерминистической теорией. «Причинность» и «детерминизм» были сохранены посредством их трансформации в термины «вероятностная причинность» и «нежесткий детерминизм». Однако в начале 80-х годов все еще раздавались голоса нескольких несогласных. Терлецкий (см. с. 328) полагал, что будет найдена более полная квантовая теория и идея Блохинцева о квантовых ансамблях (см. с. 330) все еще имела нескольких приверженцев. Еще одним подходом, принадлежавшим меньшинству, был взгляд Ломсадзе, пытавшегося разработать новую интерпретацию квантовой механики в рамках теории информации.
Термин «неконтролируемое взаимодействие» (между измерительным прибором и микрообъектом) остается спорным и по сей день. Одни советские философы утверждают, что Бор в последние годы своей жизни отказался от его использования, чем расчистил путь для принятия своей интерпретации в Советском Союзе. Другие советские философы убеждены, что понятие «неконтролируемое воздействие» приемлемо для диалектического материализма, будучи тщательно реинтерпретированным. Так, И.С. Алексеев писал в 1984 г., что боровское «неконтролируемое взаимодействие» лучше описывать как «частично неконтролируемое взаимодействие», так как даже в классических случаях измерения микрообъектов контроль над экспериментами всегда осуществляется в терминах только корпускулярной или только волновой интерпретации (но не обоих). Действительной неконтролируемостью, продолжал Алексеев, было бы отсутствие контроля в обоих отношениях. Таким образом, заключал он, боровская интерпретация не нарушает диалектический материализм[18].
Физиком, который в 80-е годы вполне серьезно относился к диалектическому материализму и который считал, что некоторые философы становятся слишком нетребовательными в оценке значения марксизма для науки, был В.С. Барашенков, исследователь, работавший на ускорителе в подмосковном городе Дубне[19]. В диспуте между эпистемологистами и онтологистами Барашенков занял позицию онтологистов. По его мнению, сведение диалектического материализма к философии, связанной с логикой и методологией, лишило бы его наиболее сильных преимуществ. Барашенков полагал, что позиции диалектического материализма, такие, как ленинское положение о бесконечности материи вглубь и, таким образом, о «неисчерпаемости» электрона, имели непреходящую ценность для творчески работающего естествоиспытателя. Эта позиция подтверждалась, по мнению Барашенкова, современными попытками установить, из чего состоит электрон, изучением кварков и других более элементарных составляющих материи. Барашенков признавал, что некоторые онтологисты заходят слишком далеко, превращая диалектический материализм в «натурфилософию», но он был убежден, что марксизм имеет силу не только в отношении общества, но также и природы.
Барашенков неодобрительно относился к тем философам и естествоиспытателям, которые отказывались от ленинских и энгельсовских принципов о необходимости физических описаний в терминах пространства и времени. Некоторые физики, отмечал Барашенков, утверждают, что пространственные и временные описания невозможны в квантовой механике. Эти люди, продолжал он, правильно отмечали, что отдельным частицам не могут быть приданы траектории, после чего некорректно отказывались от всей концепции пространственно-временных описаний. Этот подход, по его словам, был ошибочным, так как физики вынуждены были говорить о таких вещах, как радиусы нуклонов, пространственное распределение электрических зарядов и магнитных моментов.
Барашенков писал, что западные физики, такие, как Вигнер и Чью, ошибочно утверждали, что «пространство» и «время» являются просто свойствами вещей на макроуровне существования. Барашенков, напротив, полагал, что даже на уровне наименьших, достигнутых на сегодняшний день физиками с помощью ускорителей единиц длины и времени все же не существует причин отказываться от пространственно-временных концепций. Таким образом, согласно Барашенкову, ленинские концепции все еще сохраняют свою ценность[20].
В своих продолжающихся попытках найти подтверждение диалектическому материализму в современных физических исследованиях Барашенков резко отличался от нескольких наиболее выдающихся физиков Советского Союза. Как мы увидим ниже, одним из критиков Барашенкова cтал в этом вопросе В.Л. Гинзбург, советский астрофизик международного масштаба.
Вопрос о том, может ли материя существовать «вне» пространства и времени, продолжал оставаться острым для советских философов и физиков. Вся традиция марксистского материализма, основанная на воззрениях Ленина и Энгельса на этот предмет, плохо сочеталась с понятием материи, лишенной пространственных или временных характеристик. Таким образом, преобладающая позиция среди советских философов естествознания заключается в следующем: то, что некоторые физики называют внепространственными или вневременными формами существования материи, «лишь утверждает качественное различие мега, макро- и микроскопических форм существования материи, а вернее, качественное различие теоретических уровней соответствующих физических теорий, описывающих указанные уровни строения материи»[21]. Эта формулировка хорошо сбалансировала эпистемологические и онтологическне воззрения на этот вопрос, оставляя неясным, относится ли диалектический материализм прямо к самой природе или лишь к научным описаниям природы.
Интерпретация квантовой механики все еще остается открытым вопросом не только в Советском Союзе, но и в других странах, где имеется активная заинтересованность в современных проблемах философии естествознания. Как я ранее замечал, советские обсуждения причинности, влияния наблюдателя и возможность скрытых параметров были схожи с дискуссиями во всем мире[22]. В Советском Союзе основные участники обсуждения — Фок, Блохинцев и Омельяновский — все имели разногласия друг с другом, и зарубежные интерпретаторы квантовой механики также вели ожесточенные споры.
В процессе своих исследований ученые должны выходить за пределы физических фактов и математических методов: такая теоретизация является одной из основ научного объяснения. Должен быть сделан выбор между альтернативами, которые одинаково оправданы с точки зрения математического формализма и физических фактов. И выбор этот часто основывается на философских соображениях и часто имеет философские следствия. Например, Фок в своей интерпретации квантовой механики определял «дополнительность» как «дополнительность между классическими описаниями микрочастиц и причинностью» (см. с. 334). Выбирая затем между классическим описанием или причинностыо, он выбрал причинность, тем самым потеряв возможность классического описания. Он мог бы выбрать и другой путь. Это решение неизбежно определялось философией.
Советские естествоиспытатели и философы обратили внимание на важное и плодотворное понятие, когда они заметили, что даже в условиях вероятностного описания природы принцип причинности может быть сохранен. Для них отсутствие причинности в квантовой механике означало бы, что все возможные значения координаты и импульса микрообъекта равновероятны. В таком мире квантовая механика как наука была бы невозможной.
Неизвестно, сохранит ли квантовая механика ее современный математический формализм, или она получит новый формализм, позволяющий построить более детерминистическую интерпретацию квантовой механики; современные данные не слишком обнадеживающи для тех, кто желал бы найти новую область жесткого детерминизма ниже той, с которой мы работаем сейчас[23]. Если подтвердится мнение большинства ученых о необходимости вероятностной интерпретации причинности, это может оживить стародавние дебаты о детерминизме и свободе воли, в том числе и в рамках марксизма, где свобода рассматривается как знание естественных законов. Марксисты могут допустить целый спектр возможных выходов из данной ситуации, не прибегая к каким-либо сверхъестественным факторам. Эта концепция была выдвинута несколькими советскими физиологами и описывается в разделе по физиологии и психологии (см. особенно с. 197). Но полное значение квантовой механики в ее современной форме не было еще адекватно выделено специалистами в других областях, как марксистами, так и немарксистами.
Поддержит ли будущее квантовой механики пробабилистов или детерминистов, будет зависеть от науки. А пока советские философы «естествоиспытатели нашли интерпретацию (или, скорее, несколько интерпретаций), которая делает мир кажущимся для них более понятным и которая может трактовать любую из возможностей[24].
1. См., напр.: Омельяновский М.Э. Ленин о причинности и квантовая механика // Вестник АН СССР. 1958. № 4. С. 3-12; Он же. Философская эволюция копенгагенской школы физиков // Вестник АН СССР. 1962. № 9. С. 85-96; Он же. Проблема элементарности частиц в квантовой физике//Философские проблемы физики элементарных частиц. М., 1963. С. 60-73; Он же. Ленин и философские проблемы современной физики. М., 1968.
2. См.: Омельяновский М.Э. Ленин о пространстве и времени и теории относительности Эйнштейна//Известия АН СССР (серия истории и философии). 1946. № 4. С. 297-308, и его монография «В.И. Ленин и физика XX века» (М.. 1947).
3. Омельяновский М.Э. Задачи разработки проблемы «Диалектический материализм и современное естествознание»//Вестник АН СССР. 1956. № 10. С. 3-11.
4. См.: Ленин и современное естествознание. М., 1969. Омельяновский опубликовал в этом труде статью «Ленин и диалектика в современной физике».
5. Омельяновский М.Э. Философские вопросы квантовой механики. М., 1956. Последующие сноски в тексте относятся к этой книге.
6. См. сноску на с. 317.
7. Материалы конференции были опубликованы под ред. П.Н. Федосеева и др. в кн.: Философские проблемы современного естествознания. М., 1959.
8. Omelianovskij M.E. The Concept of Dialectical Contradiction i Quantum Physics // Philosophy, Science and Man: The Soviet Delegation Reports for the XIII World Cogress of Philosophy. Moscow, 1963. P. 77.
9. См.: Омельяновский М.Э. Философские аспекты теории измерения // Материалистическая диалектика и методы естественных наук. М., 1968. С. 248.
10. Там же. С. 248.
11. См.: Бор Н. Квантовая физика и философия//Успехи физических наук. 1959. № 1. С. 39.
12. Интересным обсуждением советских реакций на подход двойного решения является работа: Levy E. Jr. Interpretations of Quantum Theory and Soviet Thought. Ph. D. dissertation, Indiana University, 1969. См. также обсуждение квантовой механики двумя исследователями, тесно работавшими с де Бройлем; Andrade e Silva /., Lochak G. Quanta. N. Y.; Toronto, 1969.
13. Кольман Э. Современная физика в поисках дальнейшей фундаментальной теории // Вопросы философии. 1965. № 2. С. 122. Кольман был чехом по национальности, прожил долгое время в Москве, сыграл очень интересную роль в диспутах по философии естествознания. Среди чешских ученых он был более известен как идеолог, но в Советском Союзе после второй мировой войны он часто занимал «либеральные» позиции по различным вопросам, хотя до войны был настроен агрессивно и в начале спора по генетике поддерживал Лысенко. Еще в 1938 г. Фок хвалил его взгляды на релятивистскую физику. В кибернетике он был первым, кто обратился к партийным деятелям, чтобы добиться признания значения новой области. Кольман Э. Что такое кибернетика? // Вопросы философии. 1955. № 4. С. 148-159. Приведенная выше статья по физике явно была написана в этой либеральной традиции.
14. Тяпкин А.А. К развитию статистической интерпретации квантовой механики на основе совместного координатно-импульсного представления//Философские вопросы квантовой физики. М., 1970. С. 139-180. Последующие сноски в тексте относятся к этой статье.
15. Тяпкин цитировал Омельяновского как пример советского философа, принявшего копенгагенскую школу слишком некритически. Там же. С. 144-145.
16. См.: Свечников Г.А. Причинность и связь состояний в физике. М., 1971; Сачков Ю.В. Введение в вероятностный мир. М., 1971; Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике. Новосибирск, 1973; Иванова В.Г. Детерминизм в философии и физике. Л., 1974; Разумовский О.С. Современный детерминизм и экстремальные принципы в физике. М., 1975; Барашенков В.С. О возможности «внепространственных» и «вневременных» форм существования материи // Философские вопросы квантовой физики. М., 1970. С. 248-249 Купцов В.И. Детерминизм и вероятность. М., 1976; Аскин Я.Ф. Философский детерминизм и научное познание. М., 1977; Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания. Таллинн, 1977; Алексеев И.С. Концепция дополнительности. М., 1978; Свечников Г.А. Причинность и связь состояний в физике; проблемы диалектико-материалистического истолкования квантовой теории. Ужгород, 1972; Мякишев Г.Я. Динамические и статистические закономерности в физике. М., 1973; Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности. М., 1973; Бажан В.В., Дышлевый П.С., Лукьянец В.С. Диалектический материализм и проблема реальности в современной физике. Киев, 1974; Кравец А.С. Природа вероятности. М., 1976; Гутнер Л.М. Философские аспекты измерения в современной физике. Л., 1978; Перминов В.Я. Проблема причинности в философии естествознания. М., 1979; Материалистическая диалектика и концепция дополнительности. Киев, 1975; Принцип дополнительности и материалистическая диалектика. М., 1976.
17. Ахундов М.Д., Молчанов Ю.Б., Степанов Н.И. Философские вопросы физики // Философия, естествознание, современность. М., 1981. С. 249.
18. См.: Алексеев И.С. О понятии неконтролируемого взаимодействия // Вопросы философии. 1984. № 6. С. 82-88.
19. См.: Барашенков В.С. Проблема субатомного пространства и времени. М., 1979. См. также: он же. Существуют ли границы науки: количественная и качественная неисчерпаемость материального мира. М., 1982.
20. Барашенков В.С. Проблема субатомного пространства и времени. С. 27 52-53, 185, 197.
21. Ахундов М.Д., Молчанов Ю.Б., Степанов Н.И. Философские вопросы... С. 245.
22. См. мои замечания в главе I в сравнении советских взглядов на квантовую механику со взглядами Пола Фейерабенда, Давида Бома, Луи де Бройля и Эрнста Нагеля. С. 5.
23. Копенгагенская интерпретация удерживала очень сильные позиции в течение всего периода дискуссии. Макс Джеммер сказал в 1966 г. о копенгагенской интерпретации, «которой и сегодня придерживается большинство физиков теоретиков и экспериментаторов. Она не обязательно является единственной логически возможной интерпретацией квантовых явлений, но de facto это единственная существующая, вполне отчетливая и последовательная концепция, которая вносит порядок в набор фактов, иначе представляющихся хаотичными, и делает их постижимыми». Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. М., 1985, С. 11.
24. Замечания Фока и американского философа Пола К Фейерабенда по поводу моей статьи, так же как и мой ответ, можно найти в «Slavic Review» 1966. Sept. Р. 411-420.
Глава XI. Релятивистская физика
Я согласен с Фоком, что общий принцип относительности пуст. Мы, конечно, знаем, что не существует физической эквивалентности между инерциальным и ускоренным наблюдателями... Я чувствую уверенность, что математики могут найти путь записать математически эквивалентно любые заданные законы.
Профессор Герман Бонди, Кингз Колледж, Лондонский университет, 1964
Специальная теория относительности (СТО) в том виде, как она была разработана Эйнштейном, вытекает из двух постулатов: 1) принципа относительности, утверждающего, что физические процессы, происходящие в замкнутой системе, не испытывают воздействия неускоренного движения системы в целом, и 2) принцип независимости скорости света от движения его источника. Первый постулат был принят в классической механике задолго до Эйнштейна и, возможно, наилучшим образом иллюстрируется сравнением физических явлений, таких, как падающие объекты в двух различных инерциальных системах (системах, в рамках которых тела, не испытывающие воздействия внешних сил, двигаются прямолинейно и с постоянной скоростью). Если данная инерциальная система движется с постоянной скоростью и прямолинейно относительно другой фиксированной системы, то законы механики должны иметь одинаковую форму в обеих системах. Обыденной иллюстрацией этого отношения является тот факт, что для наблюдателя в поезде, движущемся с постоянной скоростью, падающий объект описывает траекторию, идентичную той, которую он бы увидел, если бы вместе с падающим объектом оказался на земле. Для неподвижного наблюдателя вне поезда падающий в поезде объект описывает, однако, параболу. В этом случае был совершен переход от одной системы отсчета к другой и, в соответствии с классической механикой, преобразования Галилея предоставили бы средства построения уравнения для параболы, исходя из данных, полученных в движущемся вагоне (примеч. – соотношения между x, y, z, t и х', у', z', t' в двух системах отсчета S и S' задается следующими уравнениями. Преобразования, основанные на этих уравнениях, называются преобразованиями Галилея: х=х'+ut, у=у', z=z', t=t'.)
В развитии СТО Эйнштейн расширил принцип относительности применительно как к механическим, так и к электромагнитным явлениям. Это расширение обусловило необходимость выведения новых преобразований, ибо преобразования Галилея не дают объяснения постоянству скорости света во всех инерциальных системах, — это постоянство было продемонстрировано еще до работы Эйнштейна в известном эксперименте Майкельсона и Морли. Для сохранения принципа постоянства скорости света в различных инерциальных системах и для утверждения существования эквивалентных систем отсчета Эйнштейн усовершенствовал правила трансформации от одной системы к другой. Новые соотношения, известные как преобразования Лоренца, завершили это приспособление тем, что часы в различных инерциальных системах идут с различной скоростью и что пространственное расстояние между точками варьируется в различных системах отсчета (примеч. – соотношения имеют следующий вид: х=(х'+ut'), у=у', z=z', t== (t'+ х'u/c2)/ γ , γ = √ 1 – β 2, β = u/c, где c – скорость света.).
До конца второй мировой войны профессиональные физики в Советском Союзе были в основном равнодушны к диалектическому материализму, несмотря на то внимание, которое Ленин посвятил физике в своем «Материализме и эмпириокритицизме». На самом деле имел место спор о релятивистской физике среди советских философов в 20—30-х годах[1]. В те годы релятивистская физика была объектом дискуссий и отдельных полемик среди широко образованной публики во всем мире. С. Ю. Семковский был первым советским марксистским автором, предпринявшим тщательный анализ релятивистской физики. Он утверждал в 1926 г., что новая физика Эйнштейна не только не противоречит диалектическому материализму, но блестяще подтверждает его[2]. Семковский подчеркивал, что, согласно теории относительности, пространство и время являются не продуктами «чистого разума», а «формами существования материи»[3]. Давид Жоравски, американский специалист по истории России, даже заметил, что, «говоря об активной оппозиции новой физике, можно даже засвидетельствовать, что ее было меньше в сообществе советских физиков, чем где-либо еще»[4].
Перед второй мировой войной советские физики полностью сознавали противоречивость отношения между естествознанием и философией, которая проистекала из широкого принятия воззрений Эрнста Маха и Анри Пуанкаре, и они знали, что эти новые концептуальные подходы были важными для развития Эйнштейном его теории относительности. Те советские физики, которые знали о ленинской критике Маха, могли испытывать необходимость сдерживаться при обсуждении философских оснований теории относительности, но их успокаивало то тщательное различение, которое Ленин проводил между естествознанием и философскими интерпретациями естествознания. В университетских лекциях, монографиях и учебниках предвоенных лет можно найти многие доказательства того, что русские физики и математики воспринимали те же самые научные и философские течения, что и естествоиспытатели во всех странах.
Примеры типично интернациональных настроений советских физиков могут быть найдены в университетских лекциях известного физика Л. И. Мандельштама (1879—1944), который с 1932 по 1944 г. преподавал теоретическую физику в МГУ и который оказал сильное влияние на целое поколение советских физиков. Среди его студентов были Г. С. Ландсберг и И. Е. Тамм. Мандельштам, получивший образование в Новороссийском и Страсбургском университетах, глубоко интересовался западной философской мыслью, которая его сильно привлекала, начиная от Маха и кончая представителями Венского кружка и логического позитивизма. Мандельштам учил своих студентов, что имеет место существенное различие между логической структурой научной теории и эмпирическими фактами, к которым она относится, и он был уверен, что связи между ними были созданы на основе определений, которые сами по себе не были ни истинными, ни ложными, а просто удобными или неудобными. Этот подход, являвшийся одним из краеугольных камней логического эмпиризма в философии науки, был явным в мандельштамовских обсуждениях метрики пространства и времени. Он отмечал, что «физик должен иметь «рецепт», как находить длину. Он должен такой рецепт указать, он его не узнает, а определяет»[5]. Время, по мнению Мандельштама, также определяется в отношении к некоторому виду периодического физического явления, такого, как вращение Земли или движение стрелок хронометра; это условие тоже является просто определением без абсолютного содержания. «Возьмем для простоты определение времени хронометром. Таким образом, время, то есть то, что я подставляю в формулы Ньютона вместо t, есть то, что показывает стрелка моих часов». Без подобных определений, согласно Мандельштаму, такие уравнения, как уравнения Ньютона и Максвелла, выражают лишь математические отношения и прямо не соотносятся с физическим опытом.
Представления Мандельштама хорошо знакомы физикам и философам естествознания. Они не публиковались при его жизни, хотя были известны его студентам и коллегам. Выход в свет в 1950 г. пятого тома его трудов, где они нашли отражение, вызвал самую настоящую сенсацию среди философов естествознания в Советском Союзе (см. с. 355). Случай с Л. И. Мандельштамом служит одним из доказательств того, что физики в Советском Союзе были знакомы (пусть не совсем полно) с основными течениями довоенной интерпретации философских оснований теории относительности. Действительно, было совершенно невозможно не знать о том, что отказ от кантианских концепций пространства и времени был необходим для развития теории относительности.
В учебнике физики 1948 г., утвержденном Министерством высшего образования для использования в вузах, следующие суждения не оставляли сомнений в уверенности авторов в условности пространственной и временной конгруэнтности. Здесь явно утверждались такие положения, которые позднее критиковались многими советскими философами естествознания и некоторыми крупными учеными (например, А. Д. Александров): «Эйнштейн указал, что одновременность пространственно разделенных событий — это вопрос определения: необходимо просто условиться, какие удаленные события по определению будут считаться одновременными, подобно тому как мы условливаемся понимать под длиной число, показывающее, сколько раз определенный жесткий стержень (эталон длины) укладывается между двумя заданными точками... Можно давать другие определения длины и промежутка времени, основанные на других эталонах и способах употребления этих эталонов... »[6].
Вскоре после второй мировой войны все более возрастающие в Советском Союзе ограничения в интеллектуальной сфере позволили воинствующим идеологам оказать прямое давление на физиков. А. А. Жданов в своей речи от 24 июня 1947 г. не упоминал ставшей наиболее острой проблемы в естествознании — биологии, но он критиковал отдельные интерпретации физических теорий: «Не понимая диалектического хода познания, соотношения абсолютной и относительной истины, многие последователи Эйнштейна, перенося результаты исследования законов движения конечной, ограниченной области Вселенной на всю бесконечную Вселенную, договариваются до конечности мира, до ограниченности его во времени и пространстве, а астроном Милн даже «подсчитал», что мир создан 2 миллиарда лет тому назад»[7].
Замечания А. А. Жданова, хотя и направленные больше против космологических интерпретаций общей теории относительности, нежели основных положений этой теории и специальной теории относительности, предваряли новые дебаты по философским основаниям релятивистской теории, которые продолжались до 1955 г. и затем — в измененной и гораздо более утонченной форме — вплоть до настоящего времени. Космологический аспект этого спора будет отдельно разбираться в следующей главе.
Большинство советских статей по философским аспектам теории относительности, появившихся в следующие несколько лет, было полностью враждебно по отношению к самой теории, которая рассматривалась в них, как «реакционное эйнштейнианство»[]. Лишь в 1951 г. главный советский философский журнал поместил статью, в которой теория относительности характеризовалась достаточно позитивно. Эта статья широко критиковалась не только отдельными авторами, но и редколлегией самого журнала[9]. Уже в 1953 г. в «Вопросах философии» появилась статья, называвшая теорию относительности явно «антинаучной»[10]. По причине длительного существования таких возражений, исторический взгляд на советские настроения относительно релятивистской теории должен включать описание их содержания. Однако было бы серьезной ошибкой приравнивать позицию ранних советских оппонентов теории относительности к точке зрения таких известных поздних ее критиков и интерпретаторов в Советском Союзе, как В.А. Фок, А.Д. Александров и М.Ф. Широков, ибо эти ученые были настоящими интеллектуалами, профессионалами в этой области.
По иронии судьбы, одной из первых статей о философских следствиях теории относительности, появившихся после речи А.А. Жданова, была публикация того самого Г.И. Наана, который позже принялся защищать теорию относительности, чем навлек на себя острую критику. Эта статья появилась в выпуске «Вопросов философии», посвященном недавно скончавшемуся А.А. Жданову. Она была направлена против «физических идеалистов» Соединенных Штатов и Англии, против физиков и философов естествознания, которые, по мнению автора, сомневаются в материальности мира и отрицают «закономерности» природы. Наан отнес к физическим идеалистам разнородную группу западных естествоиспытателей и философов, включая А.С. Эддингтона, Дж. Джинса, П. Иордана, Э.Т. Уиттекера, Э.А. Милна, Бертрана Рассела и Филиппа Франка. Особенно критиковался Франк за его замечание о том, что неопозитивизм происходит от Маха, но так формулирует свои позиции, что его невозможно спутать с идеалистическими или солипсистскими доктринами, так как вопрос о существовании реального мира за пределами наших ощущений есть лишь «псевдовопрос». Наан заключил отсюда, что основной вопрос философии окрестили «псевдопроблемой»[11].
Следующий номер «Вопросов философии» (№ 3, 1948) был важным для философии естествознания в Советском Союзе. Он содержал несколько статей о современной физике и биологии, а также редакционные призывы развивать идеологическую борьбу в естествознании. Статьи по физике М.Э. Омельяновского, А.А. Максимова и Р.Я. Штейнмана продолжили наановский перечень обвинений в адрес многих крупнейших зарубежных интерпретаторов естествознания: Шредингера, Рейхенбаха и Карнапа[12]. Омельяновский особенно много писал о Рудольфе Карнапе, «открытом враге» материализма, который верил, что он «поднялся» над конфликтом идеализма и материализма. Эддингтона критиковали за его утверждение о том, что многие константы в физике должны приниматься a priori, а Франка — за его попытки наведения мостов между диалектическим материализмом и логическим эмпиризмом[13].
Эти советские критики западных физических воззрений часто использовали как основу популярные и философские публикации западных естествоиспытателей, которые, особенно это характерно для таких мыслителей, как Джинс и Эддингтон часто жертвовали научной строгостью ради красочного языка и выразительности. Но серьезной ошибкой советских критиков был переход от критики неформальных интерпретаций к осуждению самой теории относительности. Это выглядело так, как будто теория может отвечать за все профессиональные и непрофессиональные высказывания ее приверженцев. Это было наиболее очевидно сделано А. А. Максимовым, который в конце концов пришел не только к отрицанию эйнштейновской относительности, но даже галилеевской относительности. Максимов отмечал: «А. Эйнштейн в своей книге о теории относительности писал: «На этом примере ясно видно, что не существует траектории самой по себе, но всякая траектория относится к определенному телу отсчета». Это рассуждение, преподносимое как философский вывод о том, что нет никакой объективно данной траектории тела, существующей независимо от выбора той или иной системы координат, совершенно антинаучно»[14].
Размеры этого комичного словоблудия были настолько велики, что даже редакция журнала не удержалась от сноски к тексту Максимова, в которой указывалось, что хотя они разделяют его стремление критиковать идеалистические воззрения современной физики, тем не менее они считают, что его обсуждение траектории не «охватывает этот вопрос во всей его сложности»[15]. Не успокоившись, Максимов попытался подкрепить свою позицию дополнительным наблюдением о том, что объективные характеристики траектории метеорита определяются, когда он пропахивает борозду на поверхности земли, с которой может быть сделан подходящий для исследования слепок. Максимов признавал, что математические соотношения преобразования Лоренца имеют место, но утверждал, что такие понятия, как длина, время и одновременность, имеют объективное значение. Он, однако, не пытался дать этим понятиям строгие определения.
Прошло достаточно много времени, прежде чем Максимов получил суровый урок в физике, который неизбежно должен был последовать за его статьей. Что же касается нескольких последующих авторов, таких, как Г.А. Курсанов, то они пытались найти более защищенную позицию без необходимости отрицания аргументов Максимова; они соглашались с тем, что движение не может быть отнесено к какому-либо абсолютно неподвижному телу, системе или эфиру, как это явно утверждал Максимов, но они указывали на то, что эта относительность не противоречит движению тел независимо от человеческого сознания. Подобный взгляд на относительность явно не разрешает, по словам Курсанова, рассматривать такие понятия, как «пространство», «время», «сила» и «движение», как «псевдопонятия», что он приписывал Карнапу и Венскому кружку. Тем не менее Курсанов понимал, что относительность временных длительностей и пространственных расстояний не возникает в процессе наблюдения, а присуща характеристикам самих физических явлений, как описывает их современная наука. В этих пределах он поправлял отдельных советских авторов, неверно интерпретировавших теорию относительности. Но он сохранял веру в существование абсолютной одновременности[16].
Прямой отказ от теории относительности был, конечно, очень маловероятен. В это время физики применяли отдельные аспекты специальной теории относительности так же удобно и часто, как инженеры использовали механику Ньютона. Но теперь, когда эта тема перешла на уровень идеологических дискуссий, в ней было несколько затруднительных моментов, касающихся теории относительности. Отдельно от основных вопросов материализма и объективности стоял второстепенный, но достаточно трудный исторический факт. Дело в том, что Эйнштейн находился под сильным влиянием Маха, часто говорил о своем долге перед ним, а между тем Мах был объектом критики Ленина в «Материализме и эмпириокритицизме»[17]. Могла ли относительность быть отделена от «махистского идеализма»? Этот вопрос волновал какое-то время советских философов естествознания, хотя к концу 50-х годов на него был дан положительный Ответ. Один из возможных выходов в данной ситуации лежит в нахождении иных (помимо Маха) важных предшественников Эйнштейна. Русскими авторами часто делались попытки подчеркнуть роль Н. И. Лобачевского, русского основателя первой неевклидовой геометрии. Так, Л. И. Сторчак писал: «Установление приоритета Лобачевского в формулировке принципа относительности развенчивает старый миф о том, будто бы открытие этого принципа принадлежит Маху»[18]. Но эта попытка использования Лобачевского для замены Маха была неубедительной даже в Советском Союзе, хотя выдающийся Лобачевский не нуждался в дополнительных почестях, чтобы укрепить свое место в истории математики[19].
В начале 1951 г. эстонский ученый Г. И. Наан подверг статью Максимова от 1948 г. резкой критике, язвительно замечая, что, когда Максимов утверждает, что уравнения специальной теории относительности правильны, но при этом существуют абсолютные траектории, то это равносильно, например, утверждению, что таблица умножения верна, отрицая при этом, что 8 x 11=88[20]. Со времени статьи Наана 1948 г., в которой осуждались многие зарубежные интерпретаторы релятивистской физики, его взгляды сильно переменились. Да, он не противоречил прямо своим предыдущим замечаниям, но в то время как предыдущая статья была воинствующей критикой зарубежных философов науки, новая статья была лишь трезвым описанием популярной теории относительности для философов. Его критика физических идеалистов сейчас была направлена лишь на тех, кто утверждал, что относительность траектории, кинетической энергии, массы, пространственных и временных интервалов зависит от наблюдателя, Подобно Курсанову, Наан указывал, что относительность не есть субъективное явление, а присуща самим физическим процессам. Его настаивание на абсолютной природе ускорения, однако, указывало на то, что он полностью не принял общей относительности. Эта статья Наана может характеризоваться и как критика вульгарных материалистов, таких, как Максимов, в сочетании с изложением основ современной теории относительности. Статья была терпима по отношению к философским вопросам, что в высшей степени удивительно для сталинской России, принимая во внимание время и место ее публикации.
Незадолго до статьи Наана АН СССР выпустила пятый том работ Л. И. Мандельштама, содержащий изложение его взглядов на теорию относительности. Этот том основывался на записях, сделанных студентами на его лекциях и представленными к публикации после его смерти. В сочетании со статьями Максимова спектр воззрений на философские интерпретации теории относительности, доступных советскому читателю, был удивительно широким, учитывая напряженность идеологической обстановки тех лет. В работах Мандельштама можно найти интерпретации тех естествоиспытателей и философов, которые приветствовали новации в эпистемологической мысли, широко распространенные в Центральной Европе с конца XIX и в начале XX в.
Взгляды Наана, хотя и не обладали той степенью важности, что воззрения Мандельштама, были аналогичны взглядам тех советских естествоиспытателей, которые больше всего желали продолжить работу в физике и которые были достаточно нетерпимы к вторжениям философов.
Этот спектр, хотя он и достаточно разнообразен, представлял малый выбор для Советского Союза, который исходил из сталинизма и, однако, сохранял приверженность к универсальной марксистской философии. Позиция Максимова противоречила большей части современной физики, позиция Наана была почти нейтральна к диалектическому материализму, а позиция Мандельштама косвенным образом даже противостояла советскому диалектическому материализму, так как он черпал свое вдохновение из зарубежных и немарксистских источников и был несогласен с советскими марксистскими интерпретациями того времени.
Истинное улучшение интеллектуального качества советских обсуждений теории относительности началось еще до смерти Сталина в марте 1953 г. Несколько известных советских физиков и математиков решили вмешаться в философские дебаты с целью защитить теорию относительности от нападок идеологически воинствующих философов и невежественных физиков. Это решение в конце концов вылилось в усиление как научного содержания советской философии, так и философской восприимчивости советских естествоиспытателей. Опасность для теории относительности стала ясной в статьях 1952 г. философа И. В. Кузнецова и физика Р. Я, Штейнмана[21]; эти статьи вышли в той же «Зеленой книге» (редактируемой ультраконсервативным А. А. Максимовым), которая уже упоминалась в предыдущей главе по квантовой механике. Штейнман и Кузнецов перешли от критики философии Эйнштейна к призывам отказаться от самой теории относительности. Кузнецов писал, что истинно материалистическое понимание физических законов тел, движущихся с высокими скоростями, приведет к развенчанию эйнштейновской специальной теории относительности (СТО) и к развитию существенно другой физической теории[22]. Однако единственной альтернативой, которую могли предложить Кузнецов и Штейнман, был возврат к дорелятивистской интерпретации лоренцовских сокращений в рамках абсолютного пространства и времени. В статье, опубликованной за несколько месяцев до смерти Сталина, В. А. Фок назвал этот подход попыткой отрицания наиважнейших достижений в физике XX в.[23] Согласно Фоку, как специальная теория относительности, так и квантовая механика были «блестяще подтверждены» экспериментально и, в свою очередь, сами были подтверждениями диалектического материализма[24].
Фок защищал релятивистскую физику в рамках интеллектуальной системы диалектического материализма. Еще в 30-х годах он писал о физике и философии в главном советском философском журнале[25]. Для защиты релятивистской физики в политической атмосфере сталинской России не было иного выбора, чем диалектико-материалистический подход. Однако отсюда не следует делать поспешный вывод, будто попытки Фока и других солидарных с ним естествоиспытателей развить новое диалектико-материалистическое понимание природы были просто притворными или тактически обусловленными. Многие из них продолжали писать о философии и естествознании многие годы и после сталинского периода. Спустя 20 лет после смерти Сталина Фок все еще публиковал интересные работы по диалектическому материализму и теории относительности. Очевидно, есть причины считать, что некоторые советские естествоиспытатели, как Фок, однажды идейно соприкоснувшись с диалектическим материализмом, решили, что наиболее важные его принципы созвучны их собственным и что диалектический материализм имеет большие возможности для развития.
Интерпретация теории относительности Фока — Александрова иногда подавалась как единая схема, неразделимая на части, за каждую из которых несет ответственность один из авторов. Этот единый подход не является, однако, наиболее показательным. Александров и Фок поддерживали друг друга, и по главным пунктам их взгляды не вступали в противоречие, но каждый из них следовал несколько иным путем и делал акцент на разные части теории относительности. Александров сфокусировал свое внимание на интерпретации СТО, а Фок уделял внимание общей теории относительности (ОТО). Более того, Александров исследовал проблемы определения пространственной и временной конгруэнтности и одновременности более тщательно, чем Фок, который, как и многие физики, уделял этой теме — жизненно важной с точки зрения философии науки — недостаточно внимания[26]. В результате различных подходов Александров был более уязвим для критики со стороны тех философов, которые отказывались принять тот взгляд, что пространство и время обладают внутренней метрикой, предшествующей принятию конвенций. Фок был менее уязвим, так как он не столь откровенно выражался по вопросам метрики. Поэтому я буду рассматривать Фока и Александрова раздельно.
1. См. обсуждения в: Mikular M.W. Relativily Theory and Soviet Communist Philosophy (1922-1960). Ph. D. dissertation Рh. Columbia University. 1965 и Joravsky D. The "Crisis" in Physics в его книге "Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932". Р. 275-295. Диалектико-материалистические философы знали о проблемах интерпретации, вызванных современным развитием физической теории, и в нескольких случаях указывали в 20-х годах на опасность "махизма" в физике. В 1930 г. А. М. Деборин читал официальную речь в АН СССР под названием "Ленин и кризис в современной физике". Однако физики не казались озабоченными. См. работу под редакцией В. П. Волгина "Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1929 год". Л., 1931. Т. 1. Приложение. Известным физиком, который противостоял теории относительности от имени диалектического материализма, был А. К. Тимирязев; некоторыми из тех естествоиспытателей, кто в какой-то степени защищал ее от того же имени, были А. Ф. Иоффе, И. Е. Тамм и О. Ю. Шмидт, каждый из которых обладал выдающимся научным талантом.
2. Семковский С. Ю. Диалектический материализм и принцип относительности. М.; Л., 1926. С. 9, 11.
3. Там же. С. 54.
4. Joravsky D. The "Crisis" in Physics. Р. 275-276.
5. Цит. в работе: Семенов А. А. Об итогах обсуждения философских воззрений академика Л. И. Мандельштама//Вопросы философии. 1953. № 3. С. 200; Мандельштам Л. И. Полн. собр. трудов. М., 1950. Т. 5. С. 178.
6. Папалекси Н. Д. и др. Курс физики. М.; Л., 1948. Т. 2. С. 539. А. Д. Александров критиковал этот взгляд в своей работе "Теория относительности как теория абсолютного пространства-времени"//Философские вопросы современной физики. М., 1959. С. 284.
7. Жданов А. А. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова "История западноевропейской философии" 24 июня 1947. М., 1947. С. 43.
8. Как пример крайней вульгарности в критике теории относительности см.: Максимов А. А. Против реакционного эйнштейнианства в физике//Красный флот. 1952. 23 июня. С. 1. Максимов в свое время был более позитивно настроен по отношению к Эйнштейну и теории относительности, однако он утверждал, что необходимо перестроить философскую основу теории относительности. См. он же. Теория относительности и материализм//Под знаменем марксизма. 1923. № 4-5. С. 140-156. Другим примером упрощенной оппозиции было утверждение И. В. Кузнецова: "Разоблачение реакционного эйнштейннанства в области физической науки - одна из наиболее актуальных задач советских физиков и философов". См.: Кузнецов И. В. Советская физика и диалектический материализм// Философские вопросы современной физики. М., 1952. С. 47.
9. Относительно объективным был взгляд Наана в статье "К вопросу о принципе относительности в физике"//Вопросы философии. 1951. № 2. С. 57-77. Позиция Наана критиковалась множеством авторов, как это будет показано. Критика Наана редакцией содержится в материале "К итогам дискуссии по теории относительности"//Вопросы философии. 1955. № 1. С. 138.
10. См.: Максимов А. А. Борьба за материализм в современной физике//Вопросы философии. 1953. № 1. С. 194.
11. См.: Наан Г. И. Современный "физический" идеализм в США и Англии на службе поповщины и реакции//Вопросы философии. 1948. № 2. С. 294. Наан основывал свою критику Франка на работе последнего "Основания физики" и его статьях, далее критиковал книгу Бертрана Рассела "История западной философии" за ее "сенсуализм" и также замечания Дж. Джинса об "исчезновении" материи.
12. Омельяновский М. Э. Фальсификаторы науки. Об идеализме в современной физике//Вопросы философии. 1948. № 3. С. 143-162; Максимов А. А. Марксистский философский материализм и современная физика//Там же. С. 105-124; Штейнман Р. Я. О реакционной роли идеализма в физике//Там же. С. 163-173. Омельяновский направил свою критику против сочинения Карнапа "The Logical Sentax of Language" (1937). Омельяновский рассматривал Эйнштейна как "материалиста", но не как "диалектического материалиста"; за эту позицию его критиковал М. М. Карпов, для которого Эйнштейн был последовательным идеалистом. См.: Карпов М. М. О философских взглядах А. Эйнштейна//Вопросы философии. 1951. № 1.С. 130-141.
13. См.: Омельяновский М. Э. Фальсификаторы науки. С. 144, 155. Франк включил главу "Логический эмпиризм и философия в Советском Союзе" в свою книгу "Between Physics and Philosophy" (Cambridge, 1941).
14. Максимов А. А. Марксистский философский материализм и современная физика. С. 114.
15. Там же.
16. См.: Курсанов Г. А. Диалектический материализм о пространстве и времени // Вопросы философии. 1950. № 3. С. 186 и др.
17. Эйнштейн замечал в написанном на смерть Маха в 1916 г. некрологе: "Он считал, что все науки объединены стремлением к упорядочению элементарных единичных данных нашего опыта, названных им "ощущениями". Этот термин, введенный трезвым и осторожным мыслителем, часто из-за недостаточного знакомства с его работами путают с терминологией философского идеализма и солипсизма... Я должен сказать, что мне, прямо или косвенно, особенно помогли работы Юма и Маха... Мах ясно понимал слабые стороны классической механики и был недалек от того, чтобы прийти к общей теории относительности. И это за полвека до ее создания! Весьма вероятно, что Мах сумел бы создать общую теорию относительности, если бы в то время, когда он еще был молод духом, физиков волновал вопрос о том, как следует понимать постоянство скорости света". См.: Эйнштейн А. Эрнст Мах//Собр. науч. трудов. М., 1967. Т. 4. С. 29-32.
18. Сторчак Л. И. Значение идей Лобачевского в развитии представлений о пространстве и времени//Вопросы философии. 1951. № 1. С. 147.
19. Другой попыткой подменить Маха Лобачевским была статья Маркова Н. В. "Значение геометрии Лобачевского для физики"//Философские вопросы современной физики. М., 1952. С. 186-215.
20. Наан цитируется в: Comey D.D. Controversies Over Relativity// The State of Soviet Science. Cambridge, 1965. Р. 191. См. также: Штерн В. К вопросу о философской стороне теории относительности; Блохинцев Д. И. За ленинское учение о движении; Курсанов Г. А. К критической оценке теории относительности//Вопросы философии. 1952. № 1. С. 169-174, 175-181, 181 - 183. Взгляды Штерна полнее излагаются в его книге "Erkenntnistheoretische Probleme der Modernen Physik" (В., 1952). Упрощенный взгляд Штерна на относительность позже основательно критиковался Кардом П. Г. (О теории относительности//Вопросы философии. 1952. № 5. С. 240-247), но в то же время Кард положительно отзывался об усилиях Блохинцева сохранить понятие абсолютного пространства. См.: Блохинцев Д. И. За ленинское учение о движении. Блохинцев полагал, что любая большая и более инерциальная система отсчета являлась улучшением предыдущей в результате ее обладания относительным зерном истины. Сравните этот взгляд с ленинским утверждением об абсолютной и относительной истине в "Материализме и эмпириокритицизме": "Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается от суммы относительных истин... но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 137).
21. См.: Кузнецов И. В. Цит. произв.; Штейнман Р. Я. За материалистическую теорию быстрых движений.
22. Кузнецов И. В. Цит. Произв. С. 72.
23. См.: Фок В. А. Против невежественной критики современных физических теорий // Вопросы философии. 1953. № 1. С. 174.
24. Там же. С. 168.
25. См. сноску 2. С. 320.
26. Так, Фок мимоходом отмечал, что заявление о том, что скорости света равны "туда и обратно", является "естественным" допущением. Но придание коэффициенту любого значения от 0 до 1 в широко известном уравнении t2 = t1 + ? (t3-t4) является конвенциональным. По всей теме конгруэнтности Фок соглашался с Александровым в том, что точное значение х, у, z и t может быть получено из закона распространения волнового фронта. Они не даются a priori. См.: Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения. М., 1961.
А.Д. Александров
Александр Данилович Александров (род. в 1912 г.) является всемирно известным и уважаемым советским математиком, который несколько лет был ректором ЛГУ. Он выезжал как в Соединенные Штаты, так и в Западную Европу. Среди математиков он наиболее известен своей книгой «Intrinsic Geometry of Convex Surfaces», которая была переведена на английский язык Американским математическим обществом[1]. В целом он считается основателем советской школы геометрии и опубликовал по этой теме множество статей. Он также публиковал статьи с такими названиями, как «Диалектика Ленина и математика»[2] и «Об идеализме в математике»[3]. Ранее в этой книге мы видели, что в 70—80-х годах он был вовлечен в обсуждение «природа — воспитание» (см. с. 237 и далее). Он стойко защищал диалектический материализм во многих случаях. Однажды он написал: «Моя профессиональная деятельность — это, главным образом, доказательство новых теорем. И в осмыслении общих вопросов моей науки несомненным руководством является для меня марксистско-ленинская философия.
Диалектический материализм, разумеется, не дает способов решения конкретных задач математической науки, но он указывает верные ориентиры для поисков научной истины, вооружает методами для выяснения истинного смысла теорий и содержания научных понятий. Я мог бы привести примеры, показывающие, как философия помогает одолевать математическую теорию бесконечных множеств, теорию относительности Эйнштейна или квантовую механику. Но это потребовало бы привлечения сложных специальных понятий. Скажу только, что, будучи студентом, учась на физическом факультете, я мог понять квантовую механику в значительной степени благодаря тому, что параллельно изучал философию, которая помогла осмыслить эту трудную теорию в духе диалектического материализма»[4].
Говоря о своей точке зрения на теорию относительности, Александров всегда начинал с признания великого гения Эйнштейна, человека, который, по мнению Александрова, испытывал большее влияние со стороны присущего ему материалистического понимания законов природы и понятия причинности, чем со стороны Маха и школы неопозитивизма. Александров был одним из выдающихся советских ученых, который защищал Эйнштейна в критический момент советской истории. Александров, Фок и другие советские исследователи утверждали, что большинство из воззрений Эйнштейна иллюстрируют релевантность материализма, а не наоборот. Успех усилий таких ученых, как Александров и Фок, может в некоторой степени быть измерен тем высоким уважением к Эйнштейну, которое сегодня имеет место в Советском Союзе. В 60-х годах в Советском Союзе в русском переводе вышло первое в мире полное издание работ Эйнштейна[5]. Тем не менее и Александров, и Фок расходились с Эйнштейном по некоторым вопросам, особенно по вопросам философской интерпретации.
Так, Александров полагал, что позитивистские взгляды Эйнштейна, сформировавшиеся у него под влиянием Маха, были сильны настолько, что привели его к ряду ошибок. Если бы Эйнштейн следовал лишь своим собственным склонностям, он бы еще более подчеркнул, думал Александров, «глубокое содержание» теории относительности, а именно: то, что новая концепция абсолютного пространства-времени (в отличие от пространства и времени) открывает объективность природы и, что даже более важно, устанавливает материальную и причинно-следственную структуру мира. «Тогда она (теория относительности.— Пер.) представляется уже не как теория относительности, а как теория абсолютного пространства-времени, определенного самой материей,— теория, в которой относительность совершенно явно и необходимо занимает положение подчиненного, вторичного аспекта»[6].
Абсолютный характер пространственно-временного континуума стал краеугольным камнем системы Александрова. Он отмечал, что Эйнштейн пришел к понятию абсолютного пространства-времени после того, как преодолел и полностью отбросил ньютоновское пространство и время. Он, таким образом, перешел от относительного к абсолютному. Но, спрашивал Александров, не будет ли лучшим концептуальный подход, основанный на обратном переходе — от абсолютного к относительному, сейчас, когда благодаря Эйнштейну абсолютная природа пространства-времени установлена? В этом смысле относительный характер соответственно времени и пространства «есть лишь аспект абсолютного многообразия пространства-времени» (с. 279). Здесь Александров следовал терминологии, очень напоминающей ту, которую много лет до этого создал Г. Минковский[7].
Дальнейшее развитие Александровым своих взглядов на необходимость обратного перехода от абсолютного пространства-времени выявляет, что его цель в не меньшей мере состояла в доказательстве объективности, присущей системам отсчета. «Принцип относительности формулируют не как физический закон, а как принцип независимости законов природы от произвольного выбора системы отсчета... Но система отсчета есть нечто объективное. Она есть, по существу, объективная координация явлений по отношению материальных тел и процессов, служащих базой системы отсчета, координация, определенная в конечном счете материальными взаимодействиями» (с. 282).
Заявление Александрова о том, что «система отсчета есть нечто объективное», можно рассматривать двояко. Если он говорит о системе отсчета, реально использующейся в физическом пространстве и времени, то «нечто объективное» может иметь то же значение, которое обозначается такими зарубежными философами науки, как Адольф Грюнбаум, который после долгого обсуждения вопроса, имеются ли основания для приписывания определенной метрической геометрии физическому пространству и времени, пришел к выводу: «Если физическое значение конгруэнтности было обусловлено отнесением к твердому телу или часам соответственно, погрешностями которых можно пренебречь... то геометрия и придание длительностей временным интервалам однозначно определяется совокупностью релевантных эмпирических фактов»[8]. Другими словами, если определение для метрической одновременности принималось, то геометрия физического пространства и хронометрия естествознания определяются экспериментом.
Было ли это тем, что имел в виду Александров? Анализ его воззрений на этот вопрос показывает, что он расходился с подходом Грюнбаума в следующих пунктах: Грюнбаум делал изначально произвольное определение стандарта конгруэнтности; с другой стороны, Александров за стандарт конгруэнтности брал физическое явление, которое, по его мнению, имеет универсальное и объективное значение,— свет. Он полагал, что стандарты конгруэнтности могут быть получены эмпирически. Он признавал, что никто не будет утверждать, что «в мире начерчены координатные сетки» (с. 283), но тем не менее он верил, что стандарты конгруэнтности могут быть установлены без простого «определения» твердых масштабов и изохронных часов (с. 284).
Как же Александров установил свои стандарты конгруэнтности, то есть как он мог знать, что его масштабы действительно жесткие, а часы — действительно синхронизированные? Он предпринял несколько попыток установить такие стандарты.
Александров последовал по пути, знакомому многим изучавшим теорию относительности,— по пути построения геометрии света[9]. Следуя системе, напоминающей систему Э. Милна, Александров утверждал, что «фон излучения» или «обмен сигналами» между телами определяет взаимную координацию в пространстве и времени. Эти сигналы не должны рассматриваться как результат гипотетических экспериментов, производимых воображаемыми наблюдателями, как это часто подразумевал Эйнштейн, но как объективные результаты природных процессов. «Фон излучения», таким образом, был постоянно существующей объективной реальностью. «Радиолокация как раз представляет собой основанный на этом экспериментальный метод определения расстояний... Точно так же известное определение одновременности пространственно удаленных событий, данное Эйнштейном, основано на посылке, отражении и обратном приеме электромагнитных сигналов. Все эти процессы происходят постоянно естественным путем, так как малейшая пертурбация в данном теле вызывает хотя бы слабое электромагнитное излучение, которое рассеивается встречаемыми телами и хотя бы в ничтожной степени возвращается обратно. Иными словами, процессы, отвечающие радиолокации и сверке часов по Эйнштейну, идут непрерывно естественным путем. Они устанавливают взаимную координацию тел и происходящих в них явлений в пространстве и во времени, и это происходит без всяких наблюдателей. Поэтому координация тел и процессов по отношению к данному телу есть объективный факт и, стало быть, система отсчета, связанная с этим телом, вполне реальна» (с. 303).
Александров был уверен, что такой взгляд на теорию относительности устранял необходимость описания стандартов временной и пространственной конгруэнтности путем конвенций[10]. Фон излучения играет что-то вроде роли старого эфира в предоставлении привилегированной системы отсчета, но Александров настаивал, что в данном случае речь шла не об истинном сходстве. «Эфир — это только среда... Волны распространяются в эфире. Излучение же... есть сами волны» (с. 301).
Именно посредством понятия фона излучения взгляды Александрова соединяются с интерпретацией Фока, который делал основной упор на уравнение распространения фронта электромагнитной волны. И Александров, и Фок были уверены, что скорость распространения волнового фронта имеет универсальное значение, ибо она устанавливает существование универсальной связи между пространственными расстояниями и ходом времени. Это соотношение установлено для однородного пространства специальной теории относительности, и они поэтому считали, что общая теория относительности не может быть расширением специальной теории, так как общая теория отрицает однородность пространства.
Ссылка на систему Э. Милна, сделанная выше, указывает, что точка зрения Александрова была изначально создана не им; многие системы геометрии света (light-geometry) были созданы ранее. Автором, предвосхитившим многие представления Александрова, был ирландский физик Алфред А. Робб, который еще в 1914 г. разработал оптическую геометрию движения, в которой он пытался доказать, что отношения конгруэнтности не придаются, а неотъемлемо содержатся в самой системе[11].
Александров признавал сходство своей системы с концепцией Робба. Он не знал о работах Робба до 1954 г., когда его внимание к ним было привлечено участником семинара на физическом факультете Ленинградского университета. После изучения работы Робба Александров утверждал, что для нее было характерно наложение позитивистских воззрений на теорию относительности, что послужило причиной ряда неясностей (с. 274)[12].
1. Русское и немецкое издания см.: Александров А. Д. Внутренняя геометрия выпуклых поверхностей. М.; Л., 1948; Die innere Geometrie der konvexen Fl?chen. В., 1955.
2. Александров А.Д. Ленинская диалектика и математика // Природа. 1951. № 1. С. 5-15.
3. Александров А.Д. Об идеализме в математике // Природа. 1951. № 7. С. 36- 41; № 2. С. 3-9.
4. Правда. 1966. 4 .октября. С. 2. Я благодарен Дэвиду Д. Комею за то, что он указал мне на эту цитату и перевел ее.
5. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1965-1967. Т. 1-4. Несколько малых собраний работ Эйнштейна публиковались ранее, в 1922-1924 гг. издано четырехтомное издание его научных работ (написанных до 1922 г.) на японском языке; тем не менее советские редакторы подготовили первое издание, охватывающее все время жизни Эйнштейна. В подготовке этого значительного издания советские редакторы часто связывались с секретарем Эйнштейна мисс Элен Дюкас (Диалог с мисс Дюкас. Принстон. Нью-Джерси. 16 января 1970). Klickstein H. A Commulative Review of Bibliogrphies of the Published Writings by Albert Einstein // Journal of the Albert Einstein Medical Center. 1962. Jul. Р. 141 - 149.
6. Александров А.Д. Теория относительности как теория абсолютного пространства-времени//Философские вопросы современной физики. М., 1959. С. 273- 274. Последующие в тексте указания на страницы относятся к этой статье.
7. В известном докладе 1908 г. о пространстве и времени Минковский говорил о «постулате относительности» и далее замечал:
«Так как смысл постулата сводится к тому, что в явлениях нам дается только четырехмерный в пространстве и времени мир, но что проекции этого мира на пространство и на время могут быть взяты с некоторым произволом, мне хотелось бы этому утверждению скорее дать название “постулат абсолютного мира” (или, коротко, мировой постулат)».
См.: Минковский Г. Пространство и время//Принцип относительности. М., 1973. С. 173.
8. Grunbaum А. Geometry. Chronometry and Empiricism // Minnnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. III. Minneapolis, 1962. Р. 522.
9. См.: Александров А.Д., Овчинников В. В. Замечания к основам теории относительности//Вестник ЛГУ. 1953. № 11. С. 95-109.
10. Трудности такой позиции будут обсуждаться далее.
11. Robb А. А. The Absolute Relation of Time and Space. Cambridge, 1921. Для интересующихся историей можно указать, что космологии, основанные на свете, очень древние в истории науки, хотя в подобных различных системах существуют серьезные трудности. Одной из старейших и наиболее разработанных космологий света была космология Роберта Гроссетесте конца XII-начала XIII в. Гроссетесте верил, что свет был первым эффективным принципом движения, которым были вызваны действия или «становление» природных вещей. См.: Crombie А. С. Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science, 1100-1700. Oxford, 1953. Р. 91 -124. Во многих ранних работах, таких, как работы испанского еврея Авицеброна, св. Августина, Псевдо-Дионисия и св. Василия, выдвигалась идея о том, что свет есть форма, актуализирующая возможности материи как универсального континуума.
12. Даже если Александров и соглашался с большей частью интерпретации Нооба, он отмежевался от замечания Робба, что относительность одновременности Эйнштейна превращает Вселенную во что-то подобное "кошмару". См.: Robb А. А. Ibid. P. V.
В.А. Фок
В нашем обсуждении квантовой механики упоминалось, что В.А. Фок был известным физиком-теоретиком, признанным во многих странах мира. В конце 50-х годов Фок утвердил себя как наиболее авторитетный интерпретатор отношения диалектического материализма к релятивистской физике. Он продолжал занимать это положение в 60-х и начале 70-х годов, несмотря на существование других советских интерпретаций. Хотя он умер в 1974 г., его интерпретация релятивистской физики оказывает воздействие в Советском Союзе и сегодня.
Фок неоднократно признавал, что он в долгу перед марксизмом как подходом к естествознанию. Во введении его книги «Теория пространства, времени и тяготения», изданной в 1955 г., Фок отмечал: «Общефилософская сторона наших взглядов на теорию пространства, времени и тяготения сложилась под влиянием философии диалектического материализма, в особенности же под влиянием книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»[1].
Такие заявления не были характерными для 50-х годов, равно как не являлись добавками к его научным работам. В 1966 г. в ответе по почте на вопрос американского журнала о его замечаниях по диалектическому материализму и естествознанию Фок писал: «Сущностью диалектического материализма является лишь комбинация диалектического подхода с принятием объективности внешнего мира. Без диалектического подхода материализм был бы сведен к механическому материализму, который был устаревшим даже в начале XX в. и является еще более устаревшим сейчас. С другой стороны, применение законов диалектики позволяет материалистической философии развиваться с прогрессом науки. Даже такие утверждения классического материализма, как полная независимость существования от возможности восприятия, могут быть переосмыслены и, при необходимости, пересмотрены без изменения сущности диалектического материализма. Способность этой формы философии идти в ногу с наукой является одной из ее характерных черт. Диалектический материализм является живой, а не догматической философией. Он помогает дать опыту, накопленному в одной области науки, настолько общую формулировку, что она может найти применение и в других областях».[2]
Фок выработал интерпретацию теории относительности, которая сохранила математическое ядро работы Эйнштейна, но приводила к некоторым новым понятиям. Фок отбросил термины «общая относительность», «общая теория относительности» и «общий принцип относительности». Вместо этого он называл теорию пространства Галилея[3] «теорией относительности» (а не «специальной теорией относительности») и теорию пространства-времени Эйнштейна «теорией тяготения» (а не «общей теорией относительности»).
Однако было бы большой ошибкой подчеркивать лишь фоковскую критику общей относительности. По сути дела, он рассматривал общую относительность (он бы сказал, теорию тяготения) как требовавшую интерпретационных разъяснений и методологических исправлений. В других отношениях он стойко защищал подход Эйнштейна, и, действительно, вполне возможно, что изначальная мотивировка Фока для написания работ по теории относительности и философии была защитной, то есть он стремился оградить теорию относительности от дискредитации в Советском Союзе. Но он обсуждал и защищал относительность в рамках диалектического материализма; есть серьезные основания полагать, что в ходе этого процесса он стал искренне интересоваться философскими проблемами естествознания. Его акцент на необходимости физического содержания в научных объяснениях — и не только математических форм — очевиден во многих его произведениях. Этот акцент был ясно связан с его материализмом.
Фок проводил четкие различия между физическими теориями в том виде, как они предстали в их завершенной форме, и методами, которыми они развивались. Фок полагал, что может иметь место принципиальное различие между начальными идеями, на базе которых была построена теория, и существенными идеями, которые она содержала после завершения[4]. Таким, по его мнению, был случай с общей относительностью. «Принцип относительности» (математически выраженный ковариантностью уравнений физики во всех системах отсчета) и «принцип эквивалентности» (математически выраженный идентичностью инерциальной и гравитационной масс) играли важную роль в мыслях Эйнштейна, когда он создал теорию общей относительности; но Фок был уверен, что эти принципы не лежали в основе относительности в физическом смысле. В действительности, согласно Фоку, принцип эквивалентности был лишь приблизительным утверждением, в то время как принцип относительности (общая ковариантность) вступал в противоречие с характеристиками существующего поля гравитации. Принципы эквивалентности и относительности могут быть получены из целостной структуры общей относительности в том виде, как ее представлял Эйнштейн, но, по словам Фока, они не были существенны для нее как для теории тяготения. Давайте рассмотрим его анализ более детально.
Ключом ко взгляду Фока на общую относительность (которую всегда необходимо отличать от специальной относительности, полностью принимавшейся Фоком) было его мнение о том, что Эйнштейну не удалось усмотреть важности пространства-времени «как целого» и что он вместо этого уделял внимание локальным областям внутри пространственно-временного континуума. Этот акцент привел к тому, что Эйнштейн, по словам Фока, не придал значения тому факту, что его ОТО вовсе не является обобщением СТО, а, наоборот, является ее ограничением. Вместо того чтобы обобщить понятие относительности, Эйнштейн, по словам Фока, обобщил просто определенные геометрические понятия, изменив одновременно своей первоначальной релятивизации пространства и времени.
Фок начал свое обсуждение теории относительности с замечания о том, что теория пространства и времени может быть разделена на две части: теорию однородного (галилеевского) пространства и теорию неоднородного (римановского, эйнштейновского) пространства. Первая половина занимала внимание Эйнштейна в ходе его развития СТО, а затем он попытался (неудачно, по словам Фока) обобщить свою теорию в ОТО.
Основной характеристикой галилеевского пространства выступает его однородность, которая может быть проиллюстрирована эквивалентностью всех пунктов, направлений и инерциальных систем внутри него. Как ньютоновская физика, так и физика СТО были основаны на допущении однородного (галилеевского) пространства. Математически однородность пространства в физике Ньютона была выражена в преобразованиях Галилея; однородность пространства СТО была выражена в преобразованиях Лоренца. Лишь в переходе от СТО к ОТО допущение галилеевского пространства было отброшено и, по словам Фока, на очень правильных основаниях.
Эйнштейн правильно показал, продолжал Фок, что универсальная теория гравитации (ОТО) не может содержаться в рамках галилеевского пространства. Наиболее существенной причиной неадекватности галилеевского пространства, по словам Фока, была та, которую дал Эйнштейн: не только инертная масса тела, но и его гравитационная масса зависит от его энергии. Эйнштейн нашел способ описания новой физики посредством математического замещения галилеевского пространства на пространство Римана. Таким образом, он создал то, что обычно называют общей теорией относительности, новую физическую теорию. Но, согласно Фоку, новая теория, являясь необычайно ценной как теория гравитации, вовсе не была физической теорией общей относительности. Позже Фок сформулировал свою критику в форме, которую он назвал «двумя короткими фразами»: 1) физическая относительность не есть общая; 2) общая относительность не есть физическая[5]. Позиция Фока серьезно рассматривалась многими советскими и зарубежными естествоиспытателями. Обсуждение ее продолжается и сегодня.
Что же Фок считал концептуальной ошибкой Эйнштейна? Корень этого может быть найден в эйнштейновском понимании и использовании принципа эквивалентности, согласно которому в бесконечно малой области гравитационное поле эквивалентно ускорению. Эйнштейн иллюстрировал это с помощью известного мысленного эксперимента: если масса m прикреплена на пружине к потолку кабины (лифта) следующим образом: (вставка – рис. 1) тогда, находясь внутри лифта, невозможно сказать, вызвано ли растяжение пружины направленным вверх ускорением лифта в направлении b или направленным вниз гравитационным полем в направлении g[6]. Более обычной иллюстрацией является то, что пилот самолета при «слепом» полете в облаке не может отличить, чем вызвано вдавливание его в кресло: гравитацией или же полетом в мертвой петле, сходство которых теперь алгебраически демонстрируется описанием обеих сил в терминах g.
Эйнштейн так графически объяснял свой принцип эквивалентности, который может быть просто сформулирован как принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс. Эйнштейн перешел далее к приложению этого представления к земному тяготению. На первый взгляд это кажется невозможным, так как любое ускорение, двигающее Землю в целом, будет иметь весьма различные эффекты в различных районах поверхности планеты. Однако гравитационные силы могут быть «устранены преобразованием», если мы рассмотрим лишь бесконечно малые области, описываемые с помощью дифференциальных уравнений. Так, если мы представим сеть клеток, наложенную на Землю, где каждая клетка представляет бесконечно малую область, в следующем виде: (вставка – рис. 2) то становится явным, что сила гравитации в любой точке поверхности Земли может быть «устранена преобразованием», с помощью воображаемого соответствующего ускоренного перемещения сетки. Если мы позволим этой системе двигаться с ускорением 9,8 м/сек2 в направлении b, то гравитационное поле в клеточке а исчезнет так же, как сила тяжести исчезает в свободно падающем лифте[7].
Вышеприведенные примеры принципа эквивалентности помогают понять, что, согласно эйнштейновской теории гравитации, в любой данной точке пространства гравитационное поле можно заменить соответствующим ускорением. Это же отношение передается наблюдением, что, хотя пространство Эйнштейна в целом неоднородно, в любой бесконечно малой области оно однородно и преобразования Лоренца имеют силу.
Именно в этом пункте Фок расходился со взглядом Эйнштейна. Он утверждал, что локальная эквивалентность ускорения и гравитации не была достаточным основанием для вывода о полной эквивалентности полей ускорения и гравитации во всем пространстве. В действительности, Фок рассматривал принцип эквивалентности имеющим силу лишь в ограниченном, локальном смысле. Согласно Фоку, принцип эквивалентности в законченной теории Эйнштейна имел «приближенный характер и не является общим принципом»[8].
Фок отмечал, что физическим базисом принципа эквивалентности является закон падающих тел, согласно которому все свободно падающие тела двигаются равноускоренно. Но этот закон является общим законом, отмечал Фок, а не локальным, и если его использовать для обоснования другого общего закона (относительности), то должен быть найден некоторый способ рассмотрения пространства как целого. «При построении теории тяготения нельзя ограничиться локальным рассмотрением (т. е. рассмотрением бесконечно малых областей пространства). Необходимо так или иначе характеризовать свойства пространства в целом; в противном случае вообще нельзя поставить задачу однозначным образом, Это особенно ясно из того факта, что уравнения всякого поля (также и поля тяготения) представляют уравнения в частных производных, решения которых получаются однозначно лишь при наличии начальных и предельных условий или условий, их заменяющих. Уравнения поля и предельные условия неразрывно связаны друг с другом, и последние никак нельзя считать чем-то менее важным, чем сами уравнения. Но в задачах, относящихся ко всему пространству, предельные условия относятся к отдаленным областям пространства и для их формулировки необходимо знать свойства пространства в целом.
Заметим, что недостаточность локального рассмотрения и важность предельных условий были явно недооценены Эйнштейном, в связи с чем в наших работах и в настоящей книге нам пришлось внести в постановку основных задач теории тяготения существенные изменения»[9].
Фок характеризовал предельные условия двояко. В первом случае он допускал однородность пространства на бесконечности, в смысле описания преобразованиями Лоренца. Массы и связанные с ними гравитационные поля в таком случае были представлены как имплантированные в однородное галилеевское пространство (отметим, не в конечное, а в неограниченное пространство-время). Второй случай предполагал пространство-время, которое лишь частично однородно и пространственная часть которого подчиняется геометрии Лобачевского. Обычно называемое пространством Фридмана — Лобачевского, оно содержит хорошо определенные гравитационные поля, когда средняя плотность материи, содержащаяся внутри него, не равна нулю.
Важные выводы из этих соображений и других, которые наиболее ярко показывают неортодоксальность позиции Фока, связаны с вопросом о привилегированных системах координат. В каждом из рассмотренных Фоком типов пространств — то есть в галилеевском пространстве, пространстве однородном на бесконечности и пространстве Фридмана — Лобачевского,— «возможно», имеется, согласно Фоку, «привилегированная система координат»[10]. Слово «возможно» указывает на сохраняющиеся сомнения Фока относительно пространства Фридмана—Лобачевского. В случае с галилеевским пространством и пространством однородным на бесконечности он был уверен в существовании привилегированной системы координат. Существование таких привилегированных систем координат в каждом случае было бы, конечно, противоречащим эйнштейновской концепции полной релятивизации движения. Точно так же как СТО ассоциируется с релятивизацией инерциального движения (и, таким образом, с эквивалентностью инерциальных систем отсчета), так ОТО ассоциируется с релятивизацией ускоренного движения (и следовательно, эквивалентностью ускоренных систем отсчета). Но теперь Фок ставил под вопрос возможность рассматривать ОТО как реальное обобщение СТО в этом смысле.
Фок посвятил большую часть своего исследования задаче доказательства, что в однородном на бесконечности пространстве существует привилегированная система координат, которая хорошо определяется без преобразований Лоренца. Он думал, что такая система формируется гармоническими координатами, которые, по мнениюФока, отражали внутренние свойства пространства-времени[11]. Однако необходимо отметить, что вера в гармонические координаты была одним из наиболее спорных аспектов его подхода; несколько физиков, принявших его критику концепции общей относительности, сомневались в привилегированном статусе гармонических координат[12]. Фок признал эту критику в своем заявлении: «Сделанные выше замечания о привилегированном характере гармонической системы координат ни в коем случае не должны быть понимаемы в смысле какого-либо запрещения пользоваться другими координатными системами. Ничто не может быть более чуждым нашей точке зрения, чем такое ее толкование... Существование гармонических координат, хотя и является фактом первостепенного теоретического и практического значения, но никоим образом не исключает возможности пользоваться другими, негармоническими, координатными системами»[13].
Фок верил, что многие физики упустили из виду важность предпочтительных или привилегированных систем координат в результате преувеличения ими значения ковариантности уравнений и особенно их уверенности, что эта ковариантность отражает определенный тип физического закона. Например, используя понятия тензорного анализа, физики могли записать уравнения для пространственно-временных интервалов, не предполагая заранее каких-либо координатных систем[14]. Такие уравнения очень удобны, так как они позволяют существенно экономить в математическом описании пространства-времени. Однако, писал Фок, значение таких ковариантных выражений физических фактов в том, что не все координатные системы (в природе) действительно равны. Указанием на эту основную бессодержательность (с физической точки зрения, что всегда подчеркивал Фок) ковариантности является тот факт, что практически любое уравнение может быть задано в ковариантной форме, если ввести достаточное количество дополнительных функций[15]. В ковариантном выражении бесконечно малых пространственно-временных интервалов вводимая дополнительная функция есть коэффициент G μ ν являющийся тензором. Важным фактом является то, что эта введенная функция G μ ν есть единственная функция, используемая для описания гравитационного поля. Но надо заметить, писал Фок, что в этом процессе происходит введение подходящей теории гравитации в теорию, которая, таким образом, неподходяще дублирует ОТО, как будто результаты были дальнейшим выражением относительности движения. Как отмечал Фок, «между тем с созданием теории тяготения Эйнштейна вошел в употребление термин «общая относительность», который все запутал. Термин этот стал применяться в смысле «общей ковариантности» (т. е. в смысле ковариантности уравнений по отношению к произвольным преобразованиям координат, сопровождаемым изменением вида функции G μ ν ). Но мы видели, что такая ковариантность... ничего не имеет общего с «относительностью просто». Между тем эта последняя получила название «частной», которое как бы указывает, что она является частным случаем «общей»...
Термин «общая относительность» или «общий принцип относительности» употребляется (прежде всего самим Эйнштейном) еще и в смысле условного наименования для теории тяготения. Уже основная работа Эйнштейна по теории тяготения (1916 г.) озаглавлена «Основы общей теории относительности». Это еще больше запутывает дело... Так, «поскольку в теории тяготения пространство предполагается неоднородным, а относительность связана с однородностью, то выходит, что в общей теории относительности нет, вообще говоря, никакой относительности»[16].
Среди ведущих физиков не существует согласия по поводу фоковской критики «общей относительности». Интерпретация Фока подвергалась обсуждению и в Советском Союзе, и за рубежом. До сих пор она продолжает вызывать уважение и внимание как хорошо обоснованная и интересная точка зрения. В 1964 г. Фок представил во Флоренции (Италия) доклад, в котором он сжато изложил вышеупомянутый анализ для аудитории известных ученых. В последующей дискуссии отдельные аспекты фоковской схемы получили определенное признание, в то время как другие были признаны более спорными. Герман Бонди, профессор прикладной математики из Кингз колледжа Лондонского университета, соглашался с фоковской критикой утверждения физической эквивалентности между инерциальными и ускоренными наблюдателями[17]. Профессор Андре Лихнерович из Коллеж де Франс также поддерживал фоковскую критику принципа эквивалентности, а Стэнли Дезер из Университета Брандайза отмечал, что фоковский анализ понятия ковариантности был очень полезным для его более полного понимания общей относительности[18]. Но некоторые из присутствующих ученых, включая Лихнеровича и Дезера, были менее воодушевлены использованием Фоком гармонических координат. Определенное число физиков-теоретиков не верило, что гармонические координаты подходят для описания гравитационного поля, как на то указывал Фок.
К концу 60-х годов в Советском Союзе появилось множество различных типов интерпретации общей относительности. Фоковская интерпретация была одной из них, хотя, вероятно, наиболее распространенной. П. С. Дышлевый писал в 1969 г., что советских философов и естествоиспытателей можно условно разделить на три группы в зависимости от их отношения к общей относительности[19]. Первую группу составляли исследователи, считавшие ОТО Эйнштейна, по существу, завершенной теорией. Они вводили отдельные модификации, но в целом они полностью принимали эйнштейновскую интерпретацию относительности, полагая, что она не представляет серьезных философских или естественнонаучных проблем. Они рассматривали критицизм Фока (Фок не входил в эту группу) по отношению к общей относительности как слишком неортодоксальный в терминологическом и концептуальном планах. Эти ученые принимали использование термина «общая теория относительности» (в противоположность Фоку) и были не столь критически настроены к эйнштейновскому использованию принципа эквивалентности. Они были, в общем, скептически настроены к попыткам добавить «третью ступень относительности», такую, как «единая теория поля». Эти ученые хотели принять современное здание теории относительности с его двумя этажами: СТО и ОТО. Среди советских ученых, которых Дышлевый зачислил в эту группу, были в прошлом — М. Бронштейн, Я. Френкель, А. Фридман, В. Фредерикс, в конце 60-х годов — А.Ф. Богородский, В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович, X.П. Керес, А.С. Компанеец и М.Ф. Широков.
Лидером второй группы интерпретаторов общей относительности в Советском Союзе был Фок. Основное утверждение этой группы сводилось к положению, что основания общей относительности должны быть полностью пересмотрены, для того чтобы исправить концептуальную структуру той теории, которая была представлена Эйнштейном[20]. Я уже рассматривал взгляды этой группы в деталях в ходе обсуждения представлений Фока. Другими естествоиспытателями, которых Дышлевый относил к этой группе, были А.3. Петров и Н.В. Мицкевич.
Третья группа советских интерпретаторов теории относительности надеялась достичь новой формулировки общей относительности посредством объединения квантовой и релятивистской физики в новую квантовую теорию гравитации. Ее представители подходили к гравитации с точки зрения теории поля, которая была разработана в отношении физических полей, отличных от гравитационного. Дышлевый назвал следующих членов этой группы: Д.Д. Иваненко, О.С. Иваницкая, М.М. Мирианашвили, В.С. Кирия, А.Б. Кереселидзе, А.Е. Левашев и В.И. Родичев.
Из этих групп лишь вторая призывала к специфическим изменениям в интерпретациях общей относительности. Первая группа принимала общую относительность в виде, очень близком к ее существующей форме, в особенности те философские традиционные интерпретации ее, которые укладывались в рамки материалистических традиций. Третья группа предлагала программу на будущее, которая, при условии ее успеха, несомненно, имела бы философские последствия, но которая до этих пор обсуждалась только в начальных формах. Вторая группа, однако, продолжала выдвигать критику, изначально формулировавшуюся Фоком. Именно эта группа и ее комментаторы выработали большую часть философской литературы по теории относительности.
Действительно, многие из членов первой и третьей групп избегали философских вопросов естествознания. За исключением М. Ф. Широкова (первая группа) и Д.Д. Иваненко (третья группа), их фамилии лишь редко появлялись в библиографиях статей и книг по диалектическому материализму[21]. Из названных двух ученых М.Ф. Широков был тем, чьи идеи наиболее прямо вторгались в обсуждение общей относительности.
Широков признавал значение термина «общая относительность» и этим выступал против критики второй группы и делал это в отличие от некоторых его коллег — явно в рамках диалектического материализма. Он утверждал, что эйнштейновская интерпретация относительности полностью созвучна с диалектическим материализмом и, по сути дела, является его дальнейшим подтверждением. В 1964 г. он писал об общей относительности: «Эта теория... является также большим достижением в материалистическом понимании природы, вопреки многочисленным идеалистическим (особенно в духе махизма) толкованиям ее некоторыми зарубежными авторами»[22]. Широков полагал, что Фок и Александров недооценивали ОТО и сильно упрощали ее значение сведением к теории гравитации. Однако он признавал важность их работ в «подтверждении», что теория относительности отражает «объективность и реальность» природы. Их ошибкой была неспособность усмотреть тот факт, что, отрицая ОТО, они также отрицали объективную реальность полей инерциальных сил[23]. Широков, как и Фок, однако, придерживался идеи о привилегированной системе отсчета в ОТО, основываясь на собственном представлении о понятии «центр инерции». В этом смысле он соглашался с Фоком в выдвижении причин для предпочтения коперниковского взгляда (по сравнению с птолемеевским), но если Фок основывал свою аргументацию на своих гармонических координатах пространства, однородного на бесконечности, то Широков указывал, что Солнце представляет подходящий центр инерции для Солнечной системы[24].
Один вопрос, связанный с общей относительностью, представлял собой основу больших разногласий среди естествоиспытателей и философов в Советском Союзе: «Что есть гравитация?» На него давались самые различные ответы[25]. Члены первой группы часто приравнивали гравитационное поле к искривленному пространству-времени. Однако некоторые из их критиков утверждали, что этот ответ подразумевает почти лишение гравитации физического или материального содержания, отождествление природы с геометрией, то есть позиции, которой марксисты традиционно противостояли. М.Ф. Широков, член первой группы, из-за этого определил свою позицию очень тщательно. Согласно ему, гравитация «отражает геометрические свойства пространства-времени»; гравитационное поле не обладает массой или энергией; гравитация не есть, таким образом, сама материя, а есть вместо этого «форма существования материи». Д.Д. Иваненко определял гравитацию несколько иначе; она была для него искривлением пространства-времени, вызванным материей и самим гравитационным полем. Так, гравитация была, по Иваненко, не совсем тем же, что пространство-время, но вместо того была независимым аспектом материального мира. А.З. Петров, член второй группы, описывал гравитационное поле как «специфическую форму движущейся материи». Н.В. Мицкевич разделял эту позицию и предупреждал против сведения гравитации к геометрии. По его мнению, скорее геометрия есть выражение гравитационного поля, а не наоборот. Таким образом, существовало известное различие взглядов среди советских ученых. Попытка определить «гравитацию» была в Советском Союзе объектом дискуссии, в некоторой степени очень сходной с попытками определить «информацию» и «сознание» в других дисциплинах. Последние термины обсуждались в других главах.
К середине 80-х годов философские проблемы теории относительности казались менее проблематичными советским философам физики, чем вопросы квантовой механики. Тем не менее, значительная работа в этой области была проделана за последние пятнадцать лет, особенно над творческим наследием Эйнштейна, который теперь является объектом поклонения советских интеллектуалов[26]. Важной проблемой в теории относительности, которая привлекла внимание, была возможность существования частиц, движущихся со сверхсветовыми скоростями, названных «тахионами» американским физиком Дж. Файнбергом. Центром советской дискуссии был вопрос: «Может ли математика специальной теории относительности служить теоретической базой для описания частиц со сверхсветовыми скоростями, и если да, то не ведет ли это к отрицанию причинности?» Большинство советских физиков и философов, писавших по этому предмету, кажется, стремились дать на этот вопрос положительный ответ, но некоторые выражали опасения относительно высокой философской цены такого признания и поэтому советовали соблюдать осторожность[27]. Советские философы даже в 80-х годах признавали, что этот вопрос был как методологическим, так и «мировоззренческим»[28]. Советским марксистам удалось перейти от жесткой причинности к вероятностной причинности перед лицом развития физики, вопрос о полном отказе от причинности лежал в иной плоскости и был значительно более принципиальным.
1. Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения. М., 1961. С. 18.
2. Fock V. А. Comments // Slavic Review. 1966. Sept. Р. 412. Вышеизложенная версия замечаний Фока им принята. Изложение ведется в немного неудобном виде, особенно предложение, начинающееся со слов «Даже такие утверждения...».
3. Под термином "пространство Галилея" Фок понимал пространство максимально единообразное. По его словам, в таком пространстве:
«а) все точки и моменты времени равноправны, б) все направления равноправны и в) все инерциальные системы, движущиеся друг относительно друга, прямолинейно и равномерно, равноправны (принцип относительности)».
4. См. обсуждение Фока в кн.: Дышлевый П.С. В.И. Ленин и философские проблемы релятивистской физики. Киев, 1969. С. 148 и далее.
5. Fock V.A. Les principes mecaniques de Galilee et la theorie d'Einstein // Atti del convegno sulla relativita generale: problemi dell'energia e onde gravitazionali. Florence, 1965. P. 12.
6. См.: Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М., 1985. С. 245.
7. Там же. С. 248.
8. Фок В.А. О роли принципов относительности и эквивалентности в теории тяготения Эйнштейна//Вопросы философии. 1961. № 12. С. 51.
9. Фок В.А. Теория пространства, времени и тяготения. М., 1961. С. 11 -12.
10. Там же. С. 13.
11. Фок В.А. Теория пространства, времени и тяготения. С. 474. См. также: Фок В.А. Понятия однородности, ковариантности и относительности в теории пространства и времени//Вопросы философии. 1955. № 4. С. 133.
12. См.: Фок В.А. Понятия однородности... С. 135.
13. Фок В.А. Теория пространства, времени и тяготения. С. 476.
14. Наиболее общим ковариантным уравнением для интервала пространства-времени является ds2=g????????????????dx?????????dx???????. Здесь g??????????????? есть тензор, то есть величина, которая преобразовывается, согласно хорошо определенным правилам, когда происходит переход к новой координатной системе. В галилеевском пространстве-времени коэффициент g μ ν остается неизменным, но в пространстве-времени Римана g?? является функцией координат.
15. Многие физики заметили бы здесь, что одним из принципов ОТО является отказ от введения дополнительных функций.
16. Фок В.А. Теория пространства, времени и тяготения. С. 17.
17. Fock V.A. Les principes… P. 11.
18. Ibid. Р. 9, 11.
19. Дышлевый П.С. В.И. Ленин и философские проблемы релятивистской физики. С. 143.
20. Там же.
21. См. для примера: Bibliographie der sowjetischen Philosophie. Dordrecht, 1959-1964. Vol. 1-5.
22. Широков М.Ф. Философские вопросы теории относительности//Диалектический материализм и современное естествознание. М., 1964. С. 59.
23. Широков М.Ф. О материалистической сущности теории относительности// Философские вопросы современной физики. М., 1959. С. 325 и далее.
24. См.: Широков М.Ф. О преимущественных системах отсчета в иьютоновской механике и теории относительности // Вопросы философии. 1952. № 3. С. 128-139.
25. См. обсуждение в кн.: Дышлевый П.С. В.И. Ленин и философские проблемы релятивистской физики. С. 137-139.
26. Ежегодные издания «Эйнштейновский сборник»; Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и физический релятивизм. К, 1972; Чудинов Э.М. Теория относительности и философия. М., 1974; Готт В.С., Тюхтин В.С., Чудинов Э.М. Философские проблемы современного естествознания. М., 1974; Делокаров К.X. Философские проблемы теории относительности. М., 1973; Эйнштейн и философские проблемы физики XX века. М., 1979.
27. См.: Барашенков В.С. О возможности элементарных процессов со сверхсветовыми скоростями//Вопросы философии. 1976. № 5. С. 90-99; он же. Проблемы субатомного пространства и времени. М., 1978.
28. Ахундов М.Д., Молчанов Ю.Б., Степанов Н.И. Философские вопросы физики//Философия, естествознание, современность. С. 242.
Теории Великого Объединения
Главной темой обсуждения среди физиков всего мира за последние годы стала возможность объединения всех законов физики. Этому древнему стремлению был дан новый сильный импульс в 70-х годах путем объединения двух из четырех фундаментальных сил физики — слабых и электромагнитных Стивеном Вайнбергом из Гарвардского университета и Абдусом Саламом из Международного центра теоретической физики в Триесте. Если две оставшиеся силы — сильная, объединяющая атомные ядра, и гравитационная, управляющая небесными и земными телами,— могли бы быть сведены вместе с двумя другими в новую теорию супергравитации, все силы природы были бы объединены. Естественно, что физики были очень возбуждены этой возможностью; кроме того, главными фигурами в истории физики были ученые, создавшие синтетические математические описания явно различных явлений природы: Ньютон объединил земную и небесную гравитацию; Максвелл объединил электричество и магнетизм; Эйнштейн успешно продемонстрировал отношение между электромагнитным явлением — светом — и гравитацией, а далее безуспешно искал единую теорию поля для гравитации и электромагнетизма. Вайнберг и Салам, объединяя слабые и электромагнитные силы, были современными лидерами этой традиции. Ученый, который доведет это направление до его логического завершения и объединит все силы природы, станет величайшим физиком всех времен.
Такое монументальное научное достижение неизбежно будет иметь огромное философское значение. А.А. Логунов (род. в 1926 г.), директор известной Серпуховской лаборатории и позднее ректор МГУ, и его коллега физик Б.А. Арбузов писали в 1979 г., что квантовая механика и релятивистская физика были «основаниями современного естественнонаучного взгляда на мир» и что построение новой объединяющей все силы природы теории будет иметь еще большее значение, что «знания в области строения элементарных «кирпичиков» материи являются фундаментом для всех естественных наук»[1].
Объединение физических сил очень привлекательно для диалектического материализма. Одной из отличительных черт советского марксизма является его стремление подвести все явления — естественные и социальные — под эгиду одной философской системы. Создание Теории Великого Объединения в физике рассматривалось бы диалектическим материализмом как важный шаг к такому философскому объединению природной и социальной Вселенной. Они, очевидно, надеются, что центральная роль, придаваемая материи в общей теории относительности, должна сохраниться и в любой Великой Теории. Материализм как философская доктрина мог бы тогда получить новые подтверждения. Вместе с тем советские философы неохотно занимаются попытками определить, какой должна быть новая Великая Теория, или выбрать отдельного кандидата на ее место. К 80-м годам большинство физиков и даже многие философы поняли, что огромный вред можно причинить науке попытками поддержки определенной физической теории, утверждая, что она поддерживается марксизмом. Тем не менее, советские обсуждения Теории Великого Объединения (ТВО) должны привлекать внимание западных ученых, интересующихся длительным взаимоотношением между советской физикой и диалектическим материализмом.
Последние обсуждения общей относительности в Советском Союзе во многих отношениях сходны с западными дискуссиями, даже при сохранении терминологических различий. Соответственно пересмотры общей относительности такими западными учеными, как Дж. Уилер, Р. Дикке, Дж. Андерсон и Дж. Синг, привлекли большое внимание в Советском Союзе. Важность дебатов в Советском Союзе, включая философскую важность, дают полное основание для рассмотрения всех таких взглядов. Действительно, в лице таких естествоиспытателей, как Фок, советские исследователи внесли свой собственный вклад в обсуждение широкой значимости теории относительности и явления гравитации.
1. Арбузов Б.А., Логунов А.А. Частицы и силы: поиски единства // Наука и человечество: 1979. М., 1979. С. 153.
Глава XII. Космология и космогония
Различные ответы на основные вопросы, которые космология и космогония задают о происхождении и структуре Вселенной, всегда содержали следствия для философских и религиозных систем. Обычно связи между эмпирическими исследованиями Вселенной с одной стороны, и метафизическими системами — с другой, были значительно менее непосредственными, чем это предполагалось защитниками или оппонентами этих систем, но тем не менее имели место напряженные споры. Довольно трудно представить, например, какое либо научное доказательство, которое могло бы «подтвердить» или «опровергнуть» позицию человека, заявляющего о существовании Бога и имеющего в распоряжении аргументы хотя бы умеренной степени изощренности. Сходно с этим было бы трудно представить подтверждение или опровержение позиции просвещенного материалиста, утверждающего об исключительно естественном происхождении и эволюции космоса. Тем не менее отдельные виды доказательств со временем заметно повлияли на правдоподобность версий этих различающихся аргументов, и они, в свою очередь, развивались, отвечая на брошенные им вызовы. Здесь мне хотелось бы рассмотреть реакцию отдельных советских астрономов и философов — тех, которые активно защищали позиции диалектического материализма,— на астрономические факты последних десятилетий. Эта попытка потребует краткого обзора наиболее важных открытий астрономов, а также нескольких возникших в результате этого гипотез.
Хотя современные космологические теории часто обсуждаются в популярных статьях так как будто существуют только две соперничающие модели — «большой взрыв» и «стационарное состояние»,— в последние 60 лет было предложено гораздо больше моделей, из которых более десятка получили признание среди космологов, достаточное для того, чтобы иметь общепризнанные названия. Авторы всех моделей были вынуждены принять во внимание несколько фундаментальных теоретических построений и астрономических открытий, которые являются совершенно новыми для нашего века. Наиболее важной теоретической новацией была общая теория относительности, выдвинутая Эйнштейном в 1916 г. В противоположность ньютоновской концепции бесконечной Вселенной, локализованной в Евклидовом пространстве, теория Эйнштейна предложила определение метрики пространственно-временного континуума посредством материи, существующей во Вселенной. Однако, вместо того чтобы постулировать уникальное пространство-время, уравнения Эйнштейна скорее открыли дорогу нескольким типам пространств с различными знаками кривизны: положительным (геометрия Римана), нулевым (геометрия Евклида) или отрицательным (геометрия Лобачевского). Выбор среди этих трех типов будет делаться на базе недостаточно определенных характеристик материи во Вселенной, особенно ее средней плотности. Определение средней плотности материи в целой Вселенной было явно невозможным, так как в любой момент времени человек может видеть Вселенную лишь на определенном протяжении. Более того, в этом столетии многие основные измерения, с которыми было связано вычисление плотности, такие, как расстояния до звезд и туманностей, были в высшей степени ненадежными; в нескольких случаях они были в действительности радикально пересмотрены. Таким образом, определение средней плотности материи было слишком трудной задачей.
Наиболее важным астрономическим открытием, волнующим космологию до сих пор в нашем веке, был сдвиг линий спектра внегалактических туманностей в сторону красной части спектра. Это явление было впервые отмечено В. М. Слайфером в 1912 г., но было тщательно исследовано Эдвином Хабблом в 20-х годах. Хаббл и М. Хьюмасон сформулировали в 1928 г. соотношение между красным смещением и расстоянием, что впоследствии было названо законом Хаббла. Это хорошо известное, но иногда неправильно понимаемое соотношение показывает, что красное смещение отдельной туманности прямо пропорционально расстоянию до туманности от наблюдателя. Интерпретированное в свете эффекта Допплера, красное смещение дает большую скорость удаления отдаленной туманности; в некоторых случаях эта скорость составляет достаточную часть скорости света. Хаббл был осторожен в применении интерпретаций, связанных с эффектом Допплера, но если такое применение осуществлено, то закон может пониматься как утверждение: скорость удаления туманности прямо пропорциональна ее расстоянию от нас. Эта интерпретация получила возрастающее признание среди астрономов и космологов во всем мире. Она является основой различных космологических моделей расширяющейся Вселенной. Когда такая модель сопровождается гипотезой об изначальном взрыве, а также о моменте, когда расширение началось, то модель принимает тип «большого взрыва».
Сразу после второй мировой войны была разработана Г. Бонди, Т. Голдом и Ф. Хойлом модель стационарного состояния. Она изначально была создана как попытка преодолеть конфликт между временной шкалой галактики и самой Вселенной, который получался согласно моделям большого взрыва. Однако вскоре теория стационарного состояния приобрела собственное логическое обоснование, которое стало для многих космологов убедительным, когда изначальная напряженность конфликта ослабла. В то время как все релятивистские модели были основаны на космологическом принципе (Вселенная одинакова по всем направлениям), модель стационарного состояния была основана на том, что ее приверженцы называли совершенным космологическим принципом (Вселенная одинакова не только по всем направлениям, но и в любой момент времени). Красное смещение входило в эту модель посредством предположения, что все галактики удаляются друг от друга в соответствии с соотношением Хаббла, но что стационарное состояние распределения материи сохраняется, несмотря на это «разбегание» в результате постоянного творения материи на месте старых галактик, которые это место покинули. Это нарушение закона сохранения материи не было обнаружено учеными, по словам защитников стационарного состояния, так как оно происходило чрезвычайно медленно, за пределами уровня ошибок человеческого эксперимента (как это выразил Бонди, «теория стационарного состояния предсказывает творение в пространстве размером со среднюю гостиную всего лишь одного атома водорода в несколько миллионов лет»[1].
Модель стационарного состояния имеет то преимущество, что она бесконечна во времени; из этой модели следует, что не было «сингулярного состояния», когда вся материя Вселенной была спрессована в одну компактную массу, не было «рождения» Вселенной, как называют этот момент некоторые космологи. У нее есть и серьезный недостаток — нарушение одного из наиболее фундаментальных законов физики: закона сохранения материи и энергии (вследствие гипотезы о творении материи). Поэтому эта модель стала центром заметных споров во всех странах. Тем более, что проверяемость гипотезы благоприятствовала решению этих споров. Ее допущение, что Вселенная была всегда одинаковой во времени, могло быть проверено путем наблюдения очень удаленных галактик, которые «удалены во времени»; ее допущение, что все элементы могут быть синтезированы в настоящее время (тяжелые элементы создали здесь некоторые проблемы), также могло быть подвергнуто исследованию; и ее отрицание изначального взрыва могло быть проверено посредством поиска доказательств этого катаклизма. Эти усилия были предприняты в последние десятилетия; общим результатом их было поражение защитников теории стационарного состояния, которую стало все труднее поддерживать. Версия гипотезы «большого взрыва» сейчас принята подавляющим большинством космологов.
Для того чтобы не тратить больше времени на описание космологических моделей, я приведу схематическое их описание, к которому буду позже обращаться при обсуждении советских воззрений. Так как многие модели имеют общие положения, то довольно трудно было распределить все модели по отдельным категориям, но я попытался это сделать[2]. Можно проследить сложность этой проблемы, заметив, что нижеприведенная упрощенная категоризация включает четыре варианта теории большого взрыва (IIа, IIb, IIc, IIIс) и три варианта теории стационарного состояния (в разделе VI), не говоря уже о других[3].
I. Статическая
а) эйнштейновские уравнения 1915 г.,
b) Эйнштейн (с космологическим членом /?/), 1917 г.
II. Расширяющиеся модели без космологического члена ( λ ) 2 [4]
| a) Эйнштейн де Ситтер, 1932 г. | основаны на работе А.А. Фридмана, 1922 г |
| b) циклоидальная | |
| c) гиперболическая | |
| d) осциллирующая без сингулярного состояния. |
III. Расширяющиеся модели с космологическим членом ( λ )
а) Эйнштейн (как модификация Эддингтона, 1930 г.)
b) де Ситтер, 1917 г.,
с) Эддингтон (основываясь на 1b),
d) Леметр, после 1927 г.,
е) бесконечное сжатие — бесконечное расширение.
IV. Расширяющиеся и вращающиеся
а) О. Гекман и другие, основываясь частично на работе Гёделя, 1949 г.
V. Кинематическая относительность
а) Милн, 1935 г.
VI. Стационарное состояние
а) Бонди — Голд — Хойл, 1948 г. (модификация III b),
b) электрическая Вселенная, Литтлтон-Бонди, 1960 г.,
с) Хойл — Нарликар, 1963 г.
Многие зарубежные обсуждения советской космологии сосредоточивались на наиболее элементарных и догматических источниках. Перед смертью Сталина появилась значительная советская литература с чрезвычайно простой посылкой: любая интерпретация Вселенной, аргументирующая в пользу божественного вмешательства, автоматически непригодна[5]. Эта непригодность обычно утверждалась без какого-либо серьезного рассмотрения научных достоинств данной интерпретации или возможности того, что ее научное ядро может выдвигаться без особых теологических обертонов отдельными европейскими и американскими авторами. В итоге многие известные зарубежные астрономы и физики, такие, как Джеймс Джинс, Артур Эддингтон, Г. Е. Леметр, Ф. Хойл, Г. Бонди, Т. Голд, О. Струве, К. Ф. фон Вайцзеккер и Барт Бок, время от времени обвинялись в «идеализме», «мистицизме» и «поповщине». Легко просто высмеять эти выпады советской пропаганды (а многие из них того заслуживают), но необходимо признать то, что некоторые из упомянутых выше авторов — далеко не все, разумеется, — действительно вносили религиозные элементы в свои астрономические сочинения. Так, Джинс рассуждал о «персте Бога», направившем движение планет по орбитам, и это было чем-то большим, нежели просто ярким образным стилем изложения. В другом случае аббат Леметр часто ссылался на «рождение Вселенной» перед началом ее расширения, и эти его ссылки, вероятно, имеют связь с религиозной верой[6]. В некоторых случаях утверждения были слишком сильными, чтобы их можно было просто отбросить; таким было замечание Э. Т. Уиттекера: «Это проще — постулировать творение ex nihilo, действие Божественной Воли для построения Природы из ничего»[7]. Не только советские идеологи были обеспокоены некоторыми из этих высказываний, как писал британский астроном В. Боннор, «вполне можно понять тот энтузиазм, с которым некоторые теологи восприняли идею о сотворении Вселенной 10000 миллионов лет назад. Здесь было свободное место для Бога, которое они искали. Архиепископ Ушер ошибся на несколько лет при датаровке, но его идея была верной, когда он сказал, что Бог сотворил мир в 4004 г. до н. э.
К несчастью, некоторые космологи были благожелательно настроены к таким установкам. Это кажется мне довольно предосудительным по следующей причине. Это дело науки — предлагать рациональные объяснения событий в реальном мире, и любой ученый, который для объяснения чего-либо прибегает к Богу, не справляется со своей работой. Это также приложимо к началу расширения, как и к любому другому событию. Если объяснение сразу не получается, ученый может отложить вывод; но если он действительно ученый, то он будет всегда утверждать, что в конце концов рациональное объяснение будет найдено...
Со стороны части космологов наблюдалось удивительное нежелание это делать, о чем я уже упоминал, и они предпочитали связывать сингулярность в уравнениях с Богом. Но я утверждаю, что с научной точки зрения это непростительно...»[8].
Если использование религиозных метафор и даже умышленное введение религиозных элементов имело место в работах отдельных западных космологов, то сходный порок искажения аргументов во имя воинствующего атеизма был еще более частым в Советском Союзе до конца 50-х годов. Когда авторами таких статей были идеологи, слабо знающие математику, результаты оказывались ошибочными с точки зрения естествознания. Одним из наиболее частых аргументов было утверждение, что диалектическому материализму соответствует лишь бесконечная Вселенная. С исторической точки зрения связь пространственной бесконечности с современной наукой, конечно, очень тесная; эта ассоциация проявляется например, в самом названии книги выдающегося историка науки Александра Койре «От закрытого мира к бесконечной Вселенной»[9]. Религия была настоящим препятствием в определенные моменты для теории бесконечной Вселенной (хотя нельзя забывать, что для Ньютона в бесконечной Вселенной с абсолютным пространством и временем подразумевалось скорее присутствие Бога, чем его отсутствие)[10]. Из-за этой ассоциации многие оппоненты религии как в Советском Союзе, так и за рубежом находили релятивистские закрытые модели Вселенной неподходящими. Важным отличием, однако, было то, что закрытые космологические модели XX в. были четырехмерными, в то время как конечные модели средневековой схоластической мысли были трехмерными, ограниченными фиксированными звездами («хрустальные сферы» не всегда понимались буквально схоластическими мыслителями, но идея ограниченного пространства существовала). Основой для соединения конечной Вселенной с религией была эта историческая ассоциация — не полностью заслуживающее доверия основание. Напрашивается мысль о том, что диалектические материалисты имели не больше логической необходимости требовать бесконечную Вселенную, чем средневековые теологи для требования конечной (или, по этой же причине, современные зарубежные астрономы для допущения начала во времени). Соответственно советские космологи имели все причины быть осторожными, критикуя конечные модели с позиций, находящихся за пределами науки. В то время как немногие астрономы и математики очень четко представляли себе причины для такой осторожности, общая идеологическая антипатия по отношению к конечным моделям была очень сильной. Уже в 1955 г. один советский автор отмечал в астрономическом журнале:
«Марксистско-ленинская доктрина о бесконечной Вселенной является фундаментальной аксиомой в основании советской космологии... Отрицание или избегание этого тезиса... неизбежно ведет к идеализму и фидеизму, то есть, в конечном итоге, к отрицанию космологии и, таким образом, не имеет ничего общего с наукой»[11].
Вопрос о «рождении» Вселенной более спорен, чем вопрос о ее конфигурации, как это указано выше в замечании Боннора. Также как необходимо соблюдать осторожность при рассмотрении вопросов космологии, существует несколько серьезных причин для непринятия понятия начала всего времени до тех пор, пока нет абсолютной для этого необходимости. Более того, достаточно трудно представить условия, в которых такое понятие будет абсолютно необходимым. Советские критики теорий «большого взрыва» обычно, хотя бы в своих работах, выражали большую осведомленность об этих причинах, чем их зарубежные коллеги; они правильно отмечали, что гипотеза о рождении всей Вселенной (а не просто одной из ее фаз или частей) была связана с религиозными взглядами. Эти советские авторы теряли, однако, свое философское преимущество в этом вопросе, распространяя свои аргументы далеко за пределы, необходимые для предотвращения приверженности понятию абсолютного начала Вселенной[12].
Наиболее интересное исследование некоторых из этих вопросов может быть найдено в работах нескольких признанных советских естествоиспытателей; они будут обсуждаться в следующих разделах.
1. Bondi H. The Steady — State Theory of the Universe//Rival Theories of Cosmology. L., 1960. P. 17—18.
2. Peebles P. I. E. Physical Cosmology. Princeton, 1971; Sciama D.W. Modern Cosmology. Cambridge, 1971; Silk J. The Big Bang: Creation and Evolution of the Universe. San Francisco, 1980; Weinberg S. The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe. N. Y., 1977; Weinberg S. Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity. N. Y., 1972; Bonnor W. The Mystery of the Expanding Universe. N. Y., 1964; Hoyle F. The Nature of the Universe. N. Y., I960; McVitte G. C. Fact and Theory in Cosmology. N. Y., 1961; Gamow G. The Creatior of the Universe. N. Y., 1955; Struve 0. The Universe. Canbrid-ge, 1962; de Vaucouleirs G. Discovery of the Universe. N. Y., 1957; Whitrov G. 7. The Structure and Evilution of the Universe. L., 1959.
3. Категории I—IV являются «релятивистскими» в смысле принятия как специальной, так и общей относительности; в категории V принимается специальная, но отвергается общая относительность; VI категория являлась существенной адаптацией относительности, включавшей отказ от законов сохранения. Модели IIа, IIb; IIс и IIId могут быть названы моделями «большого взрыва», хотя IIв описывается лучше всего как модель «множественного большого взрыва». Модели IIIа, IIIb, IIIс и IIIе не являются моделями большого взрыва; IIIа и IIс начинаются с бесконечным периодом времени в статическом эйнштейновском состоянии; IIе содержит бесконечные фазы расширения и сжатия без сингулярного состояния между ними. IV, в противоположность другим моделям, основан на отрицании космологического принципа.
4. Космологический член ( λ ) был первоначально введен Эйнштейном для обозначения силы отталкивания, препятствующей гравитационному коллапсу в статической модели (Ib). Позже он отказался от этого члена, перейдя к расширяющимся моделям и поняв, в результате работ Фридмана, что расширяющиеся модели могут быть построены без этого члена. Этот космологический член был сохранен другими космологами (III); его действием, проявляющимся лишь на огромных расстояниях, является увеличение скорости расширения.
5. Не следует забывать, что в 20—30-х годах, до того как сталинизм глубоко затронул советскую интеллектуальную жизнь, существовала более сложная и обширная литература по философским аспектам космологии и космогонии. В те годы естествоиспытатели зачастую не обладали глубокими знаниями диалектического материализма, но даже великий А.А. Фридман делал попытки связать свои взгляды на Вселенную с материализмом. См.: Фридман А.А. Мир как пространство и время. М., 1965. С. 32. См.: Герасимович Б.П. Вселенная при свете теорий относительности. Харьков, 1925. Сюда же относится работа М.А. Бронштейна.
6. Советские авторы были, конечно, не единственными критиками поздних работ Дж. Джинса. Американский физик Фримен Дайсон отмечал:
«...он двигался от плохого к худшему, становясь преуспевающим популяризатором и ведущим радиопередач, принимая дворянское звание и разрушая свою профессиональную репутацию обходительными и поверхностными спекуляциями о религии и философии».
Dyson F. Mathematics in the Physical Sciences//Scientific American. 1964, Sept. P. 129.
7. Whlttaker E. T. The Beginning and End of the World. L., 1943. P. 63.
8. Bonnor W. The Mystery oi the Expanding Universe. N. Y., 1964. P. 119.
9. Koyre A. From the Closed World to the Infinity Universe. Baltimore, 1957.
10. Э. Дж. Дийкстерхуз отмечал:
«Сильное воздействие, которое ньютоновские религиозные идеи оказали на его научную мысль, объясняется, помимо прочего, его верой в существование абсолютного пространства и абсолютного времени. Первое символизировало для него вездесущность Бога, а второе — его вечность».
Dijksterhuls E. /. The Mechanization of the World Picture. L., 1961. P. 487. В «Общем поучении» своих «Начал» Ньютон замечал: «Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа». Ньютон И. Математические начала натуральной философии//Крылов А.Н. Собр. трудов. М.; Л., 1936. Т. 7 С. 659.
11. Цит. по кн.: Wetter G. Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union. N. Y., 1958. P. 436.
12. См.: Курсанов Г.А. Диалектический материализм о пространстве и времени// Вопросы философии. 1950. № 3. С. 173—191.
О.Ю. Шмидт
Одним из первых ведущих советских исследователей планетарной космогонии был Отто Юльевич Шмидт (1891—1956). Получив изначально математическое образование, он в конце концов стал руководителем Московской школы алгебраистов, но все же его популярность в СССР объясняется в большей степени его подвигами как исследователя Арктики. Он стал очень знаменитым человеком, героем для целого поколения советских людей. Член Коммунистической партии с 1918 г., Шмидт занимал ряд крупных административных постов, в том числе директора Государственного издательства, редактора Большой Советской Энциклопедии, члена ЦИК СССР. С 1935 г. он академик. Очень разносторонний человек, Шмидт был так же решителен в личных привычках, как и в своих политических взглядах. Без сомнения, наиболее известным его подвигом было плавание на корабле «Челюскин» в 1933 и 1934 гг., в котором он пытался повторить свое сквозное плавание по Северному морскому пути в 1932 г. (первую сквозную навигацию за один сезон). В плавании 1933—1934 гг. Шмидт и его команда были зажаты во льдах Северного океана на месяцы, в конце концов они вынуждены были перейти с корабля на лед за много километров от берега. Последовавшая грандиозная кампания по их спасению сделала Шмидта международным героем[1].
В 20—30-х годах Шмидт читал лекции по истории и философии естествознания, а в своих научных трудах с гордостью рассуждал о значении марксистской философии. Его рукописи, хранящиеся в архиве АН СССР, свидетельствуют, что он очень серьезно изучал работы Ф. Энгельса[2]. Говорят (и если это правда, то нужно воздать ему должное), что во время зимовки во льдах Арктики Шмидт организовывал дискуссии по диалектическому материализму, чтобы помочь зимовщикам отвлечься от их драматического положения[3].
Шмидт наиболее известен космогонистам своей теорией о происхождении Земли и планет, опубликованной в 1949 г. в виде четырех лекций[4]. Так как Шмидт ограничился рассмотрением Солнечной системы, то он не исследовал какие-либо из крупномасштабных проблем теорий Вселенной, такие, как относительность или красное смещение. Но, тем не менее, он рассматривал свою схему в рамках противостояния мировоззрений. В своей первой лекции он писал: «История космогонии становится осмысленной и глубоко поучительной, если рассматривать ее как борьбу материализма с идеализмом, борьбу, которая не прекращается ни на одном этапе»[5]. Как мы объясним позже, Шмидт утверждал, что его теория захвата Солнцем газопылевого облака поддерживалась диалектической концепцией.
Позиция Шмидта в космогонии основывалась на признании значимости небулярных гипотез Канта и Лапласа для современной науки. Согласно этим хорошо известным теориям (которые различались по некоторым аспектам), Солнце и планеты образовались из последовательной конденсации диффузной массы вещества в дискретные тела. Хотя гипотезы Канта и Лапласа завоевали широкую популярность в XIX в., к началу XX в. они испытали серьезные удары вследствие неспособности рассчитать угловой момент. Одной из наиболее странных характеристик Солнечной системы является то, что главные планеты, имеющие менее 1/755 от общей массы системы, тем не менее, обладали 90% ее углового момента. С другой стороны, Солнце, обладающее почти всей массой, имеет всего лишь 2% углового момента. Соответствующая дилемма, астрономов была описана в 1935 г. X. Н. Расселом: «Никто никогда не предлагал пути, в котором почти весь угловой момент переходил бы в такую незначительную часть массы изолированной системы»[6].
После 1900 г. были выдвинуты различные виды «приливных» теорий, чтобы объяснить этот феномен. Сущностью приливных теорий была гипотеза о том, что к Солнцу приближалась какая-то звезда настолько близко (возможно, произошло даже касательное столкновение), что солнечный материал был вытянут в космическое пространство. Из этого вещества позднее сформировались планеты. Согласно версиям Чемберлена и Моултона, выброс материала имел место с противоположных сторон — как Солнца, так и звезды в виде сильнейших приливов; в версиях, выдвинутых Дж. Джинсом и Г. Джеффрисом, сигарообразный поток был растянут между звездой и Солнцем. Сигарообразная форма потока (утолщающаяся в середине) объясняет большие размеры планет Юпитера и Сатурна.
Шмидт полагал, что популярность теории Джинса в планетарной космогонии в 20—30-е годы была связана с социальными факторами. Он отмечал: «Из гипотез XX в. дольше других продержалась гипотеза Джинса. Причина ее популярности лежала не в ее научных достоинствах (их нет) и не в несомненной личной талантливости автора, а в том, что она оказалась наиболее приемлемой для господствующего в буржуазном обществе религиозно-идеалистического мировоззрения»[7]. Связью между объяснением Джинса создания планет и буржуазными ценностями, по мнению Шмидта, был упор на редкий характер участвующих в этом событий и связанную с этим сверхъестественную ауру Вселенной, которую использовал Джинс. Сближение Солнца и звезды, достаточно близкое для описываемых Джинсом и другими сторонниками приливных теорий, должно быть исключительно редким событием. Ясно, что ученые предпочли бы не основываться на исключительно редких явлениях для объяснения природы; если же редкость явления приближается к уникальности, то явление проявляет тенденцию к выходу за пределы области событий, объясняемых научными законами, которые зависят от повторяемости. Естественно, касание двух звезд не было бы уникальным при условии достаточного времени, но уже одно высказывание о том, что образование Земли есть очень редкое, а не уникальное явление, вызвало бы некоторый дискомфорт у астрономов[8]. Это были годы, когда «возраст» Вселенной многими астрономами оценивался лишь в несколько миллиардов лет; таким образом, планетарные системы были бы действительно очень редкими. Проблема здесь в том, что астрономы называют «затруднением привилегии». Если планетарная система очень особенная, то особенными будут и населяющие ее люди. Постоянно, начиная со времени дискредитации системы Птолемея, любой вид антропоцентризма рассматривался большинством ученых как подозрительный. Шмидт рассматривал теорию Джинса как легкомысленное, возможно даже преднамеренное, возвращение к этой традиции.
Шмидт полагал, что для объяснения происхождения планетарной системы необходимо отбросить приливные теории и разрабатывать неадекватные, но тем не менее многообещающие гипотезы Канта и Лапласа. Основная идея этих систем — образование планет из диффузной материи — казалась ему более заслуживающей доверия, чем сближение и столкновение звезд[9]. Он постулировал, что Солнце в своем вращении прошло через облако пыли, газа и другой материи. Это облако имело собственный момент количества движения. В результате взаимодействия различных моментов, по мнению Шмидта, могло возникнуть имеющее место в Солнечной системе особенное распределение материи. Он писал: «если бы Солнце, пройдя сквозь облако или вблизи него, могло «захватить» с собою часть вещества, увлекая его за собою, то Солнце оказалось бы окруженным таким облаком, из которого в дальнейшем образовались планеты. При таком происхождении облака отпадает трудность с распределением момента количества движения. Этот момент явился бы результатом перераспределения момента количества движения Галактики. А именно: тот момент, которым встречное облако обладало по отношению к проходящему Солнцу, сохранился бы в соответствующей доле в захваченной части облака»[10].
Что касается философских соображений, преимущество, которое Шмидт приписывал своей теории, по крайней мере, изначально, состояло в большей достоверности заключенных в ней событий, как результате их большей вероятности. Достаточно интересно то, что в дальнейшем изложении Шмидт защищает свою теорию с философских позиций, а не с точки зрения частоты событий. Возможно, он признавал, что описываемые им события могут также показаться чрезвычайно редкими многим астрономам. Выбранные им специфические философские позиции были связаны с диалектической концепцией взаимосвязи всех явлений, что уже упоминалось в обсуждении квантовой механики (см. с. 327). Шмидт продолжал: «Мы привлекаем к объяснению происхождения Солнечной системы материю и силы Галактики. Правильно ли это? Не следует ли образование Солнечной системы объяснить развитием только внутренних сил самой системы?
Учение о всеобщей связи явлений — одно из основных в диалектике и всем нам хорошо известно. Проблема взаимоотношений внутреннего и внешнего решается материалистической диалектикой конкретно, с учетом всех связей, которыми обладает данное явление... Это-то обстоятельство и делает гипотезу захвата заманчивой, несмотря на то, что с нею связаны свои затруднения, о которых мы скажем дальше»[11].
Эта апелляция к взаимосвязи явлений для поддержки отдельного тезиса планетарной космогонии была намного более слабым аргументом, чем изначальная критика Шмидтом теории Джинса на основе ее невероятности. Должен ли естествоиспытатель изучать отдельную сферу активности в изоляции, есть обычно результат рассмотрения влияния большей внешней области, а не простое заявление, что это должно или не должно приниматься во внимание. Хорошо известно, например, то, что всякая проблема влияния гравитации на любое отдельное тело во Вселенной является в действительности проблемой «n тел» и изначально не имеет решения. Однако естествоиспытатель решает, до какой степени он может не принимать другие тела во внимание. Соответственно, поддержка вышеизложенных аргументов Шмидта, которую большинство ученых могло бы учесть, заключается не в том, что он имел желание рассматривать большую область, а в том, что такое рассмотрение в данном отдельном случае выливается в более правдоподобные объяснения планетарной системы. Достоверность второй половины предыдущего предложения не нуждается в детальном обсуждении.
До того как вернуться к важной проблеме вероятности событий, необходимо отметить, что система Шмидта в описанном виде все еще не является полной. Будучи математиком, он ясно понимал, что Солнце не могло захватить газопылевое облако в описанном виде. Для происхождения захвата результирующее движение должно было бы быть эллиптическим, то есть орбиты должны были образоваться вокруг Солнца. Однако в случае с двумя изолированными телами результирующее движение было бы гиперболическим, и захвата бы не произошло. Для достижения необходимого захвата Шмидт ввел гипотезу о взаимодействии трех тел; другими словами, можно представить сценарий, по которому Солнце входит в газопылевое облако одновременно с другой звездой. Даже в этом случае возможность захвата оставалась проблематичной, это было важной чертой известной «проблемы трех тел», занимавшей математиков на протяжении нескольких веков. Было доказано, что невозможно общее алгебраическое решение этой проблемы, но в отдельных случаях, когда известны начальные условия, численные решения возможны, хотя они были чрезвычайно трудоемкими до широкого применения компьютеров. В 1947 г. Шмидт получил такое численное решение, которое убедило его в возможности захвата в ситуации с тремя телами[12]. Это заключение было поддержано Г. Ф. Хильми[13].
Оставалась проблема вероятности событий, возможно, одного из главных преимуществ системы Шмидта над системой Джинса с философской точки зрения. Однако большинство исследователей отметит, что схема Шмидта также требовала чрезвычайно маловероятных происшествий. Однако Шмидт указывал, что, если захват возможен в ситуации с тремя телами, он также возможен и в приближенной схеме с любым их количеством больше двух, при условии определенных расстояний и скоростей. Более того, его сторонники выдвинули другие варианты захвата, включая воздействие столкновений и давления света[14]. Тем не менее основной вопрос об исключительности стадии рождения планетарных систем остался для Шмидта главной проблемой. Согласно его собственным философским убеждениям, возведенная им конструкция была довольно неуклюжей, хотя и превосходящей альтернативные.
Последняя часть жизни Шмидта была нескончаемой болезнью; прикованный туберкулезом к постели, он старался улучшить свою систему. В последние годы он обратился к механизму захвата на основе неупругих столкновений частиц как наиболее многообещающему направлению, но основные черты его системы остались неизменными.
1. После спасения из ледового плена он возвращался через Аляску и Соединенные Штаты, где стал членом Ныо-Йоркского клуба путешественников.
2. Шмидт О.Ю. Диалектика и естествознание: примеры перехода количества в качество (на русском языке). Эти заметки написаны в сентябре 1926 г. Архив АН СССР, фонд 496, оп. 1, ед. 212.
3. См.: Отто Юльевич Шмидт (1891 — 1956) // Кузнецов И.В. Люди русской науки: очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники, математики, механики, астрономии, физики, химии. М., 1961. С. 404.
4. См.: Шмидт О.Ю. Происхождение Земли и планет. М., 1949, 1957, 1962. Также имеется на английском языке: Schmidt O.Ju. A Theory of Earth’s Origin. Moscow. 1958.
5. Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли. М., 1957. С. 9.
6. Russel H.N. The Solar System and Its Origin. N. Y. 1935. Р. 95—96.
7. Шмидт О. Ю. Цит. произв. С. 14.
8. Солнце расположено более чем в четырех световых годах от ближайшей звезды; даже двигаясь с приблизительно равной 20 км/с скоростью, чтобы пройти это расстояние, потребовалось бы около 105 лет. Struve O., Zebergs V. Astronomy of the 20th Centure. N. Y. 1962. P. 173.
9. Другой чертой системы Шмидта было положение о том, что Земля изначаль но была холодной и нагрелась позже из-за распада радиоактивных элементов.
10. Шмидт О.Ю. Цит. произв. С. 83.
11. Шмидт О.Ю. Цит. произв. С. 83—84.
12. См.: Шмидт О.Ю. О возможности захвата в небесной механике//Доклады АН СССР. 1947. Т. 57. С. 213—216; Шмидт О.Ю., Хильми Г.Ф. Проблема захвата в задаче о трех телах//Успехи математических наук. 1948. № 26. С. 157—159.
13. Хильми Г.Ф. О возможности захвата в проблеме трех тел//Доклады. АН СССР. 1948. Т. 62. С. 39—42; см. также библиографию, данную в: Шмидт О.Ю. Происхождение Земли и планет. М., 1962. С. 93.
14. См. работы В.В. Радзиевского и Т.А. Агекяна, которые используются в книге О. Ю. Шмидта. Четыре лекции о теории происхождения Земли. М., 1957
В.А. Амбарцумян
Возможно, никто из ведущих советских естествоиспытателей не высказывался откровеннее в пользу диалектического материализма, чем астрофизик Виктор Амазаспович Амбарцумян (1908 г. рож.). Амбарцумян учился в Пулковской обсерватории у русского астронома А.А. Белопольского, после чего занимал значительные посты в Ленинградском университете, Академии наук Армянской ССР и АН СССР. Он руководил строительством известной Бюраканской астрофизической обсерватории недалеко от Еревана. За работы о фундаментальном значении звездной астрономии и космогонии Амбарцумян несколько раз награждался государственными премиями[1]. Он стал одним из наиболее известных за рубежом советских ученых. Его хвала диалектическому материализму выражалась им снова и снова в течение многих лет; он выражал ее и когда политический контроль был относительно слабым, и когда он был усилен. У нас есть все основания верить, что это действительно отражало собственный подход Амбарцумяна к природе. Например, в 1959 г. Амбарцумян заявил: «История развития человеческих знаний, каждый шаг вперед в науке и технике, каждое новое научное открытие неопровержимо свидетельствуют об истинности и плодотворности диалектического материализма, подтверждают правоту марксистско-ленинского учения о познаваемости мира, о величии и преобразующей силе человеческого разума, все глубже проникающего в тайны природы. В то же время достижения науки убедительно показывают полную несостоятельность идеализма и агностицизма, реакционность религиозного мировоззрения»[2].
Через два года после публикации статьи, в которой появилось это заявление, Амбарцумян был избран президентом Международного астрономического союза на съезде, состоявшемся в Беркли, Калифорния. Он выступал как ученый международного значения, почетный член или член-корреспондент научных обществ большинства ведущих в науке государств, авторитет в области звездной физики, утверждавший, что диалектический материализм помогал ему в работе. Зарубежные обозреватели обычно отбрасывали эти замечания, ибо рассматривали их как ширму или результат партийного давления.
В то же время Амбарцумян не боялся возражать идеологам КПСС, когда они мешали его исследованиям. Он отмечал: «Когда мы смело ставили какие-либо вопросы и когда наука подходила к чему-то еще не разгаданному... то нас старались некоторые философы сдерживать,— как бы наши ученые не впали в идеализм!»[3]
В своей наиболее важной работе Амбарцумян ограничивался скорее проблемами звездной космогонии, чем космогонией планет, галактик или Вселенной. Каждая из этих проблем — описание образования звезд, планет, галактик или Вселенной — представляла свои собственные отдельные проблемы. Амбарцумян верил, что звездная космогония предоставит важные ключи к другим областям и что в отсутствие достоверной теории звездной космогонии работа в других областях будет основываться, по словам Амбарцумяна, на чрезмерной степени абстрактного теоретизирования. Предпочтение, отдаваемое Амбарцумяном крупномасштабной космогонии и космологии, может довольно легко быть различимо при чтении его частой критики (особенно до 60-х годов) европейских и американских астрономов. Его работа по звездной космогонии также содержала философские элементы общего значения, более того, несмотря на свою осторожность, Амбарцумян признавал, что более широкие космологические проблемы были решающими и наиважнейшими проблемами астрономии. Из этих работ мы можем увидеть, что, хотя Амбарцумян считал создание системы мира преждевременным, он, в общем, отдавал предпочтение, как и многие советские астрономы, релятивистской, неоднородной, расширяющейся и бесконечной во времени космологической модели. Эти предпочтения будут полнее рассматриваться в следующем разделе. Они включали отказ от моделей стационарного состояния и либо отказ, либо серьезную модификацию моделей большого взрыва.
В области звездной космогонии Амбарцумян в своих ранних работах часто выступал как критик Дж. Джинса и Артура Эддингтона, этих «рьяных адвокатов идеализма 20-х годов». Эта критика выдвигалась по разным направлениям, но одним из них была область, касающаяся аргумента о темпе изменения в эволюции звезд. Как диалектический материалист, Амбарцумян верил, что вся природа постоянно эволюционирует; он с подозрением относился к попыткам даже косвенного утверждения о существовании в природе неизменяемых образований. Джинс и Эддингтон полагали, что большинство звезд уменьшались со временем в результате электромагнитного излучения. Согласно их вычислениям, много сотен, возможно, и тысяч миллиардов лет требовалось для заметного изменения массы средней звезды в результате этого процесса. Но, согласно той теории Вселенной, которую Джинс и Эддингтон поддерживали и которая была одной из форм теории большого взрыва, возраст Вселенной составлял всего несколько миллиардов лет. Таким образом, согласно Джинсу и Эддингтону, большинство звезд со времени образования Вселенной, изменилось незначительно и человек видит их почти такими же, как они были в начале времени.
Церковь в средние века, естественно, отдавала предпочтение тому взгляду на Вселенную, который выходил за пределы таких относителыю статических небесных тел в абсолютно не меняющейся райской сфере. Одним из наиболее ярких достижений Галилея было доказательство изменений и нерегулярностей в небесных телах. Амбарцумян считал, что он продолжает эту традицию, утверждая, что звезды меняются намного быстрее, чем это следовало из представлений Джинса и Эддингтона, и на основе неизвестного им механизма. Говоря о теориях этих двух английских астрономов, Амбарцумян отмечал: «Этим идеалистическим взглядам, полным внутренних противоречий и расходящимся с данными наблюдений, советская астрофизика уже давно противопоставила свою материалистическую точку зрения, основанную на фактах. Во Вселенной, которая существовала и будет существовать бёсконечно долго, изменение массы звезд обусловлено главным образом непосредственным выбрасыванием вещества»[4].
Амбарцумян утверждал, что такое явление выбрасывания массы вещества звездами достаточно быстро приводит к значительным изменениям в их физическом состоянии[5]. Его коллеги Д. Я. Мартынов, В. А. Крат и В. Г. Фесенков проводили работу по изучению результатов этого явления; Фесенков пытался проследить изменения в скорости вращения Солнца на этой основе. Таким образом, по словам Амбарцумяна, «одним из важнейших результатов работ советских астрономов является вывод о том, что звезды изменяются сами и изменяют окружающую их межзвездную среду»[6].
Амбарцумян верил, в противоположность нескольким ранним астрономическим воззрениям, что звезды заметно изменяются в массе и что они постоянно рождаются. Его теория постоянного формирования звезд на современном этапе развития галактики сейчас уже широко известна и обычно рассматривается как опровержение положения об одновременном образовании всех звезд галактики[7]. Эта работа, по мнению Амбарцумяна, была также подтверждением диалектического материализма. Как мы позже увидим, этот вопрос эволюции звезд имеет определенное сходство с обсуждениями в начале XIX в. в геологии: подобно Лайелю, Амбарцумян полагал, что те черты, которые демонстрируются природой, должно — если возможно — объяснять на основе прослеживаемых сейчас в природе процессов[8].
Точные детали раннего этапа жизни звезд, согласно схеме Амбарцумяна, неизбежно неточны, как и большинство таких описаний. Однако главные положения могут быть названы. Исходя из того, что его описание основано на диаграмме Херцшпрунга—Рассела об отношении между спектральным типом звезд и их яркоетями, необходимо кратко рассмотреть такую диаграмму.
Все звезды имеют темные линии спектра, так же как и Солнце. Полосы поглощения в этих спектрах не только показывают состав звезд, но также позволяют классифицировать их по различным группам, с последовательной градацией между разными типами. Стандартными типами являются: О, В, А, F, G, М, К, R, N и S[9]. Из-за относительной редкости типов О, R, N и S мы можем ограничиться рассмотрением остальных шести. Звезды также могли быть классифицированы по их абсолютным яркостям, где единицей яркости была яркость Солнца.
Если эти звезды расположить на графике, где абсциссе будет соответствовать спектральный тип, а ординате — яркость, окажется, что они укладываются на диаграмме не случайно, а формируют группы, включая диагонально расположенный пояс, известный как главный ряд, который включает подавляющее большинство всех звезд. В итоге диаграмма Херцшпрунга—Рассела (Х—Р) имеет следующий вид:

Описание Амбарцумяном жизненного цикла звезд следовало их расположению на X—Р диаграмме, и он обращался лишь к звездам главного ряда. Они формируются, по его словам, группами от нескольких десятков до даже тысяч членов, эти нежесткие связки молодых звезд известны астрономам как «ассоциации». Он полагал, что такие ассоциации формируются из материи в дозвездном состоянии в нашей собственной галактике в настоящее время; другими словами, описываемый процесс имел значение как в историческом плане, так и на современном этапе. Изначально эти новые звезды появлялись на X—Р диаграмме на позициях, которые обычно располагались выше срединной линии главного ряда; позже они сдвигались к центру этой линии в результате изменения своего состояния. Причиной этих изменений, по Амбарцумяну, было «мощное истечение» вещества изнутри звезды в окружающее пространство[10]. Так, молодые звезды теряют массу, немного снижают яркость и входят в главный ряд по всему его фронту. Со входом в главный ряд состояние звезды начинает стабилизироваться; истечение вещества продолжается, но оно уже намного более слабое, а те звезды, которые имели значительный момент вращения, почти полностью его теряют. Амбарцумян полагал, что средней звезде для передвижения в главный ряд требуется около нескольких десятков миллионов лет. С точки зрения многих (сейчас часто говорят о 15) миллиардов лет «возраста» нашей галактики такой подход демонстрирует ощутимую скорость.
Согласно этой схеме, звезды постоянно рождаются, но не из «ничего», как, по словам Амбарцумяна, это излагалось некоторыми зарубежными астрономами. Точные детали рождения звезд были одной из самых трудных проблем. Взгляды Амбарцумяна по этому вопросу хотя со временем претерпели некоторые изменения, отличались от мнения других советских астрономов. Из его уже изложенного положения о том, что звезды выбрасывают большое количество вещества за время своего жизненного цикла, вытекало наличие определенного количества вещества для дополнительного образования звезд. Но Амбарцумян признавал, что специфический характер протозвезд был слабым местом его теории. Многие советские астрономы, включая Фесенкова, полагали, что звезды были сформированы из диффузной материи. Амбарцумян, однако, был уверен, что протозвезды, возможно, являлись «глобулами» или плотными темными облаками сферической формы с диаметром в несколько световых месяцев[11]. При этом он признавал, что работа Фесенкова по звездным цепям поддерживала положение о формировании звезд из диффузной материи.
Описывая теорию физика из ФРГ П. Иордана, Амбарцумян как на главный пункт указывал на то, что звезды не возникали «из ничего»[12]. Амбарцумян писал, что Иордан не только не утверждал о спонтанном и беспричинном появлении звезд, но и что этот взгляд был включен в описание Леметром рождения Вселенной. Амбарцумян рассматривал употребленные Иорданом термины «рождение» и «возраст» Вселенной как неточные. Тем не менее он отдавал должное большей части работы Иордана.
Теория Амбарцумяна скорее описывала жизненные процессы звезд непосредственно после их рождения, чем само рождение. И даже в этих рамках она описывала лишь звезды главного ряда, а такие типы звезд, как белые карлики или холодные гиганты в ней, либо описывались неясно, либо просто опускались. Более того, в этой теории не описывались и конечные фазы звезд главного ряда. Однако в области космогонии ни один теоретик не может претендовать на законченность своих взглядов. Теория Амбарцумяна о возникновении звезд вполне обоснованно принесла ему репутацию одного из ведущих исследователей в этой области[13].
Позиция, занятая Амбарцумяном по вопросу о красном смещении, представляет ключ к пониманию большей части его представлений по космологии и космогонии. Советские ученые, которые в то время интерпретировали Вселенную с позиций диалектического материализма, не обязательно ставили под сомнение идею расширения. Они часто принимали интерпретацию красного смещения с точки зрения допплеровского эффекта, так же как и заключение о расширении обозримой Вселенной, но они обычно выдвигали сильные оговорки таким понятиям, как «творение» или «возраст» Вселенной как целого. Существует явная связь между вопросами «расширения» и «возраста». Если бы астрономы могли прийти к постоянной скорости расширения или изменяющейся скорости расширения, которая могла бы описываться математически, то они могли бы экстраполировать назад ко времени, когда Вселенная была сжата в одну бесконечно малую материальную точку: этот момент и стал бы «рождением» Вселенной, а время от этого момента до настоящего времени и было бы ее «возрастом». Это и есть экстраполяция, против которой предостерегали такие советские астрономы, как Амбарцумян[14]. Существовало несколько логически обоснованных альтернатив «теориям творения». Можно утверждать, что не существует строгого доказательства рассчитываемой на долгий период скорости расширения. Можно также утверждать, что расширение есть лишь одна фаза в истории Вселенной, которая поочередно то расширяется, то сжимается. Или можно утверждать, что расчет момента, с которого существующая Вселенная начала расширение, несомненно, может иметь важное значение, не сопровождаемое заключением о том, что этот же момент был началом всего времени и всех Вселенных.
Амбарцумян постарался занять срединное положение между теми, кто, с одной стороны, отвергал интерпретацию, в которой красное смещение объяснялось расширением Вселенной, и теми, кто, с другой стороны, утверждали о возможности экстраполяции назад ко времени рождения всей Вселенной, на основе этого расширения. Когда в 1958 г. его спросили о возможности существования другого объяснения красного смещения, основанного не на допплеровском эффекте, то Амбарцумян ответил: «Нет, невозможно. Во всяком случае, пока не было предложено никакого другого правдоподобного истолкования. Поэтому приходится считать, что система окружающих нас галактик и скоплений галактик расширяется. Это является одним из самых фундаментальных фактов современной науки». Амбарцумяна спросили также относительно его отношения к «релятивистской космологии», на что он ответил: «Космология может быть только релятивисткой»[15]. Соответственно упрощенные обсуждения советских взглядов на космологию, утверждающие или подразумевающие отбрасывание советскими космологами как эйнштейновской относительности, так и концепции расширяющейся Вселенной, были огромным сужением значительно более широкого обсуждения.
Амбарцумян критиковал как идеалистические, так и механистические космологические школы. Идеалисты, по его словам, играли на отсутствии знания и затруднениях, возникавших при попытках ответить на необычайно сложные вопросы, обращаясь либо к эпистемологическому идеализму, либо к религии. Механисты, напротив, упрощали природу, пытаясь объяснить все на основе уже известных принципов и не будучи в силах понять необходимость новых концептуализаций, Амбарцумян применил эту модель двух ошибочных космологических школ к проблеме явления красного смещения и его применения к структуре Вселенной. Он отмечал, что некоторые физики и астрономы допускали, что метагалактика идеально однородна, и далее выдвигали мысль о том, что этот тип системы заполняет всю Вселенную[16]. Принимая во внимание красное смещение, они применяли эйнштейновскую интерпретацию гравитации к гипотезе однородной Вселенной и далее делали заключение о том, что Вселенная конечна и расширяется (такая модель выше указывалась как модель Эйнштейна—де Ситтера, IIa). По словам Амбарцумяна, в этот момент вмешались философы-идеалисты и соответственно настроенные физики, они выдвигали эффектные заключения о творении мира и таинственной силе, ответственной за его создание. Согласно Амбарцумяну, этот последний шаг был полностью необоснованным. Он имел место, по его словам, лишь благодаря неадекватности знания о структуре метагалактики, оставлявшей место для «необузданных экстраполяций, которые увели эти гипотезы довольно далеко от настоящей науки...»[17].
Но позиции противоположного лагеря, представленного механистами, были не более обоснованны. «Без какого-либо экспериментального основания пытались утверждать, что красное смещение не связано с эффектом Допплера, а имеет какую-то другую причину». Такой попыткой была гипотеза о том, что фотоны «стареют» за долгие промежутки времени; согласно этой интерпретации, смещение в сторону красного конца спектра будет результатом не скорости удаления, а изменения природы самого света. Причина того, что эти изменения не были до сих пор отмечены, по словам сторонников теории старения, заключалась в недостатке времени при лабораторных исследованиях. Амбарцумян, как и большинство других астрономов, полагал, что эта гипотеза старения была очень произвольной, она была объяснением, разработанным специально для того, чтобы избежать гипотезы расширения. Не существует других подтверждений старения фотонов, кроме астрономического красного смещения. Ученые не прибегают к объяснениям, зависящим от неизвестных и неподтверждаемых явлений, в случае, когда существует другое, хотя бы частично проверенное, объяснение, которое так же хорошо объясняет имеющиеся данные. Таким существующим объяснением являлся эффект Допплера. Амбарцумян писал об усилиях механистов и консерваторов, отрицавших интерпретацию Допплера, что они «потерпели полнейший крах»[18].
Но если взгляды самого Амбарцумяна на интерпретацию Допплера были сходными со взглядами большинства астрономов всего мира, то на каком же основании он критиковал этих астрономов? Вопросом, на котором сосредоточился Амбарцумян в процессе выработки своей собственной интерпретации, по крайней мере до конца 50-х годов, был вопрос об однородности Вселенной. Ко времени формулировки Хабблом отношения красного смещения Амбарцумян предположил, что внегалактическая туманность заполняет пространство с приблизительно постоянной плотностью. Из такого предположения следовало, что соотношение скорость — расстояние было линейным до расстояния 250 миллионов световых лет. С накоплением более полных и точных данных вопрос о линейности или нелинейности соотношения скорость — расстояние становится насущным. Это заключение имело для космологии важное значение: нелинейное отношение могло обозначать, что расширение нашей части Вселенной замедляется или ускоряется, что сделало бы затруднительными исследования и поставило бы под вопрос «возраст» Вселенной. Как отмечал Амбарцумян в 1959 г., «если двадцать лет тому назад можно было пытаться оправдать гипотезу об однородной плотности Вселенной тем, что, при отсутствии достаточных данных о распределении удаленных галактик, предположение об однородности Метагалактики является естественным, хотя, может быть, и очень грубым приближением, и если в то время такой взгляд находил некоторую опору в подсчетах Хаббла, то теперь положение коренным образом изменилось. Новые данные, касающиеся видимого и пространственного распределения галактик, оказались в полнейшем противоречии с предположением об однородности, хотя бы весьма грубо приближенной. Мне кажется, что если попытаться двумя словами охарактеризовать то представление о распределении галактик, которое начинает складываться за последние годы на основе новейших данных, то наиболее удачным выражением будет «крайняя неоднородность»[19].
Разрабатывая собственные представления о неоднородной Вселенной, Амбарцумян заявлял о том, что сам по себе факт существования скоплений и групп галактик не обязательно является доказательством того, что они заполняют пространство с приблизительно одинаковой плотностью. Можно утверждать, что скопления и группы являлись лишь малыми островками, в обширном общем метагалактическом поле. Это общее поле может быть однородным или может изменяться в соответствии с непрерывным градиентом. Амбарцумян, однако, чувствовал, что астрономические исследования начала 50-х годов вели к заключению о тенденции к формированию групп и скоплений скорее как основной характеристике Метагалактики, чем как исключительной ситуации. Такое доказательство неоднородности вызвало кризис, так как под удар были поставлены основные космологические модели,— эту перспективу Амбарцумян не находил неприятной с философской точки зрения.
Вопрос однородности или неоднородности Вселенной и впоследствии остался трудным для Амбарцумяна. В конце 50-х годов новые данные привели Амбарцумяна к убеждению, что его теория неоднородной Вселенной все более оказывается под вопросом. До 1957 г. Амбарцумян основывал свои заключения на исследованиях, показывающих неоднородность Вселенной на протяжении до 20 миллионов парсеков[20]. Таким образом, на расстоянии 90 миллионов парсеков от Земли в созвездии Волосы Вероники астрономы могут наблюдать скопление галактик большее, чем все остальные близкие галактики. Если смотреть в других направлениях, то на расстоянии 90 миллионов парсеков нельзя обнаружить ни одной другой галактики таких же размеров. Таким образом, Амбарцумян чувствовал себя уверенным, делая вывод, что для утверждения однородности необходимо говорить об объемах с диаметром более 200 миллионов парсеков. Однако в 1957—1958 гг. Амбарцумян получил отчеты исследований Цвикки на Паломаре о том, что в объемах с диаметрами около миллиарда парсеков можно проследить распределение, приближающееся к однородному. Таким образом, в противоположность ранним взглядам Амбарцумяна, астрономы могли говорить о средней плотности материи на расстоянии миллиарда парсеков, которая была примерно равной плотности в области нашей галактики. Так что довод в пользу существующих космологических моделей вновь набрал силу. (В конце 70-х годов подтверждение однородности, разработанное Г. Рейни и другими астрономами, стало еще более сильным.)
Тем не менее Амбарцумян все еще горел желанием защищать свою характеристику Вселенной как «крайне неоднородной». Вселенная неоднородна в гораздо более широком смысле, чем распределение в ней материи, говорил он, например, она неоднородна в цвете галактик, электромагнитном излучении и т. д. Он назвал последнее «качественной неоднородностью»[21]. По его мнению, этот отдельный вид неоднородности становился все более явным. Так, он заключал: «Поэтому я позволю себе прибавить к констатируемой большой неоднородности в плотности и распределении числа галактик этот факт большого качественного разнообразия их населения. Это разнообразие все больше раскрывается по мере удаления на все большие и большие расстояния...
Таким образом, одна из основ современных упрощенных моделей Вселенной подрывается. Нет такой однородной Вселенной, о которой говорится в этих моделях. Но есть и второе обстоятельство: все эти модели принимают как основной постулат линейную зависимость скорости удаления от расстояния. К сожалению, для проверки этого допущения у нас не хватает точного знания расстояний галактик»[22].
Амбарцумян указывал, что астрономы часто радикально пересматривали шкалу расстояний, с которыми они работали; в 1952 г. В. Бааде, коллега Хаббла, сделал в Риме сообщение Международному астрономическому союзу, что известное до тех пор расстояние до туманности Андромеды, возможно, было в 2 раза меньше реального; в 1958 г. в Брюсселе несколько астрономов предложили увеличить шкалу расстояний до более удаленных галактик в 5—6 раз по сравнению с принятой до 1952 г. Каждое из этих изменений явно воздействовало на отношение расстояние—скорость. Соответственно, Амбарцумян сделал вывод, что Вселенная действительно расширяется, что подтверждается красным смещением, но что имеющиеся данные настолько неточны, что мы не можем делать выводы на их основе. Естественно, еще не установлено линейное соотношение между расстоянием и скоростью. По его мнению, обсуждения возраста Вселенной были не только философски необоснованными, но и научно преждевременными.
В 60—70-х годах Амбарцумян снова и снова обращался в своих работах к теме философских вопросов астрономии. Хотя его более поздние взгляды были логическим продолжением предыдущих, акценты в них в каком-то смысле были изменены. После 1960 г., например, он редко критиковал зарубежных астрономов и философов за их идеалистические позиции. Достаточно очевидно то, что он высоко оценивал работы таких ученых, как Джинс, Эддингтон, Иордан и фон Вайцзеккер, сохраняя, однако, свою прежнюю критику и соответствующие оговорки. В конце 60-х годов он реже обращался к проблеме однородности и неоднородности Вселенной, признавая, что его позиция здесь стала слабой. Вместо этого он сконцентрировался на проблеме возможности формирования единой естественнонаучной картины мира и проблеме астрономической эволюции. В своем докладе на XIV Международном философском конгрессе в Вене в 1968 г. Амбарцумян уточнил и развил свои взгляды по этим вопросам[23].
Амбарцумян всегда противостоял построению моделей всей Вселенной, исходя из того, что такие попытки преждевременны. Читая лекцию в Канберре, он отмечал: «Характер этих моделей настолько зависит от сделанных упрощающих предположений, что эти модели следует считать очень далекими от реальности. Что касается меня лично, то я думаю, что на современном этапе этих теоретических работ даже не имеет смысла подробно сравнивать эти модели с наблюдениями»[24]. Он продолжал отстаивать свою позицию, используя философские аргументы. Философским принципом, лежащим в основе его интерпретации, был антиредукционистский принцип перехода количества в качество. Он был уверен, что современная физическая теория основывается на такой ограниченной области наблюдения, что количественный переход к действительно космическим масштабам выявит качественно новые физические регулярности и законы, которые еще неизвестны. Подобно биологу Опарину и многим другим марксистским ученым, Амбарцумян верил, что объективная реальность состоит из различных по масштабу уровней, где каждый уровень обладает своими собственными физическими принципами. Когда астрономы строили модели Вселенной, основанные на современной физической теории, они следовали от меньшего масштаба к большему и их модели, таким образом, не могли адекватно описывать физическую реальность[25].
Амбарцумян полагал, что как живые организмы не могут быть сведены к известным принципам физики и химии, так же это справедливо и для Вселенной. Он утверждал, что свидетельством неадекватности объяснения современной физикой крупномасштабных явлений Вселенной выступает нахождение «сверхновой»: сейчас существуют причины полагать, что вызывающие эти взрывы процессы не могут быть объяснены в рамках существующих физических законов, хотя среди астрономов нет согласия по этому вопросу. Это же справедливо для источников энергии в квазарах, открытых в 1963 г.[26]. Амбарцумян полагал, что особенности природы, представленные в сверхновых, квазарах и пульсарах, ведут к революции в физике и что впервые со времен Коперника, Браге и Кеплера физика будет опровергнута данными астрономии. Но даже после того как революция произошла, Амбарцумян косвенно выразил свое остающееся скептическое отношение к тем, кто строил модели вселенной, так как, по его мнению, Вселенная была бесконечна в уровнях своих законов. Природа обладала бесконечностью в двух направлениях: на микроскопическом уровне субатомные частицы бесконечно неисчерпаемы, как это подчеркивал Ленин, и на макроскопическом уровне, где неисчерпаема сама Вселенная.
Другой темой в работах Амбарцумяна, написанных после 1960 г., было его убеждение в кардинальной важности нестационарных объектов для астрономии. Он, конечно, всегда подчеркивал значение нестационарных систем и нестационарных звезд как ключевых объектов для понимания Вселенной; такой подход лежал в основе его ранних исследований эволюции звезд, которые уже нами рассматривались. В 1952 г. он объяснял свое внимание к нестационарным объектам в понятиях, которые были снова близки к марксистскому философскому описанию эволюции как проистекающей из противодействующих сил. «Почему изучение неустойчивых состояний представляет особенно большой интерес для космогонии? Известно, что важным двигателем всякого процесса развития в природе являются противоречия. Эти противоречия особенно ярко проявляются, когда система или тело находятся в неустойчивом состоянии, когда в них происходит борьба противоположных сил, когда они находятся на поворотных этапах своего развития... Это означает, что объекты, «находящиеся в неустойчивом состоянии, заслуживают особого внимания. За последние годы именно на этом пути изучения неустойчивых систем и неустойчивых звезд достигнуты серьезные успехи»[27].
В 1969 г. Амбарцумян писал по поводу своей же работы об эволюции звезд: «До середины 30-х годов... эволюционные идеи не играли в астрофизике существенной роли, хотя большинство астрофизиков прекрасно понимали, что они имеют дело с изменяющимися, развивающимися объектами»[28].
Подводя итоги, мы можем сказать, что основным и неизменным элементом в профессиональной жизни Амбарцумяна, начиная с его раннего акцента на рождении и эволюции звезд и кончая его поздним акцентом на такие быстро изменяющиеся явления Вселенной, как сверхновые и квазары, был принцип астрономической эволюции.
1. Для научной биографии Амбарцумяна см.: Северный А.Б., Соболев В.В. Виктор Амазаспович Амбарцумян (К шестидесятилетию со дня рождения)// Успехи физических наук. 1968. Т. 96. Вып. 1. С. 181 — 183.
2. Амбарцумян В.А. Некоторые вопросы космогонической науки//Коммунист. 1959. № 8. С. 86.
3. Амбарцумян В.А. Некоторые методологические вопросы космогонии// Философские проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 280.
4. Амбарцумян В.А. Проблема происхождения звезд//Природа. 1952. № 9. С. 9—10.
5. Ambartsumian V.A. A Stars of T Tauri and UV Ceti Types and the Phenomenon of Continuous Emission//Non — Stable Stars. International Astronomical Unioun Symposium N 3. Cambridge, 1957.
6. Амбарцумян В.А. Проблема происхождения звезд... С. 10.
7. За его достижения Амбарцумяну часто давалась высокая оценка в обычных биографических очерках как в Советском Союзе, так и за рубежом. См., напр.: Turkevich J. Soviet Men of Science. Princeton, 1963. Р. 15—16.
8. Амбарцумян достаточно разумно соглашался с униформизмом, так стройно выраженным Лайелем в следующем виде: «На современном этапе развития науки может оказаться необходимым гипотетически представить некоторую часть предполагаемого порядка в природе; но, если так, это должно быть сделано без нарушения вероятности и должно быть созвучно с аналогией нашего знания как о прошлой, так и о нынешней экономии нашей системы». Lyell Ch. Principles of Geology. L., 1875. Vol. I. Р. 299.
9. Я не могу не привести здесь фразу, которая помогает запомнить эту последовательность: «Oh, Be a Fine Girl, Give Me a Kiss Right Now Smack!» (Ах, Будь Хорошей Девочкой, Поцелуй Меня Прямо Сейчас, Чмок!)
10. Амбарцумян В.А. Проблема происхождения звезд//Природа. 1952. № 9. С. 44.
11. Амбарцумян В.А. Проблема происхождения звезд//Природа. 1952. № 9. С. 18.
12. Иордан очень часто критиковался советскими естествоиспытателями и философами// Jordan P. Die Herkunst der Sterne. Stuttgart, 1947.
13. См., напр., статью «Межзвездное вещество» в «Encyclopedia of Science and Technology». McGraw–Hill. Vol. 7. Р. 222: «В.А. Амбарцумян впервые указал на то, что суперяркие звезды высоких температур, которые не могут быть очень старыми по причине очень высокого темпа перехода массы в энергию, всегда находятся в облаках газа или межзвездных частиц. Такие ассоциации доказывают, что звезды должны быть сформированы из этого материала».
14. Так же как с точки зрения диалектического материализма было бы неверным говорить о «рождении» Вселенной как целого, неверным было и утверждение о ее «смерти». Они критиковали тех зарубежных авторов, которые говорили об этапе «белого карлика» в звездной эволюции как о «кладбище звездной материи», или тех, кто использовал понятие «белой смерти Вселенной». Советские философы часто говорили, что этап «белого карлика» в эволюции звезд есть лишь другое «состояние» материи, а не конечный пункт Вселенной. См., напр.: Курсанов Г.А. О мировоззренческом значении достижений современной астрономии//Вопросы философии. 1960. № 3. Более детальная дискуссия аналогичной природы развернулась вокруг второго закона термодинамики и «тепловой смерти» Вселенной. Советскими авторами делались различные попытки опровергнуть эту теорию, причем большинство из них основывались на положении о некорректности перенесения действия этого закона из области замкнутых систем в область систем бесконечных. Другие авторы (С.Т. Мелюхин и Г.И. Наан) полагали, что во Вселенной должны существовать «антиэнтропийные» процессы, противодействующие процессам, описываемым вторым законом термодинамики. Этот взгляд также вытекал из анализа кибернетики. Еще одни исследователи (Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц) противостояли интерпретации «тепловой смерти» на базе релятивистской термодинамики. См. «Опровержение «теории» тепловой смерти» в «Философии естествознания» (М., 1966. С. 130—136) и содержащиеся там сноски. См. также: Седов Е.А. К вопросу о соотношении энтропии информационных процессов и физической энтропии//Вопросы философии. 1965. № 1. С. 135—145..
15. Амбарцумян В.А. Заключительное слово//Философские проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 575—576.
16. Термин «метагалактика» относится здесь лишь к части Вселенной как целого, той части, о которой человек имеет прямые данные. Термин «метагалактика» впервые был введен Харлоу Шепли. См., напр. Shapley H. The Inner Metagalaxy. New Haven, 1957. Советский философ Г.И. Наан отмечал, что, хотя Шепли видел необходимость для различения между «Вселенной» и «метагалактикой», он был недостаточно внимательным в его использовании. См.: Наан Г.И. Гравитация и бесконечность//Философские проблемы теории тяготения Эйнштейна и релятивистской космологии. Киев, 1965. С. 278.
17. Амбарцумян В.А. Некоторые методологические вопросы космогонии. С. 271.
18. Там же.
19. Там же. С. 272.
20. Термин «парсек» является сокращением от «параллакс в секунду»; расстояние в один парсек равно 19,2 триллиона (19,2•1012) миль [(30,9•1012) км. — Прим. пер.]. Когда параллакс звезды, измеряемый с Земли, составляет одну угловую секунду, то расстояние до нее определяется как один парсек.
21. Там же. С. 286.
22. Там же. С. 287—288.
23. Взгляды Амбарцумяна в 60—70-е годы можно проследить по его следующим работам: Вводный доклад на симпозиуме по эволюции звезд//Научные труды. Ереван, 1960. Т. 2. С. 143—163; Некоторые особенности современного развития астрофизики//Октябрь и научный прогресс. М., 1967. Т. 1. С. 73—85; Contemporary Natural Science and Philosophy//Papers for XIV International Wien Philosophical Congress, Section 7. Moscow, 1968. Р. 41—72 (на русском языке); Амбарцумян В.А. Современное естествознание и философия//Успехи физических наук. 1968. Т. 96. Вып. 1. С. 3—19; Об эволюции галактик//Проблемы эволюции Вселенной. Ереван, 1968. С. 85—127; Мир галактик//Там же. С. 176—194; Проблемы эволюции Вселенной (под ред. В.А. Амбарцумяна). С. 85—127, 176—194 и 232—235; Космос, космогония, космология//Наука и религия. 1968. № 12. С. 2—37; Нестационарные объекты во Вселенной и их значение для космогонии//Проблемы современной космогонии. М., 1969. С. 5—18; Амбарцумян В.А., Казютинский В.В. Революция в современной астрономии//Природа. 1970. № 4. С. 16—26.
24. Амбарцумян В.А. Мир галактик. С. 189.
25. Ambartsumian V.A. Contemporary Natural Science and Philosophy. Р. 26— 29, 60—63.
26. Там же. С. 62.
27. Амбарцумян В.А. Вводный доклад на симпозиуме по эволюции звезд С. 145—146.
28. Амбарцумян В.А. Нестационарные объекты во Вселенной и их значение для космогонии. С. 17.
С.Т. Мелюхин
В 1958 г. советский философ С. Т. Мелюхин опубликовал книгу «Проблема конечного и бесконечного», в которой стремление марксистских философов принять релятивистские модели Вселенной выражается в гораздо большей степени, чем в предыдущие годы[1]. Работа Мелюхина была переходом, мостом между прежней ортодоксией и новой готовностью, даже стремлением со стороны некоторых советских философов объединить диалектический материализм с фактуальными обсуждениями современных астрономических доказательств. В этой книге Эйнштейн совершенно серьезно представлен как защитник диалектического материализма. Такое представление об Эйнштейне будет в позднейшие годы набирать силу[2]. Тем не менее мелюхинская интерпретация Вселенной не была просто признанием положений, ранее считавшихся недопустимыми, а определенным независимым утверждением.
Мелюхин связал наиболее интересную часть своего обсуждения с проблемами, поднятыми парадоксами Ольберса и Зеелигера. Поэтому будет разумным кратко рассмотреть эти известные вопросы астрономии.
В противоположность конечной Вселенной средних веков, Вселенная Ньютона выступала как состоящая из бесконечно большого числа тел в бесконечном евклидовом пространстве. Как отмечал Ньютон, если конечное количество вещества находится в бесконечном пространстве, то сила притяжения выльется в тенденцию всей материи сконцентрироваться в одну массу. Предполагая, что количество звезд и других небесных тел бесконечно, Ньютон избегал этой проблемы, ибо бесконечно большое множество тел не имеет центра. Его взгляд на бесконечную Вселенную стал стандартной интерпретацией в конце XVIII—начале XIX в.
В 1826 г. Г. В. Ольберс указал в ньютоновской Вселенной на проблему, которая стала известной как парадокс Ольберса: если общее количество звезд бесконечно, то земной наблюдатель должен видеть ослепительное небо, светящееся сплошным светом. Исходя из того, что ближе лежащие звезды будут затмевать более отдаленные от Земли, Ольберс полагал, что уровень яркости должен быть не бесконечным, а скорее равным солнечному по всем направлениям. Усилия многих астрономов прошлого века были направлены на попытки разрешить этот парадокс, это представляет интерес даже сегодня, хотя допущение расширения Вселенной может объяснить указанное явление. Дело не в том, что из этого парадокса нет выхода (его можно избежать, допустив, что яркость звезд уменьшается с удалением от Земли, или придав звездам определенные типы относительного движения, или допустив, что Вселенная меняется определенным образом через какие-то периоды времени), а в том, что любое допущение, необходимое для устранения этого парадокса, носило, до работы Хаббла по красному смещению, явно выраженный искусственный характер. Другими словами, допущение вводилось только для этой цели без дополнительных доказательств. Более того, любое из допущений имело бы радикальные космологические последствия. Сам Ольберс полагал, что он был в состоянии решить эту проблему, предположив существование пылевых облаков между звездами и Землей, которые бы препятствовали прохождению света. Сейчас мы понимаем, что гипотеза Ольберса не давала ответа, так как пыль абсорбировала бы энергию звезд до тех пор пока сама не стала бы настолько же ослепительно яркой.
Другим парадоксом, который Мелюхин указывал как вступление к своей попытке соединения диалектического материализма и современной космологии, был парадокс Г. Зеелигера, описанный в 1895 г. Зеелигер утверждал, что если бесконечная материя действительно распределялась однородно в бесконечном пространстве, как полагал Ньютон, то интенсивность гравитационного поля, проистекающая от бесконечной массы Вселенной, также будет бесконечна. Так как таких гравитационных полей не существует, то допущения Ньютона должны быть некорректными. Зеелигер пытался решить этот парадокс введением в ньютоновский гравитационный закон такой модификации, которая имела бы заметные эффекты лишь на очень больших расстояниях.
По зрелому размышлению становится ясно, что как парадокс Ольберса, так и парадокс Зеелигера (и многие другие кардинальные проблемы космологии) являются просто различными выражениями проблемы концептуализации бесконечности. Однако это объяснение не устраняет самих проблем, так как бесконечность представлялась необходимой для Вселенной Ньютона.
Мелюхину было ясно, что с 20-х годов возможным выходом из парадокса Ольберса являлись теории расширяющейся Вселенной (относительное движение звездного света), но он не хотел принимать расширение в качестве явления Вселенной как целого, хотя, как мы увидим, был готов принять его как явление в рамках ограниченных областей. К тому же теория расширения, даже как простое предположение, не удовлетворяла его, так как он полагал, что даваемое ею решение парадокса Ольберса будет лишь в терминах видимости; длина волны электромагнитного излучения звезд, достигающего Земли, будет смещена из светового диапазона в область радиоволн как результат внешнего расширения, но, по мнению Мелюхина, парадокс все же остается. (Сюда же можно отнести и проблему порога измеримости радиоволн, но Мелюхин ее не касался.)
Вместо того чтобы объяснять парадоксы на базе предположения о расширяющейся Вселенной, Мелюхин выдвигал другие возможности: модель иерархической Вселенной Ламберта—Шарлье (которая будет описываться далее) и возможность взаимодействия электромагнитного и гравитационного полей с космической материей. Как мы увидим далее, именно последнему взгляду отдавал предпочтение Мелюхин.
Модель Ламберта—Шарлье, впервые выдвинутая в XVIII в., представляет Вселенную, построенную в виде систем или гроздей первого порядка, второго порядка и так далее до бесконечности, причем каждая следующая система больше, чем предыдущая. Таким образом, будут иметь место галактики, супергалактики, суперсупергалактики и так до бесконечности. Шведский астроном К. В. Л. Шарлье продемонстрировал возможность такой иерархической модели разрешить проблемы парадоксов Ольберса и Зеелигера в рамках классической теории. Мелюхин, однако, указывал на то, что при экстраполяции к бесконечности модель иерархической Вселенной, предложенная Шарлье, приведет к средней плотности материи в ней, равной нулю, так как средняя плотность материи на каждом следующем уровне будет меньшей, чем на предыдущем. Такое упразднение материи было для Мелюхина неприемлемым по философским причинам. «С этой точки зрения теряет смысл и само понятие пространства, поскольку пространство не обладает независимым от материи существованием, оно выражает протяженность материи...» (с. 175). Таким образом, Мелюхин, как Аристотель и последующие мыслители, отрицал существование пустоты. Кроме того, замечал Мелюхин, все авторы иерархических моделей просто допускали существование такой Вселенной, не рассматривая пути ее возникновения. Согласно диалектическому материализму, никакое состояние материи не может сохраняться бесконечно без изменения, так как «всякая ограниченная материальная система, как бы велики ни были ее размеры, не может быть вечной. Она исторически возникла из других форм материи» (с. 178).
Мелюхин отказался от двух возможных решений парадоксов Ольберса и Зеелигера: понятия Вселенной, расширяющейся как целое, и иерархической Вселенной. Какое же решение предложил он? Он полагал, что наиболее многообещающим направлением исследований является превращение кванта электромагнитного и гравитационного полей в «другие формы материи». Принимая эквивалентность материи и энергии, присущую теории относительности, Мелюхин полагал, что в обоих парадоксах проблема избытка электромагнитной и гравитационной энергии может быть решена поглощением этой энергии, «сопровождающим ее переход в материю». Он замечал, что современная теория поля описывает гравитационное и электромагнитное поля как специфические формы материи. При утверждении перехода гравитационной энергии в материю не возникает никакого противоречия законам сохранения, отмечал Мелюхин, такой подход в обратном направлении ясно виден в превращении массы звезд в излучение. Исходя из этого, Мелюхин полагал, что он выдвинул возможное решение парадоксов.
Это мнение не завоевало широкого признания в Советском Союзе как возможное решение проблемы, в особенности потому, что расширение метагалактики, подтверждаемое другими данными, решало ту же проблему. Более того, чтобы приинять гипотезу Мелюхина, необходимо было бы пересмотреть Второй закон термодинамики, который обычно интерпретируют как утверждение, что электромагнитные излучения, такие, как тепло или свет, находятся в самом низу необратимой лестницы. Однако это соображение, возможно, и не привело бы Мелюхина в уныние, так как «тепловая смерть» критиковалась диалектическими материалистами по другим причинам[3].
Мелюхин критиковал те релятивистские модели Вселенной, которые включали в себя ссылки на ее рождение, но в противоположность многим, более ранним, советским авторам, он положительно отзывался об определенных аспектах некоторых релятивистских моделей. «В релятивистской космологии имеется много рациональных моментов и глубоких положений, которые должны быть использованы и развиты дальше... Даже сама идея о положительной кривизне пространства заслуживает внимания, ибо не исключена возможность, что в бесконечной Вселенной существуют области с такой плотностью вещества, которой соответствует положительная кривизна пространства» (с. 189).
Мелюхин не только находил много рационального в теории относительности, но он также был уверен, что эта теория подтверждает диалектический материализм, утверждая, что характеристики пространства-времени определяются количеством материи, содержащимся в континууме. В соответствии с этим, «как бесспорно следует из важнейших принципов теории относительности и диалектического материализма, пространство и время являются формами бытия материи и без материи не имеют самостоятельного существования» (с. 194)[4].
Ввиду принятия Мелюхиным общей теории относительности, возникает вопрос, почему он не основывался на расширяющихся релятивистских моделях (категории II, III и IV, приведенные выше) для объяснения парадоксов Ольберса и Зеелигера, а вводил гипотезу, необязательную во всех других случаях. Ответом на этот вопрос, возможно, является слишком большая область расширения, которую он иначе должен был бы принять, но вера во Вселенную, расширяющуюся как целое, все еще расценивалась им «как антинаучная, способствующая укреплению фидеизма» (с. 195). Тем не менее Мелюхин не отрицал расширения обозримой части Вселенной. «Все эти данные говорят в пользу того, что наша область Вселенной, по-видимому, находится в состоянии расширения — безотносительно к тому, каковы его причины» (с. 196). Мелюхин был довольно интересной фигурой; пытаясь приспособиться к современной науке, он явно оставался «онтологистом», марксистским философом, который был твердо убежден в том, что диалектический материализм раскрывает истины природы. В 80-х годах Мелюхин продолжал преподавать в МГУ и в 1985 г. защищал онтологические воззрения на конференции по истории и философии науки в Бостонском университете.
Если многие советские ученые желали принять концепцию о расширении видимой части Вселенной и отвергали абсолютное начало во времени, то как логическое объяснение может быть взята одна из многих предложенных космологических моделей — пульсирующая. Нежелание советских философов и астрономов рассматривать такую модель было довольно странным с точки зрения тех философских достоинств, которыми она должна была бы обладать для них — она бесконечна во времени и не включает в себя концепцию о творении материи, как это было с моделью стационарного состояния. Она, однако, может противоречить принципу всеобщей эволюции материи, содержащемуся в диалектическом материализме. Даже относительно не затронутый философией советский астроном И. С. Шкловский находил в модели пульсирующей Вселенной изъяны с философской точки зрения. В книге, написанной совместно с К. Саганом, он отмечал: «Простое повторение циклов, по сути, исключает развитие Вселенной в целом; оно, таким образом, выглядит философски неприемлемым. Далее, если Вселенная в свое время взорвалась и начала расширяться, не будет ли проще предположить, что этот процесс совершился лишь единожды»[5] . Можно многое сказать по поводу этого заявления Шкловского, вполне возможно, например, утверждать о пульсирующей Вселенной без абсолютного сведения всей материи к ее наиболее первоначальному состоянию (тип II), как это утверждал, в частности, Вильям Боннер. Некоторые концепции об эволюции в плане последовательных циклов могут, таким образом, быть сохранены, однако в этом случае эволюция будет лишь предположительной.
С возрастающим признанием релятивистских моделей в советской космологии, примерно после 1960 г., основное внимание переключилось с критики этих моделей в их совокупности на обсуждение каждой из них в отдельности. В особенности насущным стал вопрос о типе искривления пространства-времени в рамках релятивистского подхода. Эта проблема обычно, как это уже указывалось, рассматривалась применительно к обозримой части Вселенной. Проблема модели для всей вселенной воспринималась почти всеми (за редким исключением [6]) учеными как неприемлемая. Как отмечал в 1958 г. в журнале «Вопросы философии» А.С. Арсеньев, «естественные науки не могут дать ответа на вопрос: конечна или бесконечна Вселенная? Этот вопрос решается философией. Материалистическая философия приходит к выводу, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве»[7].
Уровень, которого достигли обсуждения различных космологических теорий к 1962 г., был ясно определен на Киевской конференции в декабре того же года. Конференция была призвана рассмотреть философские аспекты физики элементарных частиц и полей и собрала около трехсот философов и ученых[8]. Хотя космология не была ее главной темой, однако доклады П.С. Дышлевого и П.К. Кобушкина, посвященные общей теории относительности и релятивистской космологии, привлекли заметное внимание. Кобушкин, соглашавшийся с определением пространства и времени, которое дал Дышлевый («пространство и время — суть совокупность определенных свойств и отношений материальных объектов и их состояний»[9], представил доклад, наиболее соответствующий обсуждаемым до тех пор космологическим вопросам[10].
Основываясь на работах Г.И. Наана, В.А. Амбарцумяна, В.А. Фока и Ю.Б. Румера, Кобушкин дал набросок подхода, в соответствии с которым, по его мнению, было бы возможным принять «замкнутые» и расширяющиеся релятивистские космологические модели, включая перенесшую множество нападок модель Леметра, не противореча принципам диалектического материализма. Это требовало добавления нескольких интересных и возможных изменений к существующим моделям[11].
Для желаемого достижения описания метагалактики как квазизамкнутой системы, погруженной в «фоновую материю» бесконечной Вселенной, указывал Кобушкин, следует рассматривать некоторые гипотетические звезды, которые имеют плотности белых карликов и массы, характерные для сверхгигантов. Исходя из решения уравнений общей теории относительности, полученных Оппенгеймером и Волковым, они будут иметь следующие странные характеристики: испускаемые материальные частицы и кванты света будут удаляться лишь до определенного предела или «горизонта», а потом возвращаться к звезде[12]. Значение этого явления состояло в следующем:
«Это означает, что подобная звезда может рассматриваться как полностью замкнутая изнутри система в отношении ее энергетического взаимодействия с внешним миром через посредство таких «переносчиков» взаимодействия, как обычные материальные частицы и световые кванты.
Поэтому метрика пространства-времени вблизи таких звезд тождественна состоянию пространственной замкнутости... Тем не менее такая звезда не является абсолютно замкнутой системой хотя бы потому, что в действительности при помощи гравитонов все же осуществляется ее взаимодействие с другими звездами, формально выражающееся во взаимном неаддитивном наложении их гравитационных полей. Больше того, такая замкнутость звезд этого типа характерна лишь для статических полей сферической симметрии, рассматриваемых до того момента времени, пока физическая поверхность звезды при расширении последней еще не пересекает «горизонта» решения, метрика поля звезды как бы «размыкается», и становится возможным энергетическое взаимодействие звезды с внешним миром также посредством обычных материальных частиц и световых квантов. В дальнейшем решение этого типа уравнений ОТО мы будем называть квазизамкнутыми решениями»[13].
Кобушкин полагал, что возможность такого решения релятивистских уравнений для звезды делает возможным нахождение сходного решения для метагалактики. Однако он понимал, что одна из трудностей с данной аналогией состояла в том, что в случае с гипотетической звездой, приведенном выше, система будет замкнутой в смысле обычных материальных частиц и квантов света, но не в смысле гравитационного взаимодействия, в то время как многочисленные космологические модели считались замкнутыми и в смысле гравитации. Но Кобушкин ставил под вопрос абсолютную «замкнутость» замкнутых космологических моделей. Он допускал возможность существования нового типа частиц (называемых частицами «фона» или, следуя Румеру, «фундаментоны»), для которых не существовало бы «мирового горизонта» в современных замкнутых космологических моделях, так же как не существует «горизонта» для гравитации в случае массивных суперплотных звезд, которые описывались выше. Введение частиц с такими необычными свойствами, по мнению Кобушкина, «вполне правомерно на основе диалектико-материалистического тезиса о неисчерпаемости различных форм и свойств движущейся материи»[14]. Постулируя существование этих новых частиц, он получал возможность дальнейшего предположения о взаимодействии гравитационно-замкнутых моделей Эйнштейна, де Ситтера и Леметра с другими частями бесконечной Вселенной.
Было бы уместным отметить по этому поводу неточность иногда высказываемого мнения о том, что советские космологи не могли принимать модели большого взрыва или расширяющиеся космологические модели. В приведенном выше отрывке Кобушкин рассматривал модели большого взрыва и расширяющиеся модели как наиболее удовлетворительные из существующих моделей, но с важной поправкой о степени соответствия между моделью и всей Вселенной[15].
Одной из самых интересных советских книг по космологии в 60-х годах стало собрание трудов еще одной конференции физиков и философов, прошедшей в 1964 г. также в Киеве. Книга эта вышла под названием «Философские проблемы теории тяготения Эйнштейна и релятивистской космологии». При первом прочтении книга выглядит явно ревизионистской: выдвигаемые в ней предложения по пересмотру космологических концепций выходили за рамки всего, что когда-либо выдвигалось в Советском Союзе со времени окончания второй мировой войны. С точки зрения философии, однако, книга представляла собой возвращение к более ранней традиции в советском марксизме — сосредоточении на философских категориях как на области наибольшей гибкости внутри диалектического материализма, с учетом научного прогресса. Попытка снятия с конференции ревизионистского ярлыка была сделана П.В. Копниным, чья статья начинается цитатой из Ленина, но эффект этого в сочетании с последовавшим изложением скорее оправдывал необходимый ревизионизм. «Ревизия «формы» материализма Энгельса, ревизия его натурфилософских положений не только не заключает в себе ничего «ревизионистского» в установившемся смысле слова, а, напротив, необходимо требуется марксизмом»[16].
Копнин, который обсуждался на стр. 26 как реформатор в советской философии, был уверен, что пришло время провести ревизию некоторых марксистских категорий, особенно «конечного и бесконечного», для того чтобы поднять марксизм на один уровень с естествознанием. Он не сомневался в возможности и законности проведения ревизии в категориях диалектического материализма. Он подчеркивал, что «противоречия между содержанием философских категорий и новыми результатами научного знания связаны только с очень крупными, эпохальными открытиями», но признавал, что предшествующий факт «в принципе не исключает возможности таких противоречий»[17]. И изменения категорий могли выходить за рамки «модификации» существующих. «Раз философия — наука, а не предмет веры, то, очевидно, развитие ее категорий подчиняется общим диалектическим законам, которые она сама устанавливает для развития научных понятий, включая в себя как изменение и уточнение содержания прежних понятий, так и возникновение новых и отмирание старых»[18].
Эта попытка модернизации диалектического материализма, отмечал Копнин, должна была идти от Энгельса к Ленину, который, несмотря на свой гений, сделал отнюдь не все для того, чтобы диалектический материализм оказался на одном уровне с современной наукой. Каждый человек и каждая эпоха имеют собственные характеристики, и современные марксисты-ленинцы должны пытаться приводить марксистское мировоззрение в соответствие с последними научными данными, как это делали Энгельс и Ленин в свое время. Копнин замечал, что с начала XX в. в науке произошла революция, в соответствии с чем было вполне логично, согласно марксизму, что такие понятия, как «конечный» и «бесконечный», должны быть пересмотрены. «Эти категории сформировались очень давно, на заре развития научного познания. Содержание их было определено в период неразвитого естествознания (античность, эпоха Возрождения), когда не существовало зрелых понятий астрономии, физики, а единственной геометрией была евклидова»[19].
Копнин продолжал свои рассуждения о возможности того, что категории «конечный» и «бесконечный» не означают лишь признание: материя не может быть ни создана, ни разрушена, но может, напротив, бесконечно трансформироваться в разные формы. Такое согласование бесконечности с принципом сохранения материи имело заметные последствия для обсуждений космологических моделей. Копнин отмечал, что если диалектические материалисты будут определять «бесконечность» через требование определенного типа метрики Вселенной, то они будут повторять старую ошибку «диктата» науке, а не приближаться к ней. Он был убежден, что диалектическим материалистам не нужно было связывать космологию со специфическими геометрическими характеристиками [20].
Некоторые другие авторы, в противоположность советской космологии послевоенного периода, расширяли этот аргумент до уровня утверждений, что диалектический материализм требует конечности создаваемых человеком космологических моделей. По мнению Свидерского, это требование проистекало из диалектического закона о переходе количества в качество. Если пространственное расширение устремить к бесконечному пределу, отмечал Свидерский, такая огромная аккумуляция количества, бесспорно, выльется в качественное изменение, а именно: в изменение пространственно-временных структур. Утверждать обратное было бы «абсолютизировать» специфическое состояние материи (ее пространственно-временную метрику). По его словам, диалектический материализм основан на изменении состояний материи в соответствии с диалектическими законами[21]. Взгляды Свидерского на следствия этого диалектического закона были бесспорно приняты отнюдь не всеми участниками конференции (в особенности им противостояли С. Т. Мелюхин и Г. И. Наан), но его готовность принять релятивистские модели, включая модели с римановым пространством-временем, была обычной для большинства участников конференции, как философов, так и естествоиспытателей.
Эта конференция была дальнейшим развитием идей, выражённых на конференции 1962 г.; вместе они ознаменовали новый этап в развитии советских космологических дискуссий. Советские космологи не были уже в первую очередь вовлечены в полемику (которой оппозиция обычно не уделяла внимания) с зарубежными авторами. Очень мало времени было уделено в ходе этих конференций старому делу по борьбе с «идеалистическими воззрениями буржуазных ученых». Вместо этого философы, занимающиеся диалектическим материализмом, и естествоиспытатели пришли к выводу, что главные разногласия заключены между ними самими, а не между ними и учеными и философами других социальных систем. В то же время среди их аргументов можно, как и раньше, найти совместимые направления мысли, соглашения по определенным основным пунктам, начиная, конечно, с их преданности понятию объективной реальности и материальности природы.
Общие космологические темы, которые были заметными в ходе конференции 1964 г., касались в особенности положения о том, что к метагалактике не следует относиться как ко Вселенной в целом. Все имеющиеся у человечества космологические данные происходили лишь из малой части Вселенной и их экстраполяции на всю Вселенную являются сомнительными спекуляциями. Вследствие этого мнения под сомнение попадал «космологический принцип», положение об однородности Вселенной — допущение, на основе которого построены почти все существующие космологические модели. Советские авторы обычно утверждали, однако, что отбрасывание этих моделей совсем не обязательно, так как они могли бы быть полностью адекватными и полезными в применении к метагалактике. Еще одним воззрением, по которому было достигнуто соглашение, выступило положение об универсальной «связанности» Вселенной. Другими словами, не следует утверждать существование «полностью замкнутых конечных систем» в рамках Вселенной — ни для метагалактики, ни для других систем. Делать это означало бы отрицать объединение природы в единое целое. Окончательным соглашением — хотя в каком-то смысле менее общим, чем обсуждаемые до этого, — было убеждение в том, что пульсирующая или осциллирующая метагалактика не будет сама по себе удовлетворительным решением этой космологической проблемы, так как существующие формы таких моделей основаны на бесконечных идентичных повторениях, в которых этапы неразличимы между собой. Такая гипотеза противоречила бы принципу эволюции природы, переводя человеческое научное объяснение Вселенной в полностью статическую форму, сходную с моделью Аристотеля, как она интерпретировалась философами-схоластами. Возможно, пульсирующая модель, которая в каком-то смысле сохранила бы эволюционную непрерывность между этапами, была бы, как это выражалось на конференции, созвучной с диалектико-материалистической интерпретацией. Это позднее предложение было примером внутренней гибкости советской космологии после 60-х годов. Почти любая модель, рассматриваемая учеными где-либо в мире, могла бы, с определёнными доработками, соответствовать вышеуказанным философским требованиям, хотя для одних моделей это было сделать легче, чем для других (это было бы достаточно трудно для модели стационарного состояния). Эта внутренняя гибкость, однако, не сводила советскую философию естествознания до уровня тривиальности, как утверждали некоторые критики: предпочтения диалектического материализма в космологии были все еще явно различимы, даже если они уже и не сопровождались жесткими требованиями. Более того, такое же отсутствие требований, предъявляемых к природе, характерно для многих других философских систем. Поэтому у человека возникает искушение отказаться от философии и опереться на «твердые факты». Подвох здесь в том, что тогда мы точно не будем иметь ничего, что можно назвать естествознанием и уж совершенно точно — космологией.
Предметом дискуссии в Советском Союзе, как и в других странах, был вопрос о том, до какой степени при построении космологических моделей следует полагаться на факты или же, напротив, на философские соображения. Примером участника, который отдавал предпочтение философии в ходе конференции 1964 г., можно считать Свидерского, в то время как Наан призывал уделять больше внимания естествознанию. Для позиции Свидерского характерно следующее заявление: «рассмотрение проблемы конечного и бесконечного с очевидностью свидетельствует о том, что вопрос о смысле этих понятий может быть выяснен только философией и что сама проблема является компетенцией прежде всего философии, а не космологии, как это иногда утверждают»[22].
Наан смотрел на вещи с другой точки зрения: «Положение диалектического материализма о бесконечности Вселенной не есть требование, а есть вывод из данных естествознания. Содержание и форма этого вывода непрерывно изменяются. Вначале человечество установило, что Вселенная бесконечна в смысле практической бесконечности. Затем стало ясно, что она бесконечна в более глубоком смысле, в смысле неограниченной пространственной протяженности. Сейчас мы можем утверждать, что она бесконечна в пространстве-времени (но вовсе не обязательно в пространстве и времени!) в еще более глубоком, метрическом смысле. Топологический и иные все более сложные аспекты проблемы вновь заставят изменить и постановку вопроса в диалектическом материализме»[23].
Акцент Наана на детерминацию философии наукой может показаться фундаментально антифилософским по своему смыслу. Однако Наан, сам будучи философом, далее утверждал, что философия может внести очень важный вклад в проблему космологической бесконечности, которая, «есть пограничная отрасль науки, ведущая исследования на стыке астрономии с физикой и философией»[24]. Наан открыто утверждал о влиянии диалектического материализма на свои взгляды; его убежденность в значимости «бесконечности» Вселенной, согласно новому определению, и его стремление построить «квазизамкнутые космологические модели» были, хотя бы частично, результатами его диалектико-материалистической точки зрения. В случае с Нааном мы сталкиваемся с тем же вопросом, что и в случае с такими советскими естествоиспытателями, как Фок, Амбарцумян, Шмидт, Блохинцев и другие. Степень важности для них диалектического материализма нелегко понять стороннему наблюдателю, в особенности наблюдателю из общества, где диалектический материализм является предметом насмешек. В принципе, поверить в воздействие диалектического материализма на работу отдельных советских естествоиспытателей не труднее, чем поверить, что на работу таких крупных естествоиспытателей, как Кеплер, Ньютон, Пуанкаре и Гейзенберг, влияли философские предпочтения.
Выявление Нааном отношения между гравитацией и бесконечностью на конференции 1964 г. заслуживает дополнительного внимания. Он начал с рассмотрения критики, направленной в его адрес Свидерским. Согласно последнему, несколько естествоиспытателей и философов (Э. Кольман, А.Л. Зельманов, Я.Б. Зельдович и Г.И. Наан) «делают попытки согласовать выводы современной релятивистской космологии, в частности модель Фридмана, с требованиями диалектического материализма о бесконечности Вселенной в пространстве и во времени»[25], но «достигли» этого ценою «абсолютизации гравитации», что, с точки зрения Свидерского, было неприемлемо с позиций диалектики. Свидерский надеялся достичь той же цели, но другой ценой: он низвел гравитационное поле до статуса электромагнитного и считал, что отдельные типы частиц нейтральны по отношению к этому полю. Таким образом, подход Свидерского был схож с подходом Кобушкина, и действительно, последний в своем докладе на конференции 1962 г. лестно отзывался об анализе Свидерского, проведенном в 1956 г.
Наан решительно выступал против этой позиции. В противоположность электромагнитному и ядерному полям, гравитационное поле в его понимании было универсальной формой взаимодействия всех видов материи. Это заключение вытекало из следующего анализа: физикам удалось с очень высокой точностью установить равенство между гравитационной и инертной массами. Релятивистская физика установила дальнейшее равенство инертной массы и энергии. Поэтому утверждать существование негравитационных форм материи, как это делали Свидерский или Кобушкин, означало бы утверждать существование таких форм материи, которые «лишены энергии, не переносят никакой информации, не участвуют ни в каких взаимодействиях, существование которых ни в чем не проявляется и ни на чем не сказывается...»[26]. С точки зрения Наана, такое утверждение нарушало современную физику «более резко, чем гипотезы Милна, Иордана и Бонди». Далее он рассматривал утверждение Свидерского о том, что естествознание не должно абсолютизировать гравитацию как последствие недалекого прошлого, когда философы просто пытались указывать, с чем природа может или не может быть сходной. «Духу диалектического материализма такие попытки совершенно чужды, он берет природу такой, какая она есть»[27].
Наан надеялся построить модель «квазизамкнутой метагалактики», как это делал Свидерский, но используя, по его мнению, более созвучные научным данным средства. Эта модель основывалась на исследованиях Эйнштейна и Э. Г. Страуса гравитационных полей точечных масс, работе И. Д. Новикова по метагалактике как «антиколлапсирующей системе» и иерархической модели Ламберта—Шарлье. В 1945 г. Эйнштейн и Страус изложили в общих чертах «вакуольную» модель, в которой точечные частицы в космологическом субстрате окружены расширяющимися сферами вакуума[28]. Они продемонстрировали, что создаваемое такой точечной частицей поле не зависит от поля, создаваемого окружающим субстратом. И: Д. Новиков опубликовал в 1962 г. статью, в которой он показывал, что метагалактика может рассматриваться как вакуоль в суперметагалактическом субстрате. Такая метагалактика была бы «антиколлапсирующей системой»[29].
Далее Наан объединял эту возможность с моделью Ламберта— Шарлье, с тем изменением, что она была построена на иерархии релятивистских «замкнутых» моделей, а не на трехмерных евклидовых ступенях изначальной модели Ламберта—Шарлье. Наан постулировал существование целой серии расширяющихся «пузырей» широко варьирующихся масштабов. На этом пути он сочетал «удивительную однородность» с «крайней неоднородностью» в «диалектическом единстве»[30]. Полученная модель нашей метагалактики будет представлять собой вакуоль в окружающем субстрате, который имеет свой пространственно-временной «каркас», где пространственное сечение может быть как конечным, так и бесконечным. Границами вакуоли будет сфера Шварцшильда[31], которая не будет «непреодолимым барьером», а будет, наоборот, однонаправленным барьером, позволяющим сигналам войти внутрь, если система коллапсирует, и выйти наружу, если она расширяется.
Таким образом, Наан сконструировал модель, которая, как и модель Кобушкина, называлась «квазизамкнутой», но основывалась на других принципах. В применении к метагалактике она может быть релятивистской моделью, конечной с римановских позиций, но тем не менее бесконечной в смысле ее локализации в рамках большей системы, существующей, в свою очередь, в рамках еще большей системы. Она была «бесконечной», по словам Наана, в смысле пространства-времени (но не в смысле пространства и времени, взятых по отдельности). Она была частью единой природы, в которой в принципе могла передавать или принимать сигналы вовне или извне (но не одновременно). Можно добавить, что она также была чрезвычайно сложной. Однако она осуществляла цель Наана, состоявшую в сохранении диалектико-материалистической интерпретации космологии перед лицом непокорных естественнонаучных фактов.
1. Мелюхин С.Т. Проблема конечного и бесконечного. М., 1958. (Указания на страницы будут даны в тексте.)
2. В 1959 г. Г. А. Курсанов развил следующую интерпретацию: мировоззрение Эйнштейна представляло из себя смесь естественнонаучного материализма и махистской философии. Причем, можно найти много пунктов, по которым Мах и Венская группа негативно воздействовали на Эйнштейна, а естественнонаучный материализм Эйнштейна имел более важное воздействие и был ответственным за величие его работы. См.: Курсанов Г.А. К оценке философских взглядов А. Эйнштейна на природу геометрических понятий//Философские вопросы современной физики. М., 1959. С. 393—410. Сходный подход, приведший к еще более позитивной оценке Эйнштейна, выражен в биографической книге Б. Г. Кузнецова «Эйнштейн». Кузнецов говорил об «абсолютной духовной чистоте» работы Эйнштейна как «борьбе за независимость ума от всех форм мистического антиинтеллектуализма». См.: Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. М., 1969, и мою рецензию в журнале ISIS (1964. Июнь. Р. 251—252).
3. См. сноску 1 на с. 386.
4. Реджинальд Капп установил отношение между пространством и материей в релятивистской космологии следующим образом: «Принимая во внимание, что материи не так много в пространстве, сколько самого пространства, предельно элементарную составляющую материи можно описать наиболее точно и беспристрастно как частицу дифференцированного пространства»//Kapp R. Towards a Unified Cosmology. L., 1960. Р. 52.
5. Schklovskii I.S., Sagan C. Intelligent Life in the Universe. San Francisco, 1966. Р. 135. Посредством необычной денотативной системы можно определить, какие предложения и даже какие фразы написаны каким из двух авторов, один из которых — советский, а другой — американский ученый. Однако между двумя учеными не было разногласий по основным вопросам.
6. Примером исключения может служить И. П. Плоткин, который писал, что взгляд, отвергающий рассмотрение физикой проблемы бесконечно больших систем, «полностью отрицает космологию как науку». «Отказ от рассмотрения таких проблем,— продолжал он,— нанесет науке и философии разрушительный удар». Среди советских физиков, которых он критиковал за игнорирование этой проблемы, были хорошо известные Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, которые в своей «Статистической физике» отмечали: «Если мы попытаемся применить статистику к миру как целому, рассматриваемому как единая замкнутая система, то мы сразу же столкнемся с разительным противоречием между теорией и опытом». См.: Плоткин И.П. О флуктуационной гипотезе Больцмана//Вопросы философии. 1959. № 4. С. 138— 140; Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М., 1964. С. 45.
7. Арсеньев А.С. О гипотезе расширения Метагалактики и «красном смещении»//Вопросы философии. 1958. № 8. С. 190.
8. Отредактированные доклады этой конференции положены в основу сборника «Философские вопросы современной физики», который вышел под редакцией И. 3. Штокало и др. (Киев. 1964).
9. Дышлевый П.С. Пространственно-временные представления общей теории относительности. С. 71, 81.
10. Кобушкин П.К. Некоторые философские проблемы релятивистской космологии. С. 116.
11. Кобушкин, в частности, цитировал Наана как источник понятия «квазизамкнутой метагалактики». См.: Наан Г.И. Труды шестого совещания по вопросам космогонии. М., 1959. С. 247; он же. О современном состоянии космологической науки//Вопросы космогонии. 1958. № 6. С. 277—329.
12. Такая звезда явно нарушает соотношение «масса—радиус» карликовых звезд, где чем больше масса, тем меньше радиус. Согласно этому соотношению, звезда-карлик, превышающая 1,2 массы Солнца, будет стянута в точку. См., напр.: Krogdahl W.S. The Astronomical Universe. N. Y., 1962. Р. 371. См. также: Oppenheimer J.R. Volkoff G.M. On Massive Neutron Cores// Physical Review. 1939. 15. Feb. Vol. 55. Р. 374—381, и сопутствующую статью: Tolmen R.C. Static Solutions of Einstein’s Field Equations for Spheres of Flui//Ibid. Р. 364—373.
13. Кобушкин П.К. Цит. произв. С. 124—125.
14. Кобушкин П.К. Цит. произв. С. 126.
15. Кобушкин не был, однако, приверженцем модели Леметра. Он также интересовался неоднородными, анизотропными моделями, такими, как расширяющиеся и вращаюшиеся (Гёдель, Хекман и т. д., категория IV), и довольно много времени посвятил их обсуждению. См.: Кобушкин П.К. Цит. произв. С. 131 —139. Он был также зачарован возможностью связи микро-, макро- и мегамира посредством физических констант в том виде, которого придерживался Артур Эддингтон (последний, как и Леметр, одно время остро критиковался в Советском Союзе). Кобушкин начал работать над этой темой до второй мировой войны, и возможно, что до 60-х годов напряженность советской идеологической ситуации не позволяла ему опубликовать результаты его трудов.
16. Копнин П.В. Развитие категорий диалектического материализма — важнейшее условие укрепления союза философии и естествознания. С. 5. Я считаю эту статью интересной и неортодоксальной в смысле ее следствий для советской космологии, несмотря на то что некоторые зарубежные авторы характеризуют Копнина как представителя «старой гвардии» за его некоторые работы по диалектической логике. См.: Blakeley T.J. Soviet Theory of Knowledge. Dordrecht, 1964. Р. 6.
17. Копнин П.В. Развитие категорий диалектического материализма… С. 8.
18. Там же. С. 9. Этот взгляд, хотя он и был в советском контексте несколько спорным, выражался еще в 1931 г.: «В материалистической диалектике не существует закрытой или полной системы категорий, как впрочем, и возможности ее существования. Говорить здесь можно лишь о систематическом изложении законов и категорий, правильно отражающих диалектику реальности, дальнейшей разработке этого и изучения новых категорий, представляющих до того неизвестные формы материального движения». Переведено и цитируется Г. Веттером (Wetter G.A. Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in Soviet Union. N. Y., 1958. Р. 368) из кн.: Обичкин Г. Основные моменты диалектического процесса познания. М.; Л., 1933. С. 80.
19. Копнин П.В. Цит. произв. С. 13.
20. Там же. С. 13.
21. Свидерский В.И. О диалектико-материалистическом понимании конечного и бесконечного//Там же. С. 267. См. также замечания и возражения Мелюхина С. Т. О философском понимании бесконечности пространства и времени//Там же. С. 295.
22. См.: Свидерский В.И. Там же. С. 267.
23. Наан Г.И. Гравитация и бесконечность. С. 284.
24. Наан Г.И. О бесконечности Вселенной//Вопросы философии. 1961. № 6. С. 105.
25. См. описание дискуссии в статье Г. И. Наана «Гравитация и бесконечность». С. 269.
26. Там же. С. 271.
27. Там же.
28. Эйнштейн А., Страус Э. Влияние расширения пространства на гравитационные поля, окружающие отдельные звезды//Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. М., 1966. Т. 2. С. 623—631.
29. Новиков И.Д. О поведении сферически-симметричных распределений масс в общей теории относительности//Вестник МГУ. Сер. 3. 1962. № 6. С. 66—72.
30. Он называл это сочетание «диалектическим» в другом месте: см.: Наан Г.И. Гравитация и бесконечность. С. 275.
31. Оболочка Шварцшильда является этапом в истории жизни звезды. См.: Bok B.I. The Astronomer’s Universe. Cambridge, 1958. P. 86-87; Struve O. Stellar Evolution. Princeton, 1950. Р. 149.
А.Л. Зельманов
Одним из наиболее интересных современных советских авторов, пишущих о космологии, был Абрам Леонидович Зельманов (1913—1987), астроном-теоретик из Астрономического института им. П.К. Штернберга при МГУ. Ученик В.Г. Фесенкова, обсуждавшегося ранее, Зельманов с молодости интересовался применением общей теории относительности к астрономии. В отношении построения моделей его подход был чрезвычайно эклектичным и включал в себя возможность существования многих космологических моделей для разных областей Вселенной[1]. Он стойко противостоял любым попыткам априорного отрицания как «замкнутых», так и «открытых» моделей. Он полагал, что зарубежные астрономы-теоретики слишком привержены заключению об однородности и замкнутости Вселенной.
Зельманов, как и многие его современники, проявлял сильный интерес к диалектическому материализму. В 1969 г. он писал, что «диалектический материализм был и остается единственной системой философских взглядов, которой свойственны одновременно логическая последовательность внутри философской теории и гармония между нею и всей человеческой практикой»[2]. Как и Амбарцумян, он говорил о «качественно отличных» областях Вселенной, указывая на то, что различные физические силы господствуют на различных уровнях бытия. Так, отмечал он, наиболее определяющими силами на микроскопическом уровне являются негравитационные силы (так называемые «сильные», электромагнитные и «слабые» силы), в то время как на космическом уровне господствует сила гравитационная. Эти разные уровни, как в 1955 г. утверждал Зельманов, демонстрируют «диалектико-материалистические положения о неисчерпаемости материи и бесконечном многообразии природы»[3].
Причиной терпимости Зельманова в вопросе о построении моделей для метагалактики было его убеждение в том, что в рамках современной физики вопрос о бесконечности в традиционном смысле является «почти тривиальным»[4]. Для того чтобы выбрать модель, замечал в 1959 г. Зельманов, необходимо принять соотношение конгруэнтности. Другими словами, для построения модели Вселенной (или любой поверхности или объема) необходимо достигнуть соглашения о том, что составляет единицу длины в разных местах, в различные времена или в разных направлениях в одно и то же время. Выбирая различные отношения конгруэнтности, было бы возможно построить неограниченное множество искривлений.
Зельманов критически относился как к тем более ортодоксальным диалектическим материалистам, которые отрицали отдельные космологические модели, так и к тем астрономам, чаще зарубежным, которые безоговорочно принимали космологический принцип, на котором основывались все популярные релятивистские модели. В 1964 г. Зельманов в своей статье отмечал, что, скорее, чем допускать однородность и изотропность Вселенной, необходимо отметить возможность существования неоднородной и анизотропной Вселенной[5]. Согласно космологическому принципу, отмечал Зельманов, каким бы ни было искривление пространства (положительным, отрицательным, нулевым), оно должно оставаться постоянным, так как искривление вызывается количеством, распределением и движением материи; если допустить однородную везде Вселенную, то результирующее искривление будет константой независимо от своего знака.
Такое положение о постоянном искривлении было, с точки зрения Зельманова, большим упрощением, по которому понятия «замкнутый» и «бесконечный» должны были быть взаимоисключающими. Эта исключаемость была истинной, даже несмотря на то что эйнштейновская теория гравитации сама по себе не давала однозначного ответа на вопрос о конечности Вселенной. Эйнштейновская теория могла бы быть сохранена, насильно не связываемая с вопросом бесконечности, если бы космологи не настаивали на ненужных допущениях: «приняв в качестве основы космологии теорию тяготения Эйнштейна, не следует дополнять ее какими-либо упрощающими предположениями типа предположения однородности и изотропии»[6].
Утверждая существование неоднородной анизотропной Вселенной, Зельманов мог предложить много видов локальных пространственно-временных континуумов, включая как замкнутые, так и бесконечные. Более того, тот факт, что пространство (рассматриваемое отдельно) может быть бесконечным в пространственно-временном континууме, не означает, что в целом этот континуум заполняет всю Вселенную. Как писал Зельманов, «пространственно-временной мир, бесконечный во времени и пространстве, может и не охватывать собой всей Вселенной: он может быть и частью другого пространственно-временного мира, пространственно конечного или бесконечного. Пространственно-временной мир, охватывающий собой всю Вселенную, напротив, может не быть бесконечным в пространстве и, вместе с тем, содержать пространственно бесконечные мировые области... Разумеется, интересующий нас вопрос по отношению к реальному случаю остается открытым, и рассмотрение однородных изотропных моделей, пустых или не пустых, не дает на него ответа. Но едва ли можно ожидать, что в реальном случае свойства пространства окажутся более простыми, чем в случае упрощенных моделей»[7] .
Зельманов предвидел новый этап в развитии физической теории, основываясь на теории относительности, но, выходя за ее рамки, подобно тому как релятивистская физика выходит за рамки классической физики, вводя необходимые поправки в области больших скоростей и расстояний[8]. Какими же были пути, по которым, согласно Зельманову, эйнштейновская теория гравитации могла быть модифицирована для воздействия на космологию? Во-первых, он отмечал, что космологические модели «исключают друг друга» в рамках эйнштейновской относительности; другими словами, хотя все эти модели являются релятивистскими, они описывают «разные Вселенные». Так как по определению может существовать лишь одна Вселенная, то все модели, кроме одной, должны были быть неверными. Однако Зельманов видел достоинства во многих моделях. Казалось, он надеялся на своего рода «дополнительность» в космологии, позволяющую совмещать взаимоисключающие объяснения, хотя он и не использовал самого этого термина. Различные модели не будут взаимоисключающими, если они будут иметь каждая свое собственное отношение конгруэнтности, каждая свою собственную пространственно-временную метрику. Так, он возвращался к важности отношений конгруэнтности, говоря о том, что, используя различные отношения, различные модели могут дать различные описания одной и той же Вселенной и различных ее частей. Для этого необходимо было бы отказаться от понятия «идеального стандарта» длины и времени. Такая модификация имела бы следующее значение. «Это влечет за собой не только изменение понимания гравитационного взаимодействия, но также изменение самого понимания конечности и бесконечности пространства и времени: эту конечность или бесконечность уже нельзя будет рассматривать как метрическую, т. е. как конечность или бесконечность числа кубических метров или парсеков и числа секунд или лет»[9].
Таким образом, Зельманов схематично представил модель, которая охватывала много субмоделей. Не вдаваясь далее в детали чрезвычайно спекулятивного вопроса, можно заметить, что многие естествоиспытатели считали возможным принять сложную модель, которую предлагал Зельманов, только если были бы другие причины для этого принятия, а не такие, как отступление от научно принятых, значительно более простых, но не приемлемых с точки зрения философии альтернатив. Многие естествоиспытатели отдали существующим моделям постоянного искривления свое предпочтение в отношении научной приемлемости и структурной простоты, вне зависимости от философского значения. Однако это не преуменьшает главной цели Зельманова, который считал сомнительными операциями экстраполяции систем, построенных на основе обозримых данных, на всю Вселенную (как это делалось во всех существующих моделях). Что же касается философских препятствий принятию замкнутой Вселенной, то они были актуальными для многих естествоиспытателей в разных странах мира.
В 1969 г. Зельманов попытался объединить свой взгляд на космологию и космогонию с концепцией всего физического знания; по его мнению, в природе существует «структурно-эволюционная лестница», расширяющаяся от субатомного уровня к Вселенной[10]. Эта материальная, многообразная лестница имеет качественно различные уровни, но составляет взаимосвязанное целое. Ее наиболее отличительной характеристикой является не поддающееся представлению разнообразие. В самом деле, Зельманов рекомендовал ученым принять как «методологический принцип» тот взгляд, согласно которому в природе содержится все то многообразие условий и явлений, которое может иметь место, согласно принятым фундаментальным физическим теориям. Отсюда Зельманов эвристически представил присутствие в различных областях природы всех форм материи и всех космологических моделей, согласующихся с существующей физической теорией[11]. Так как физическая теория со временем изменяется, то, в свою очередь, изменяется и этот гипотетический бесконечный резервуар с моделями, но Зельманов не видел причин для того, чтобы заранее исключить какую-либо модель.
В конце 60 — начале 70-х годов качество советских работ по космологии и космогонии продолжало улучшаться. В 1969 г. в Москве был опубликован интересный труд «Бесконечность и Вселенная»[12], содержащий 18 статей. В этом труде и в других работах предпринимались впечатляющие усилия для достижения философского понимания структуры и эволюции Вселенной. Имела место тесная связь между несколькими ведущими советскими астрофизиками и философами. Среди ученых, занимавшихся в 1969 и 1970 гг. важными разработками в этой области, были А.Л. Зельманов, В.А. Амбарцумян, Г.И. Наан, В.В. Казютинский и Э.М. Чудинов[13]. Первые двое, каждый из которых уже описывался в этой книге, являются известными естествоиспытателями; три последних — способные философы естествознания. Амбарцумян и Казютинский публиковали совместные работы, пытаясь объединить взгляды профессионального философа естествознания и астронома[14].
Эти авторы тщательно проводили границу между наукой и философской интерпретацией науки. Они утверждали о своей готовности полностью принять данные науки, вне зависимости от того, как эти данные повлияют на предыдущие концепции. Однако эти авторы выражали уверенность, что эти данные не только всегда будут соотносимыми с диалектическим материализмом, но будут также освещаться им. Более того, как не видели они в естествознании угрозы диалектическому материализму, так же не видели они в диалектическом материализме угрозы для естествознания. Казютинский одобрительно цитировал высказывание советского физика В. Л. Гинзбурга о том, что диалектический материализм «не накладывает и не может накладывать «табу» на выбор моделей Вселенной»[15]. Казютинский был убежден, что даже гипотеза Леметра об изначально взорвавшемся атоме как начале Вселенной может быть соотнесена с диалектическим материализмом после внесения небольших: терминологических уточнений. «Нельзя считать, что идея о взрыве плотного или сверхплотного «первоатома» сама по себе является идеалистической. Если действительно Метагалактика (а не вся Вселенная!) образовалась так, как предполагал Леметр, это означало бы лишь то, что природа более «диковинна», чем нам казалось раньше, и что она поставила перед нами еще один трудный вопрос, решение которого будет, однако, найдено в рамках естествознания»[16].
Диалектические материалисты заняли настолько гибкие позиции по: вопросам космологии и космогонии, что можно было подумать об отсутствии влияния философии на их подход к природе. Однако такой вывод не будет достаточно верным. Они все еще стремились сохранить понятие бесконечности, часто во временном смысле для Вселенной в целом, но всегда, как минимум, в смысле «неисчерпаемости» материи при её более внимательном изучении человеком[17]. Они приводили различие между словами «бесконечный» и «безграничный», указывая на то, что замкнутое пространство-время не обладает границами, «за которыми должно существовать что-то внепространственное»[18]. Достаточно многие из этих ученых продолжали отдавать предпочтение неоднородным анизотропным моделям Вселенной, находя в них то богатство и бесконечность, которые они искали в материальной реальности. Они также продолжали разделять обозримую область Вселенной и Вселенную как целое.
Космическое фоновое излучение достаточно взволновало космологов с момента его открытия А.А. Пензиасом и Р.В. Вильсоном в 1965 г. Это излучение все чаще интерпретировалось как остаток первозданного огненного шара, из которого произошла Вселенная. Развитие этой концепции придало достаточный вес аргументам тех космологов, которые придерживались модели Большого взрыва. Появившись в то время, когда сторонники теории стационарного состояния отступили на другие позиции, эта интерпретация стала причиной перехода многих советских и зарубежных космологов к той или иной версии теории Большого взрыва. Открытие пульсаров и квазаров также добавило ценную информацию в той области, в которой новые данные наблюдений получить очень трудно. Астрономические данные, полученные недавно из нескольких разных источников, заметно укрепили позиции тех теоретиков, которые отдавали предпочтение расширяющимся однородным и изотропным моделям Вселенной. Эти новые данные усложнили задачу диалектических материалистов, таких, как Амбарцумян, которые до того были на стороне неоднородных анизотропных моделей. С другой стороны, данные, поддерживающие скорее открытые, чем замкнутые модели, устраивали многих советских интерпретаторов космологии.
1. См.: Зельманов А.Л. Нерелятивистский гравитационный парадокс и общая теория относительности//Научные доклады высшей школы: физико-математические науки. 1958. № 2. С. 124—127; Он же. К постановке космологической проблемы//Труды второго съезда всесоюзного астрономо-геодезического общества, 25—31 января 1955 г. М., 1960. С. 72—84; Он же. Метагалактика и Вселенная// Наука и человечество. 1962. М., 1963. С. 383—405; Он же. Космос, космогония, космология//Наука и религия. 1968. № 12. С. 2—37; Он же. Многообразие материального мира и проблема бесконечности Вселенной//Бесконечность и Вселенная. М 1969. С. 274—324.
2. Зельманов А.Л. Многообразие материального мира и проблема бесконечности Вселенной. С. 278.
3. Зельманов А.Л. К постановке космологической проблемы. С. 73—74.
4. См.: Речь А. Л. Зельманова//Философские проблемы современного естествознания. С. 434—441.
5. Зельманов А.Л. О бесконечности материального мира//Диалектика в науках о неживой природе. М., 1964. С. 260. Начиная с конца 40-х годов некоторые естествоиспытатели в разных странах иачали работать над анизотропными неоднородными моделями. См., напр.: Godel K. An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitations//Review of Modern Physics. 1949. Jul. Vol. 21. Р. 447—450; Raychaudhuri A. Relativistic Cosmology I// Physical Review. 1955. 15 Мау. Р. 1123—1126. Ранние работы Зельманова по этому вопросу см.: Зельманов А.Л. Хронометрические инварианты и сопутствующие координаты в общей теории относительности//Доклады АН СССР. 1956. Т. 107. С. 815—818; Он же. К релятивистской теории анизотропной неоднородной Вселенной//Труды шестого совещания по вопросам космогонии. М., 1959. С. 144—173.
6. Зельманов А.Л. О бесконечности материального мира. С. 260.
7. Там же. С. 263—264.
8. Согласно историко-научному взгляду, выдвинутому Т. Куном, релятивистская физика была тем не менее не просто дополнением или модификацией классической физики, а являлась парадигмой, которой были присущи противоречия с классической физикой. См. обсуждение этого важного вопроса в кн.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975, и глубокую рецензию на эту книгу, написанную Шепиром, особенно обсуждение существенных противоречий: Shapere D. The Structure of Scientific Revolutions//The Philosophical Review. 1964. Jul. Vol. 63. Р. 389— 390.
9. Зельманов А.Л. О бесконечности материального мира. С. 268.
10. Зельманов А.Л. Многообразие материального мира и проблема бесконечности Вселенной. С. 280.
11 Зельманов А.Л. Метагалактика и Вселенная. С. 390.
12. См.: Бесконечность и Вселенная. М., 1969. Среди других интересных книг см.: Станюкович К.П., Колесников С.М., Московкин В.М. Проблемы теории пространства, времени и материи. М., 1968.
13. См.: Чудинов Э.М. Логические аспекты проблемы бесконечности Вселенной в релятивистской космологии//Бесконечность и Вселенная. С. 181—218; Он же. Философские проблемы современной физики и астрономии. М., 1969; Казютинский В.В. Астрономия и диалектика//Астрономический календарь. 1970. М., 1969; Наан Г.И. Понятие бесконечности в математике и космологии//Бесконечность и Вселенная. С. 7—77; Зельманов А.Л. Многообразие материального мира и проблема бесконечности Вселенной//Там же. С. 274—324.
14. См.: Амбарцумян В.А., Казютинский В.В. Революция в современной астрономии//Природа. 1970. № 4. С. 16—26. Амбарцумян также признавал подход Казютинского в кратком предисловии к «Революции в астрономии» (М., 1968), написанной последним.
16. Казютинский В.В. Революция в астрономии. С. 33.
17. См., напр.: Чудинов Э.М. Логические аспекты проблемы бесконечности Вселенной в релятивистской космологии. С. 218. Эстонский философ Г.И. Наан говорил в 1969 г., что бесконечность Вселенной есть постулат, а не что-либо «доказуемое» или «опровергаемое». Но, продолжал он, без этого постулата человек так или иначе не может правильно понимать мир или что-либо существующее вне его, его воли и сознания. См.: Наан Г.И. Понятие бесконечности в математике и космологии. С. 76—77.
18. Баженов Л.Б., Нуцубидзе Н.Н. К дискуссиям о проблеме бесконечности Вселенной//Бесконечность и Вселенная. С. 130.
В.Л. Гинзбург
Одним из наиболее острых советских комментаторов отношений между физикой и философией в конце 70-х и в 80-х годах был академик В.Л. Гинзбург, выдающийся физик, возглавлявший отдел известного Физического института АН СССР им. Лебедева. Гинзбург в физике приближался к универсальности, проведя важные исследования в различных областях, включая радиоастрономию, сверхпроводимость, оптику, астрофизику и космологию. Он является автором нескольких сотен работ, лауреатом Ленинской премии и ряда других. Он долгое время интересовался философией естествознания, часто читал популярные лекции, выступал по советскому телевидению и радио[1].
Гинзбург является членом КПСС с 1944 г. и положительно отзывается о «материалистической философии» естествознания. Однако он крайне критически настроен к попыткам прямо связать марксистскую философию с естествознанием и проводит четкую границу между «естественнонаучными» и «философскими» вопросами. По его мнению, любая попытка поддержать или критиковать данную естественнонаучную теорию, ссылаясь на диалектический материализм, была ошибкой. Более того, Гинзбург является влиятельным критиком той группы советских исследователей, которых называли «онтологистами», веривших, что марксизм скорее связан с конкретными темами в рамках специальных наук, а не просто представляет метод анализа логических и эпистемологических вопросов.
Хотя Гинзбург и признает значительное улучшение интеллектуальной атмосферы в советской науке со времен Лысенко, он довольно ясно выражает свое мнение о сохранении отдельных опасных моментов. В статье 1980 г. он отмечал, что в учебнике «Основы марксистско-ленинской философии», используемом в советских вузах, все еще отдается предпочтение одним научным гипотезам и теориям перед другими, что, по его мнению, является недопустимым вмешательством. Как специалист в области астрофизики, глубоко интересующийся проблемами космологии, Гинзбург уделял внимание следующим положениям издания этого учебника 1979 г., 300 тысяч экземпляров которого стали обязательным пособием для студентов многих университетов: «Материя бесконечна в своих пространственных формах бытия». «Всякие допущения конечности времени неизбежно ведут к религиозным выводам о сотворении мира и времени богом, что полностью опровергается всеми данными науки и практики»[2]. Гинзбург рассматривал такие утверждения, как отказ от закрытых космологических моделей «без всякой естественнонаучной аргументации»[3]. Гинзбург говорил далее, что было бы неверным винить лишь советских философов в использовании марксизма для воздействия на научные вопросы. Он признавал, и это было редким для советских естествоиспытателей явлением, что часть вины лежит на самих ученых, которые иногда пытались показать, что «их теория и деятельность подкрепляются диалектическим материализмом»[4].
В этой связи Гинзбург в той же статье 1980 г. критиковал своего коллегу Амбарцумяна за то, что он сопровождал свои особые интерпретации астрономии ссылками на диалектический материализм. Гинзбург отмечал, что Амбарцумян и его «Бюраканская школа» (Бюраканская астрофизическая обсерватория, расположенная в 35 километрах от Еревана, была начальной базой Амбарцумяна) пытались показать на базе диалектического анализа, что современные астрономические данные не могут быть объяснены в рамках современной физики и что, следовательно, был необходим пересмотр основных физических понятий[5]. Гинзбург указывал на опасности такого подхода: «Если бы бюраканская гипотеза подтвердилась, то это было бы, несомненно, важным астрономическим результатом и большим успехом В. А. Амбарцумяна. То значение, которое автор гипотезы придавал и придает философии и методологии, позволит ему в случае такого успеха говорить и о торжестве правильной методологии. Но что случится, если бюраканская гипотеза не подтвердится и разделит в этом отношении судьбу многих других астрономических гипотез? Представляется уместным подчеркнуть, что и в этом случае философия диалектического материализма ни в какой мере не пострадает. Разве что будет получено еще одно доказательство того факта, что связь между философскими и естественнонаучными взглядами неоднозначна и весьма деликатна»[6].
Здесь Гинзбург приводит тонкий аргумент о том, что как для диалектического материализма, так и для естествознания было бы необдуманно связывать диалектический материализм со специфической научной гипотезой. Диалектический материализм должен был бы предстать метанаукой, областью знаний, стоящей над физикой, обобщая выводы, к которым физики приходят каждый в отдельности. Но диалектический материализм ни в коем случае не должен содержать таких сильных обязательств перед отдельными научными гипотезами, чтобы, когда данные гипотезы оказывались некорректными, страдал бы сам диалектический материализм.
В прекрасной книге, в которой он пытался определить «наиболее интересные и важные проблемы физики», Гинзбург касался огромного множества проблем, имеющих философское и методологическое значение. Гинзбург призывал к терпимости относительно различных взглядов в научных дискуссиях и предоставлению возможности решения научных вопросов с научных позиций[7]. Он не поддерживал усилия отдельных советских физиков, пытавшихся ответить на физические вопросы с позиций философии. Не называя Ленина, он почти процитировал ленинское положение о «неисчерпаемости электрона», допуская устройство материи наподобие «матрешки», которая может открываться до бесконечности. По этому вопросу Гинзбург имел разногласия со своим коллегой Барашенковым. Гинзбург признавал, что случай с кварками, расположенными ниже уровня электронов, завоевал все большее признание, но говорил, что возможность описания электрона как «состоящего» из более фундаментальных элементов есть вопрос физический, а не философский. Такие физические вопросы, продолжал он, должны рассматриваться как «открытые». Гинзбург представляет собой одного из наиболее выраженных оппонентов онтологических воззрений среди советских естествоиспытателей и философов, пишущих в настоящее время на тему философии физики.
1. См.: Виталий Лазаревич Гинзбург//Успехи физических наук. 1966. Сентябрь. Т. 90. Вып. 1. С. 195—197.
2. См.: Гинзбург В.Л. Замечания о методологии и развитии физики и астрофизики//Вопросы философии. 1980. № 12. С. 27.
3. Там же.
4. Там же. С. 31.
5. Гинзбург ссылался на те статьи Амбарцумяна, в которых последний много говорил о связях между научными взглядами и диалектическим материализмом. См. статьи В.А. Амбарцумяна и В.В. Казютинского в коллективных трудах «Философские проблемы астрономии XX века» (М., 1976) и «Астрономия, методология, мировоззрение» (М., 1979).
6. Гинзбург В.Л. Замечания о методологии и развитии физики и астрофизики// Там же. С. 33—34.
7. Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. М., 1980.
Школа Зельдовича—Новикова
В конце 70—начале 80-х годов наиболее влиятельным в советской космологии было направление, представленное школой Я. Б. Зельдовича и И. Д. Новикова, Репутация этих ученых заметно возросла и на Западе, особенно после перевода на английский язык в 1983 г. двух их книг — «Строение и эволюция Вселенной» и «Эволюция Вселенной».
Яков Борисович Зельдович (1914—1987) возглавлял всемирно известную исследовательскую группу в Институте космических исследований АН СССР, а также являлся профессором МГУ. За его блестящие работы в области проблем химической физики, газовой динамики, гидродинамики, ядерной физики, астрофизики и космологии он удостоился многих отличий в Советском Союзе и за рубежом. Он трижды удостаивался звания Героя Социалистического Труда и был награжден двумя орденами Ленина. В 1970 г. он был избран первым председателем Космологической комиссии Международного астрономического союза. Он являлся членом многих международных научных обществ[1].
Тесно сотрудничавший с Зельдовичем Игорь Дмитриевич Новиков в течение многих лет был ведущим членом исследовательской группы Зельдовича в Институте космических исследований и сейчас возглавляет собственную группу в этом же институте. Он также является профессором Московского физико-технического института.
Зельдович и Новиков являются представителями нового типа советских космологов, которые не пишут о марксизме или диалектическом материализме в своих специальных работах. Они действительно избегают писать на философские и исторические темы вообще, как будто понимают, что это не может принести ничего, кроме неприятностей. В английском издании 1983 г. своей книги они с гордостью заявляют, что их философия заключается в следующем: «Прошлое Вселенной бесконечно интереснее прошлого науки о Вселенной»[2]. Этот неисторический и нефилософский подход позволяет им избегать многих проблем, связанных с идеологически нагруженной историей советской космологии. Действительно, западный читатель работ Зельдовича и Новикова может сделать заключение, что они не имели отношения к идеологическим спорам и представляют «чистую науку». Такой вывод был бы некорректным. Как признавал Новиков во введении к русскому изданию одной из своих недавних книг, «ясно, что выводы космологии имеют большое мировоззренческое значение»[3]. Однако Новиков и Зельдович сами не делали идеологических выводов, оставляя это другим. Тем не менее, идеология присутствовала в некоторых их работах.
Одна из первых идеологических характеристик работы Новикова и Зельдовича, которую может отметить внимательный читатель, заключается в том, что, в отличие от многих западных космологов, они не затрагивают «рождения Вселенной», несмотря даже на то, что являются истыми защитниками расширяющихся моделей этой Вселенной. Их излюбленным выражением является «начало расширения». Вопрос о природе Вселенной до этого момента остается открытым. Хотя они иногда употребляют термин «возраст Вселенной», намного чаще они говорят о «времени расширения» в тех местах своих работ, где западный астроном, возможно, употребил бы «возраст» Вселенной. Таким образом, они избрали лексику, которая является менее поддающейся религиозному использованию, чем лексика их западных коллег, которых, кажется, занимает драма, содержащаяся в таких терминах, как «рождение» и «возраст» Вселенной. Даже в 80-х годах терминологические различия с идеологическими предпосылками могут быть найдены в работах советских и западных астрономов.
Один советский философ естествознания подчеркивал в 1979 г. важность использования термина «сингулярное состояние» вместо «рождение Вселенной». «Сингулярное состояние в начале расширения Вселенной фиксирует крайний предел, до которого можно экстраполировать в прошлое известные нам фундаментальные физические теории и понятия... Но это не абсолютное «начало всего», а лишь одна из фаз бесконечного саморазвития материи. Она возникла пока не изученным наукой путем из каких-то предшествующих состояний движущейся материи»[4].
Зельдович и Новиков, несомненно, критиковали бы это заявление как пример онтологической версии диалектического материализма, которой они избегали, но их лексика была сообразной в большей степени взглядам философов-марксистов, чем многих их западных коллег. В советской тенденции избегать такие термины, как «рождение Вселенной», и в западной тенденции их использовать работают два разных типа идеологических влияний.
Во многих отношениях, однако, Зельдович и Новиков идут полностью в ногу с западными космологами или опережают их. Они оба с энтузиазмом приветствовали в 1965 г. открытие «реликтового излучения», оставшихся радиопомех Большого взрыва. Новиков и его советский коллега А. С. Дорошкевич даже предсказали на год раньше уровень, на который реликтовое излучение будет превышать интенсивность микроволнового излучения радиогалактик[5]. Зельдович и Новиков писали в 1983 г., что «в общих чертах современное состояние и ближайшее прошлое Вселенной можно считать известным»[6]. Эта Вселенная, продолжали они, является расширяющейся, однородной, изотропной Вселенной, в которой «каждая частица (или ее предки) вышла из горнила сингулярности». Под «сингулярностью» они понимали момент в начале расширения, когда Вселенная была сверхплотной и горячей. Другими словами, Новиков и Зельдович являются сторонниками варианта теории «большого взрыва» Вселенной.
Объяснение Вселенной Новиковым и Зельдовичем противоречит и исключает объяснение Амбарцумяна. Амбарцумян отдавал предпочтение неоднородной Вселенной, а Новиков утверждал о наличии неоспоримых данных, свидетельствующих, что «свойства Вселенной одинаковы по всем направлениям»[7]. Амбарцумян также предсказывал, что известные физические законы окажутся неадекватными для объяснения Вселенной и, основываясь на марксистском взаимоотношении количества и качества, призывал к «революции в физике». Новиков и Зельдович, с другой стороны, полагали, что современные физические законы, особенно общей теории относительности (ОТО), подходят для задач современной космологии, без концептуальной «революции»: «Мы не согласны с появляющимися время от времени теориями о нарушении фундаментальных законов физики, например теориями о постоянном рождении вещества «из ничего» (и притом вдали от сингулярности — теория стационарной Всёленной), или с теориями об уменьшении постоянной тяготения.
Итак, однородная и изотропная Вселенная может быть рассмотрена в рамках ОТО»[8].
Здесь можно проследить критику по двум направлениям. Вместе с диалектическим материализмом они (как Амбарцумян и многие другие советские космологи) противостояли теориям «творения материи». Но они критиковали Амбарцумяна за допущение, в соответствии с марксистским принципом существования «различных законов на различных уровнях бытия», о том, что более общее объяснение Вселенной потребует новой формы физики, которая выйдет за пределы ОТО[9].
Советские космологи в середине 80-х годов продемонстрировали удивительную способность согласовывать космологические модели с системой диалектического материализма. Эти попытки разрешить космологическую проблему, найти модель метагалактики, не нарушающую отдельных филоcофских принципов, не сильно отличались, по существу, от попыток многих зарубежных философов и естествоиспытателей. Когда американский философ Майкл Скривен говорил о «фазах Вселенной, предшествующих современному «расширению», или английский астроном-теоретик Вильям Боннер говорил о своем «предпочтении циклоидальной модели», они оба находились под значительным влиянием внеэмпирических соображений[10].Они оба искали модель, в которой определенное понятие бесконечности могло бы быть сохранено. Советскими космологами двигали сходные стремления.
1. Сжатое изложение достижений Зельдовича на английском языке см.: Personalia: Iakov Borisovich Zel’dovich (on his sixtieth birth day)//Soviel Physics Usspekhy 1974. Sept. — Oct. Vol. 27. Р. 276—282.
2. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М., 1975. С. 11
3. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М., 1983. С. 5.
4. Казютинский В.В. Космология, картина мира и мировоззрение//Астрономия. Методология. Мировоззрение. М., 1979. С. 249—250.
5. Дорошкевич А.С., Новиков И.Д.//Доклады АН СССР. 1964. Т. 154. С. 809.
6. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. С. 7.
7. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. С. 13.
8. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Цит. произв. С. 13.
9. Заявление о марксистской природе этого принципа см. напр., на с. 54.
10. Майкл Скривен цитируется в кн.: Kapp R. Towards a Unified Cosmology. L., 1960. P. 49; Bonnor W. The Mystery of the Expanding Universe. N.Y., 1964. P. 204.
Заключительные замечания
Современный советский диалектический материализм является впечатляющим интеллектуальным достижением. Улучшение ранних положений Энгельса, Плеханова и Ленина и развитие их в систематическую интерпретацию природы представляет собой наиболее оригинальное интеллектуальное творение советского марксизма. Развиваемый наиболее способными его сторонниками, диалектический материализм, без сомнения, есть искренняя и обоснованная попытка понять и объяснить природу. По универсальности и степени разработанности диалектико-материалистическое объяснение природы не имеет равных среди современных систем мысли. В самом деле, необходимо было бы вернуться на несколько веков назад, к аристотелевской схеме природного порядка или к картезианской механической философии, для того чтобы найти такую систему, основанную на самой природе, которая могла бы соперничать с диалектическим материализмом по степени развития или целостности строения.
Наиболее характерная функция диалектического материализма в Советском Союзе вытекает из всеобъемлющего характера его концепции и тесной его взаимосвязи с современной научной теорией. Как система мысли, диалектический материализм не обладает сиюминутной утилитарной ценностью для ученых-исследователей, более того, перейдя в догму, он в нескольких случаях был серьезной помехой для них, хотя в других косвенно имел положительные эффекты, но все равно он имеет очень важное образовательное и эвристическое значение. Не только профессиональные советские философы, но и многие ученые и студенты в других областях также использовали концепцию объединяющего принципа человеческого знания, материалистического допущения, лежащего в основе диалектического материализма. Он не является доказуемым принципом, но тем не менее он не является и абсурдным. Советские естествоиспытатели, как группа, в действительности оказались более открытыми к следствиям, вытекающим из их философских допущений, чем ученые в таких странах, как США или Англия, где нормой является утверждение об отсутствии связи между философией и естествознанием. Возможно, на пути сочетания подходов советских и зарубежных исследователей окажется осознанным, что философия действительно влияет на естествознание (есть и обратное воздействие), однако это положение не должно преувеличиваться или, как это часто случалось в СССР, становиться объектом политических игр.
В смысле укрепления интеллектуальных позиций материалистического объяснения природы ясно то, что советские диалектические материалисты достигли действительного прогресса в отдельных областях, прогресса, который до определенной степени компенсирует их неудачу в генетике. 30—40 лет назад диалектические материалисты находили основные проблемы в области физики. Новые идеи, содержащиеся в квантовой механике и теории относительности, были обескураживающими для советских материалистов, как и для многих других традиционных мыслителей. Диалектические материалисты были обеспокоены воздействиями, которые новая физика могла оказать на те допущения, которые они ранее считали надежными: уверенность в существовании объективной реальности, принцип причинности и материальное основание реальности. Сегодня ясно, что этот этап обеспокоенности уже прошел. Неизвестно, что принесет будущее физики (а наука по своей природе приносит кризис), но на современном этапе философские проблемы физики не представляют трудностей для диалектического материализма, как это было 30 лет назад. Это просто неверно, что релятивистская физика и квантовая механика, как это часто утверждалось несколько десятилетий назад, «разрушают материализм в самом основании». Эти области физики более не содержат уникальных опасностей для положений об объективной реальности, причинности и первостепенном значении материи. В терминах новых материалистических интерпретаций природы, релятивизм и квантовая физика поддерживают более утонченные объяснения физических явлений, чем это предлагалось ньютоновской физикой.
Работы таких авторов, как Фок, Блохинцев, Омельяновский и Александров, важны в этом смысле, хотя они и несколько различны по содержанию. Они указывают, что в свете современной физики необходимо отбросить детерминизм в его лапласовском понимании, но не причинность вообще. Если бы в природе не существовало причинности, то все исходы данного физического состояния были бы равновозможными. Мы хорошо знаем, что, согласно квантовой механике, действительная ситуация далека от такого абсолютного индетерминизма. Понятие причинности может утвердиться, будучи основанным на вероятности. Многие ученые находят такую причинную концепцию необходимой для понимания природы и считают ее существенно превосходящей жесткий детерминизм Лапласа.
Другие советские ученые обратили внимание на тот факт, что в общей теории относительности материя играет более важную роль, чем в классической (ньютоновской) физике. Плотность материи во Вселенной, согласно общей теории относительности, определяет конфигурацию пространства-времени. Материя, таким образом, приобретает значение, о котором не могли и мечтать материалисты в XVIII—XIX вв. Верно то, что принцип взаимопревращаемости материи и энергии, содержащийся в теории относительности, как бы преуменьшает статус материи (почему, например, материя должна быть важнее, чем энергия?), но есть и другая сторона медали, которая подкрепляет убеждения диалектических материалистов. Приняв эту взаимопревращаемость, они теперь рассматривают материю и энергию как синонимы (материя-энергия), и, исходя из первостепенности материи-энергии, они не сталкиваются с древней проблемой пустоты, с которой сталкивались классические материалисты. Все пустоты явно содержат какие-либо поля, по меньшей мере гравитационные, а следовательно, и материю-энергию. Ставится, следовательно, под вопрос само понятие пустоты как чего-либо существующего в реальном мире.
Оригинальность советского диалектического материализма в сравнении с другими областями мысли в СССР не является результатом только талантливой деятельности отдельных его представителей; она проистекает из природы классического марксизма и головокружительной скорости развития самой науки. Маркс много писал об обществе, но очень мало о естествознании. Изящество его оригинальных утверждений об обществе затмило все последующие усилия сторонников Маркса в политической и экономической теории. До 1917 г. система исторического материализма была намного более разработанной, чем система диалектического материализма. Конечно, Энгельс много писал о философии природы, и в этом смысле дал толчок развитию диалектического материализма, но подобные работы очень быстро устарели в силу революционных изменений самой научной теории на рубеже XIX и XX вв. После 1917 г. советские диалектические материалисты были вынуждены искать новые пути понимания природы, так как сама научная теория шла новыми путями. Лишенные адекватного марксистского объяснения природы и столкнувшиеся с революцией в естествознании, советские диалектические материалисты за прошедшие 60 лет осуществили в философии науки новаторские достижения, которые контрастируют с остальными советскими интеллектуальными усилиями.
Более важной причиной советских достижений в философии естествознания по сравнению с другими областями мысли в СССР, являлось наличие системы контроля Коммунистической партии над интеллектуальной жизнью, системы, оставляющей больше свободы для инициативы в сфере науки, нежели в сфере политики. Лучшие умы были заняты наукой, и некоторые из них, вполне естественно, интересовались философскими аспектами своей работы. В специфической советской обстановке эзотерическая природа обсуждений диалектического материализма была в каком-то смысле преимуществом для авторов, уберегающим их от цензуры.
Отдельные части высокопрофессиональных работ авторов, писавших о диалектическом материализме, часто были погребены под достаточно специальными обсуждениями. Те естествоиспытатели, которые обратились к диалектическому материализму в конце 40-х годов для защиты своих дисциплин от сталинских критиков, обнаружили возможность интересной работы в области философии естествознания. Партийные деятели продолжали считать себя экспертами в теориях об обществе и по сей день все еще грубо вторгаются в такие обсуждения. Только после нескольких серьезных ситуаций они поняли, что вторжение в узловые проблемы научных интерпретаций является очень рискованным делом.
Известная терпимость советских партийных функционеров к различного рода интерпретациям, возникавшим в области философии науки после смерти Сталина, имела противоречивые последствия: с одной стороны, некоторые ученые сознательно перестали обращаться к философии, поскольку от них уже не требовалось постоянно демонстрировать значение диалектического материализма для науки, а с другой — у многих ученых появился новый интерес к философии, которая представлялась им сферой возможного приложения своих интеллектуальных способностей.
Из всех проблем и вопросов, обсуждавшихся в этой книге, наибольшую трудность для сторонников диалектического материализма представляют проблемы биологии человека, о которых речь шла в VI и VII главах. И сегодня эти проблемы по-прежнему являются камнем преткновения для сторонников диалектического материализма, и в настоящее время трудно делать прогнозы относительно того, как они с ними справятся. Правы те, кто считают, что точка зрения, согласно которой решающее значение в формировании поведения человека отводится факторам «среды» или «воспитания» (nurturism), играет существенно меньшую роль в работах основоположников теории диалектического материализма (Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина), нежели в той интерпретации философии диалектического материализма, которая была выдвинута Сталиным. Однако именно этой точке зрения отдавалось предпочтение в Советском Союзе на протяжении долгого времени и после смерти Сталина. Даже сегодня (несмотря на то, что она подвергается критике) этой точке зрения по-прежнему отдается предпочтение в работах советских авторов. И все же было бы неверно описывать эту позицию как сталинистскую доктрину, поскольку многие либералы и реформаторы во всем мирё отстаивают сходную позицию, исходя из гуманистических соображений. Другими словами, дискуссии по проблеме соотношения «биологического» и «социального» (или, в другой терминологии, по проблеме «природа» — «воспитание»), ведущиеся в Советском Союзе, носят интернациональный характер, и их исход волнует интеллектуалов, придерживающихся различных политических убеждений в разных странах мира. Если в результате этих дискуссий окажется, что, при объяснении процессов формирования поведения человека, большую, чем это предполагалось ранее, роль играют природные факторы (а именно на это указывают, как представляется, последние данные науки), то в таком случае советский диалектический материализм потерпит еще одно поражение. Тем не менее, в качестве философской позиции материализм вполне может приспособиться к точке зрения, согласно которой решающую роль в становлении человека играют природные факторы (naturism). Вместе с тем, если окажется, что, при объяснении процессов формирования человеческого поведения, большую, нежели это считалось раньше, роль играют материальные носители наследственности, то это будет означать торжество взглядов традиционного (несоветского) материализма. Подобное заключение может, возможно, иметь неблагоприятные последствия для общества, но оно ни в коей мере не представляет собой угрозы для философского материализма.
В ретроспективе ясно, что дискуссии, обсужденные в этой книге, выявляют очень разные, даже противоречивые аспекты советского общества. Если заинтересоваться в первую очередь тем, как советская система политического контроля над интеллектуалами создала ситуацию, в которой беспринципные карьеристы смогли оказывать огромное влияние на некоторые научные области, то следует обратиться к делу Лысенко. Здесь можно найти обильные доказательства того вреда, который был нанесен науке централизованной политической системой, в которой принцип контроля был возведен на уровень самой научной теории. Дело Лысенко было одним из наиболее вопиющих в наше время, когда ученым отказывали в их праве оценивать ценности научной теории. Все возрастающий политический характер, который принимает наука, не может быть оправданием для введения контроля над оценкой адекватности конкурирующих научных объяснений. Решающее слово здесь должно принадлежать ученым.
Основной моей целью при написании этой книги было, однако, не новое обращение к этой репрессивной стороне истории советской науки; тем, кого интересует именно этот аспект, я посоветовал бы обратиться к книгам Д. Жоравского и Ж. Медведева о Лысенко. Вместо этого я пытался подчеркнуть более интересные с философской, а не драматические с политической точки зрения аспекты отношений между советской философией и наукой. Просматривая литературу за последние 40 лет, я попытался сосредоточить свое внимание на лучших, а не худших с точки зрения интеллектуальной ценности работах. Я бы поступил точно так же, если бы изучал отношение картезианства к науке в XVII—XVIII вв. или перипатетизма к науке в Средние века.
В комментариях к одной из моих статей по советской науке советский физик В. А. Фок писал (Fock V.A. Comments//Slavic Review. 1966. Sept. Р. 411—413), что Грэхэм уделил основное внимание «той части дискуссии, которая проходила на высоком научном уровне, а не тем статьям и мнениям, которые он (Грэхэм) правильно описывал, как «оскорбительные пародии на интеллектуальные исследования» (особенно многочисленные в темный период с 1947-го до начала 50-х)». Это означает, что я редко брал интересные и необходимые темы из газет, популярных политических журналов или учебников марксизма-ленинизма. Вместо этого я обращался к серьезным монографиям, и журнальным статьям советских ученых и, где это было возможно, к работам советских естествоиспытателей.
Некоторым моим читателям этот подход может показаться необоснованным. У читателей, убежденных в том, что все ссылки советских ученых на диалектический материализм были не чем иным, как следствием политического давления, могут возникнуть сомнения в возможности достижения чего-либо ценного в результате изучения работ, в которых советские ученые пытались показать отношение марксистской философии к их работе.
Я убежден тем не менее, что немало видных советских естествоиспытателей считают диалектический материализм плодотворным подходом к изучению природы. Они исследовали многие проблемы интерпретации природы, которыми занимались ученые и философы других стран и времен, и они постепенно выработали и улучшили философию естествознания до такой степени, что она непременно продолжала бы существовать и развиваться, даже если и не поддерживалась бы Коммунистической партией. Эта независимая и неофициальная сторона диалектического материализма может быть раскрыта лишь при изучении научной литературы, а не политико-идеологических источников. Лишь признавая научные истоки многих советских работ по диалектическому материализму, можно прийти к пониманию причин столь значительных разногласий среди советских ученых по философским интерпретациям таких вопросов, как психология восприятия, природа Вселенной и соотношение неопределенности в квантовой механике.
Когда в 1972 г. было опубликовано первое издание настоящей книги о диалектическом материализме и советской науке, казалось, что советские ученые и философы успешно выйдут из-под строгого политического контроля и вступят в новый, намного более свободный период. К сожалению, эти надежды не оправдались (Примеч. – Этот вывод был сделан мною в 1985 г., и он не отражает моих сегодняшних представлений, о которых читатель может судить по новому предисловию, написанному мною в 1989 г. специально для издания книги на русском языке. — Авт.). Напротив, за последние годы политический контроль над советскими учеными снова усилился. Хотя диалектический материализм продолжает оставаться доктриной, интересной с интеллектуальной точки зрения, на политическом уровне он потерпел крах, поскольку является доктриной деспотического и недемократического государства. В руках официальных идеологов (в противоположность серьезным естествоиспытателям и философам) он превратился, по существу, в государственную религию. Сомнительно, что интеллектуалы в политически свободных частях мира будут уделять диалектическому материализму то серьезное внимание, которого он заслуживает, так как главным его выразителем является государство, отказывающее своим интеллектуалам в элементарных правах, таких, как свобода слова, политического выбора и передвижения. Такие науки, как психиатрия, все еще извращаются в СССР, оставаясь инструментом политических властей. Диссиденты объявлены душевнобольными, исходя из того, что любой умственно полноценный человек признает достоинства советской системы. Ученые, защищающие права человека и демократию, такие, как Андрей Сахаров, подверглись преследованиям.
Авторитарная политика СССР привела к тому, что многие интеллектуалы в этой стране потеряли интерес к диалектическому материализму и марксизму вообще. Это случилось, как только прогрессивная и новаторская доктрина приняла на официальном уровне схоластический и ортодоксальный характер.
Большая часть политического контроля над советской наукой сегодня затрагивает политическую деятельность отдельных ученых, а не внутреннее содержание самой науки. Таким образом, пока советский ученый не выражает сомнений в советской системе или не выступает против советской внутренней или внешней политики, он (или она) может довольно свободно писать по вопросам науки и даже ее философии. Однако за последние годы возросла угроза догматизации даже внутренних вопросов науки, хотя одновременно с этим постоянно возрастало влияние «эпистемологистов». Возвращения к жестокому контролю сталинского периода не наблюдается, однако не наступает и время интеллектуальной свободы, когда ученые могли бы исследовать все вопросы диалектического материализма, не опасаясь вмешательства со стороны партии.
Перед тем как перейти к заключительным замечаниям по рассмотренным здесь проблемам, было бы уместно отметить, что современный диалектический материализм имеет несколько серьезных недостатков. Не говоря о политических препятствиях, которые он все еще встречает в СССР, наибольшим недостатком, проявляющимся почти регулярно, является его слабость перед лицом критики со стороны приверженцев философского реализма. Многие естествоиспытатели и философы во всем мире полностью принимают диалектико-материалистические положения о существовании объективной реальности, но одновременно отказываются признать себя диалектическими материалистами. Причины этого отказа лучше всего выявляются в анализе ленинского определения материи: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».
Философский реалист мог бы ответить Ленину, что он полностью согласен с тем, что объективная реальность существует, что также существуют «объекты вне сознания» и что в мире не существует ничего сверхприродного. Откуда, продолжит он, появилось слово «материя»? Реалист заметит далее, что он предпочитает этому термину термин «объективная реальность», так как ему ясно, что такие понятия, как сознание и абстракции реальны, но для него далеко не ясно то, что они материальны.
Критика, выдвинутая философским реалистом, показывает, что ленинское определение материи характеризует ее отношение к субъекту и не содержит определения самой материи. Есть вполне достаточные причины полагать, что Ленин хорошо это понимал, но тем не менее принял «относительное определение» материи, так как все альтернативы были легко уязвимыми для критики. Дело в том, что ленинское определение материи является и сильной и слабой сторонами диалектического материализма. Сильной стороной этого определения является то, что оно не зависит от уровня развития естествознания и, таким образом, приобретает намного большую непреходящую ценность. Если бы диалектические материалисты попытались определить саму материю — то есть в совокупности ее свойств,— то в конце концов это определение устарело бы с изменением наших знаний об этих свойствах, так же как устарели все предыдущие определения предшествующих материалистов (например, определения греческих атомистов, которые представляли материю состоящей из неделимых частиц). Ленин считал материю неисчерпаемой в ее свойствах и, таким образом, неопределяемой в терминах этих свойств. Это положение является одним из наиболее важных различий между диалектическими материалистами и механическими материалистами. В ленинской позиции преодолевалась изначальная устарелость предыдущих определений материи, но в то же время эта позиция давала возможность для критики диалектических материалистов за их неспособность показать превосходство термина «материя» над термином «объективная реальность».
Конечно, Ленин, строго говоря, не давал определения материи. Принцип материальности Вселенной не вытекает из вышеизложенной ленинской позиции относительно эпистемологии, а вместо того представляет собой отдельное предположение. Постулативный характер материализма не является фатальным его изъяном в той степени, в которой оппоненты материализма пытаются это представить, так как все концептуальные системы содержат те или иные допущения. Человек не может достичь своей исключительной цели — попытки понимания,— не расплачиваясь за это некоторыми допущениями. Главное здесь — осторожный выбор своих допущений и готовность к рассмотрению других возможностей. Можно спорить, исходя, например, из соображений экономии, что одни допущения являются более обоснованными, чем другие. Более того, можно отстаивать материализм и противостоять реализму, исходя именно из этой основы. Но постулативный характер материализма означает, что диалектический материализм не вытекает исключительно из научных фактов, как это утверждают некоторые его защитники.
Обращаясь теперь к главам этой книги и описанным в ней проблемам интерпретации природы, мы можем легко заметить, что они содержат множество необоснованно раздутых диспутов и попыток со стороны политических идеологов манипулировать вопросами, касающимися философов и других ученых. Тем не менее, во всех вопросах, кроме лысенковского спора о генетике и обсуждения теории резонанса в химии, в рамках всеобъемлющих дебатов содержались положения истинно интеллектуального значения. И даже в обсуждении химии, проводимом грубым подражателем Лысенко, содержалась в высшей степени реальная проблема значения и важности моделей в природе. С интеллектуальных позиций дело Лысенко было само по себе полностью искусственным; те немногие философские проблемы, которые в нем поднимались, были либо устаревшими, либо неверно понятыми сторонниками Лысенко. Я думаю, что эта оценка будет верной, даже если, вопреки современным научным данным, наследование приобретенных признаков будет принято в биологии будущего. Лысенко был не в состоянии понять биологию своего времени. Было бы антиисторично и неверно защищать его во имя будущей биологии. Такая защита теории наследования приобретенных признаков касалась бы совершенно иных представлений.
Во всех дискуссиях, обсужденных в этой книге, кроме лысенковского спора, мы часто обнаруживали талантливых ученых, полностью понимавших современную науку и приводивших правдоподобные аргументы, связывая их с диалектическим материализмом таким образом, что это не выглядело лишь результатом политического давления. Конечно, некоторые из этих мнений были признаны «неверными» в свете современной науки, но они часто оцениваются современными учеными как точки зрения, закономерные и оправданные для своего времени. Некоторые из них играют значительную роль и в наше время, а большинство — продолжают разрабатываться.
Среди положений советских ученых, которые были признаны ценными в свое время или признаются ценными и в настоящий момент и в отношении которых диалектический материализм сыграл определенную роль, можно указать следующие: точка зрения Л. С. Выготского по поводу мышления и языка; теории социальной психологии А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьева; концепции С. Л. Рубинштейна о восприятии и сознании; пересмотр и расширение П. К. Анохиным павловской психологии; критика В. А. Фоком и А. Д. Александровым некоторых интерпретаций квантовой механики и теории относительности; философская интерпретация квантовой механики Д. И. Блохинцева; анализ планетарной космогонии О. Ю. Шмидта; положения В. А. Амбарцумяна о формировании звезд и его критика отдельных космологических теорий; «квазизамкнутые» космологические модели Г. И. Наана; взгляды А. Л. Зельманова на «многообразную Вселенную»; многие советские работы, критикующие абсолютное начало Вселенной или модель неразвивающейся циклической Вселенной; взгляды А. И. Опарина на возникновение жизни и его критика механицизма в биологии, а также некоторые взгляды советских философов и естествоиспытателей на кибернетическую эволюцию материи.
Однако необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность, допуская, что научные взгляды каждого из вышеуказанных советских авторов были в действительности в значительной степени определены влиянием диалектического материализма.
Я указывал ранее, что диалектический материализм «мог» сыграть какую-либо роль в интеллектуальном развитии этих ученых, а не то, что он сыграл эту роль в каждом конкретном случае.
В действительности не существует способа с полной очевидностью продемонстрировать влияние интеллектуального марксизма на взгляды отдельного ученого. Такие доказательства не являются сущностью интеллектуальной истории вообще и не имеют никакого отношения к марксизму. Мы можем показать, что естествоиспытатель придерживался в своих работах идеи X и что он, интерпретируя эту идею, указывал в печати на существование связи между идеей X и концепцией Y в марксизме.
Но мы не имеем возможности доказать действительной причинной связи между X и Y. На самом деле существует много возможных объяснений, кроме объяснения истинной интеллектуальной стимуляции. Ученый мог прийти к идее X независимо и обратиться затем к идее. У как к подтверждающему аргументу. Он мог ввести эту связь в результате оказанного на него политического давления. Он мог использовать эти связи просто для осуществления своей карьеры, понимая, что интерпретация, которая может быть названа марксистской, скорее завоюет официальное признание.
Какое же в таком случае основание я имею для того, чтобы интерпретировать марксизм как важное интеллектуальное воздействие на советскую науку? Моя интерпретация в первую очередь основана на прочтении огромного количества советских работ по философии и естествознанию, написанных во времена существования отличающихся друг от друга политических ситуаций. В предыдущих главах я попытался охарактеризовать эти работы. Я считаю, что если взять не одного автора, а все работы вышеупомянутых ученых, то можно с полным основанием отметить, что интерпретация науки и даже в нескольких случаях сами их научные исследования обладают характерными чертами, которые, и это можно с убеждением отстаивать, в какой-то степени проистекают из диалектического материализма. Более того, не существует прямой связи между политическим давлением и временем обращения советских ученых к диалектическому материализму. Многие советские естествоиспытатели и сегодня пишут о диалектическом материализме, а многие другие не пишут о нем вообще.
В Советском Союзе естествоиспытатель может полностью игнорировать диалектический материализм в своих работах, и, исходя из этого, мы должны более серьезно относиться к тем ученым, которые продолжают уделять ему внимание.
В окончательном анализе следует отметить, что проблема причинной обусловленности в изучении естествознания и советского марксизма существенно не отличается от подобных исследований в других областях концептуальной истории, проводящихся в других странах. Философия и политика воздействуют на ученых во всех странах.
Происхождение идей — это очень сложный для изучения процесс, но попытки такого изучения оправданы. Более того, диалектический материализм среди всех течений в современной философии заслуживает особого внимания историков и философов науки по причине его наиболее тесного взаимодействия с наукой.
Развитой материализм, открытый для критики и обсуждения, в котором диалектический материализм мог бы в какой-то момент обрести истинную форму, является философской точкой зрения, которая может быть полезна естествоиспытателям. Эта форма материализма наиболее важна для естествоиспытателя, когда его исследование приближается к наиболее удаленной границе знания, области, в которой умозрительные заключения играют в высшей степени важную роль — подход к космическому, бесконечности, возникновению жизни или сущности форм бытия. С другой стороны, она наименее важна и легко может привести к пагубным результатам, будучи примененной в утилитарном, сиюминутном исследовании.
Диалектический материализм не может помочь ученому в лабораторной работе. Он никогда не предскажет результаты отдельного эксперимента. Он, естественно, никогда не предскажет пути получения урожая или лечения душевнобольных. Но он может удержать ученого от преклонения перед мистицизмом в лице ошеломляющей тайны и страха неизвестного. Посредством своего антиредукционизма он может напомнить ему, насколько противоречиво и сложно объяснение природы и как опасно сводить сложные явления одного уровня к комбинациям простых механизмов более низкого уровня. Он может напомнить ученому, что появление неожиданной аномалии в эксперименте не является причиной отказа от реалистической эпистемологии или от веры в существование хотя бы некоторых природных закономерностей, как вероятностных, так и строго детерминистских. Посредством своего положения о том, что в природе все взаимосвязано, он может напомнить ему о важности экологического подхода к биосфере и о значении исторического взгляда для понимания развития материи. Он может подтолкнуть ученого к созданию временных схем объяснения, выходящих за рамки одной науки, но не претендующих на знание окончательных ответов. В то же время он может также убедить его в том, что сохранение веры в эпистемологический реализм и природный порядок, без всякого сомнения, не является отказом от хитрости или мистерии в природе. Нет ничего более непостижимого, чем изобретательность человека и оригинальность его творений, чем красота природы, частью которой человек является. Утонченный материализм может обсуждать такие положения так же хорошо, как и утонченный идеализм, причем начиная с допущений, более созвучных натуралистическому содержанию почти всей науки.
Текст взят с сайта Библиотека РГИУ